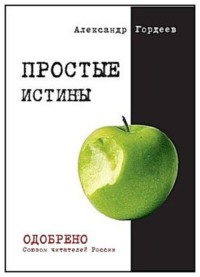полная версия
полная версияМолодой Бояркин
дороге.
– Ну, в общем, мне в Елкино все равно надо съездить…
– Свози его, Алексей, – попросила мать.
– Так ведь на ферме-то… – заговорил было отец.
– Да я и на автобусе съезжу, – сказал Николай.
– Ну, знаешь ли! – вдруг возмутился отец. – Зачем же я тогда покупал эту коробушку.
Свожу. К обеду подойду, и поедем.
После завтрака Бояркин надел гражданские брюки, приготовленные еще на службе, и
рубашку с короткими рукавами, купленную матерью. Ему понравилась легкость новой
одежды, но, взглянув в зеркало, он обнаружил, что в гражданском выглядит непривычно и
даже как бы нелепо. Солидные старшинские усы не подходили к светлой рубашке с
легкомысленным узором. Николай решил уменьшить усы, стал ровнять и ровнял их до тех
пор, пока не испортил и не сбрил совсем.
– Вот теперь другое дело, – с улыбкой одобрила мать.
– Я по улице пройдусь, – сказал Николай, – на ваше Ковыльное посмотрю. В магазин
загляну.
– А что же форму снял?
– Меня все равно здесь никто не знает… Кому интересно.
Мать грустно покачала головой и промолчала.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Когда после обеда поехали в Елкино, Николай переоделся. Анютка тоже увязалась с
ними и прямо-таки взмолилась, чтобы брат был в форме, хотя на этот раз его не надо было
уговаривать. Отец купил себе на дорогу бутылку водки. Распечатал ее на пароме через Онон,
чтобы заодно угостить паромщика – старика с серебристой щетиной на коричневом лице.
Старик обрадовался угощению, и пока паром шел по воде, они с отцом о чем-то говорили и
смеялись, зажевывая выпитое кусочками черствого хлеба. Николай стоял, навалившись на
перила, и смотрел на чистую и, должно быть, теплую ласковую воду, на берега с бахромой
свисающего тальника. "В каком все-таки прекрасном мире мы живем", – подумал он.
Сразу от парома машина круто пошла вверх, а потом более полого вниз – дорога здесь
была ровнее, чем на той стороне Онона, но с крутыми поворотами, спусками и подъемами.
Река очень резко отделяла степные холмы от больших, кое-где довольно круто и высоко
вздымающихся гор. Николай повеселел – в этих, пока еще незнакомых видах начало
угадываться что-то Елкинское. Вопреки планам, к дому он подъезжал с противоположной
стороны от райцентра, но к дому хороша любая дорога, и чем ближе становилось село, тем
больше волновался Бояркин. В волнении не было, однако, нетерпения; радостно было видеть
и знакомые окрестности села. Когда до Елкино оставалось километра три, дорога пошла под
высокой, почти вертикальной скалой, и Николай пригнулся, чтобы увидеть из машины
стремительных стрижей, гнездящихся здесь. 0днажды он взбирался на самую ее вершину.
Кустики внизу казались оттуда маленькими, стрижи носились под ногами, и сердце каменело
от мысли, что можно сорваться. Снизу же скала, особенно когда над ней плыли облака,
казалась падающей. К этому мосту с другой стороны дороги подходила крутым изгибом
чистая и холодная речка Талангуй. Здесь была ее главная темная глубина, в которой ловили
тайменей, и купались, но без визга и без смеха. Однажды в этой яме утонул запряженный в
телегу конь, которого объезжал конюх Золотухин. Тогда поговаривали, будто и сам конюх
едва не утонул, но это скорее для того, чтобы ему посочувствовали и не заставили платить за
лошадь.
А на скалу Николай взбирался за травой с очень интересными фигурными листьями,
со стебельками, похожими на блестящие изолированные проволочки, и с красивым
названием – царские кудри. Он выковыривал ее из расщелин старым штыком, а, высушив,
отдавал потом Сорочихе – старухе из райцентра, торговавшей на базаре лекарственными
травами. Пожалуй, еще ни разу с самого детства Николай не вспоминал Сорочиху – она
словно выпала из памяти, а тут явилась, как нарисованная, – сухая, с большим носом, с
тонкими негнущимися в коленках ногами. Как-то зимой приехала она продавать серу и по
дороге простыла. Сели они с матерью чай пить. Николай играл в другой комнате и вдруг
слышит: на кухне птичка свистит. Он бегом туда: покажите птичку. А Сорочиха говорит:
"Птичка в другую комнату улетела". Николай тогда все углы осмотрел, бегая из большой
комнаты в кухню, из кухни в спальню, а свистящей птички все не видит. Сорочиха, наконец,
не вытерпела, засмеялась, и тут-то ее простуженный нос запел на все лады с переливами.
А из-за Сорочихи в памяти также ясно поднялся ее муж – дед Давид. Собственно,
Сорочиху потому и звали Сорочихой, что дед был Сорокиным. Он строил у них гараж для
мотоцикла (это воспоминание было еще более ранним). Дед Давид был громадный, с
длинными руками, с редкими волосами, с отрубленным большим пальцем на левой руке. Он
воевал на трех войнах. Вечерами он брал Николая на взрослое кино и держал на коленях. Как
же это могло забыться!
А еще однажды наступил он на гвоздь, торчащий из доски. Гвоздь проткнул подошву
сандалии и глубоко вошел в ступню. Николай тогда даже удивился этому факту – сам он
гвоздей не боялся, его сандалии не протыкались. Кровь у деда Давида была почти черной, и
ее долго не могли остановить. "Это потому, что я старый, и кровь старая", – объяснил он.
Мать облила его ступню йодом, которая стала от этого такой страшной, что и у Николая
заныла нога.
Бояркин вспомнил этих людей так, словно снова обрел их. И все это подсказала
знакомая скала. Машина проскочила притененное, дохнувшее холодком пространство
мгновенно, и нужно было уже смотреть на новое место, вызывающее новые воспоминания.
Дальше и скала и речка расходились. С обеих сторон дороги потянулось кукурузное поле.
Когда-то отец обрабатывал его на "Беларуси". Николай любил тогда кататься с ним, и теперь
вспомнил, что здесь в траве около поля он видел однажды гнездо перепелки. Ласковым
теплом и нежностью обдало и это маленькое воспоминание…
Первое, что бросилось в глаза, когда село выплыло из-за поворота, был новый мост,
возвышающийся над приземистыми домами по берегам. Проехав заречную сторону, так и
называющуюся Зарекой, вывернули на этот мост – широкий, железобетонный. Со старого
деревянного, стоявшего ниже по течению, ныряли, а с этого не прыгнешь, да и Шунда внизу
показалась узенькой и мелкой. Мост с высокой насыпью выводил дорогу сразу на
центральную асфальтированную улицу, зеленую от развесистых черемуховых кустов в
палисадниках.
– Не торопись, – попросил Николай отца.
Начали встречаться люди, многих из которых Бояркин не вспомнил ни разу за все
четыре года, но которых оказывается, хорошо знал. Он ехал, смотрел на знакомые дома,
заборы и с огорчением ловил себя на том, что сама родина волнует его все-таки меньше, чем
волновали воспоминания о ней. В реальности все было более детальным, угловатым…
Однако это несоответствие рождало другое чудо – действительное накладывалось на
воображаемое, каждый предмет был и таким, каким помнился, и таким, каков сейчас.
Одновременно и большим, как через детский взгляд, и нормальным, как через взрослый.
Приближался уже и свой дом. Впереди ехала телега на мягких резиновых шинах.
Лошадь держала голову вбок, словно прислушиваясь к перещелку собственных подков.
Человек на телеге сидел прямо, осанисто.
– Да ведь это же дядя Вася Коренев! Он что, снова конюшит? – сказал Николай,
удивляясь неожиданно вывернувшемуся словечку "конюшит".
– Опять при конях, – ответил отец, – тут теперь большой табун-то.
– А Гриня где?
– С ними и живет. После техникума женился. Теперь уж ребенок есть. Гриня твой
работает главным ветврачом…
И тут Николай увидел свой дом. Он каким был, таким и остался, только до самой
крыши осел в разросшуюся черемуховую зелень.
– Остановись, – попросил Николай. – Вон там, около дяди Васи.
Василий, соскочив с телеги около своего дома, уже привязывал повод к штакетнику.
Алексей бесшумно подкатил и засигналил. Василий оглянулся, склонившись, посмотрел, кто
сидит в низком салоне "Жигулей", и шутливо погрозил кулаком.
– Здорово, соседи, – сказал он, улыбаясь вылезающим из машины. – Давненько вас не
видно. Что, Колька, отслужил или на побывку?
– Все, отслужил, дядя Вася, – откликнулся Николай, чувствуя, как его тянет
посмотреть через дорогу на свой дом.
– Ну, так давайте заходите, – пригласил Василий. – И ночевать тоже к нам. Теперь
родни-то у вас тут нет. Посидим вечерком. Я сейчас Татьяне скажу, чтобы собрала, что надо.
– А Гриня дома? – спросил Николай.
– А вон прируб-то видишь новый – это он себе городит. Вроде и сейчас там.
Отец с Анюткой поехали в магазин. Николай остался. Он с опаской обошел коня,
который, подергивая кожей, отгонял слепней, и направился в сруб на посвист рубанка. В
срубе пахло стружкой. Из пазов свисали мох, пакля… Николай остановился и стал смотреть,
как молодой хозяин тешет половицу. Гриня оказался широченным в плечах, со всеми
признаками матерой мужской силы, с рыжей, коротко подстриженной бородой, дававшей
красный отсвет на все его лицо.
Работал он не спеша – все движения были давно продуманными и привычными. Ясно,
что все делалось им надолго, может быть, на всю жизнь.
Оглянувшись и увидев Бояркина, Гриня заорал что-то неразборчивое и, сграбастав его
в охапку, оторвал от пола.
– Красавец, красавец, – говорил он, с завистью и с иронией рассматривая форму. – Ну,
так как ты? Что?
Николай сел в оконный проем, начал было рассказывать, но не выдержал и спросил о
том, кто живет сейчас в их доме.
– Уваровы, – сказал Гриня,– из переселенцев, но самостоятельные, если сами дом
купили. После вас дом уже во вторые руки переходит.
– Давай сходим к ним, а? Хочу посмотреть, а одному неловко: незнакомый же…
– Пошли… Мне-то что.
В воротцах Николай обнаружил другой шнурок – раньше был тоненький кожаный
ремешок, который, – конечно, истерся. Но щеколда отозвалась тем же мягким звуком.
Бояркин приоткрыл воротца и остановился – на дверях висел замок.
– Вот черт! – сказал Гриня. – Ну ладно, хоть так пойди посмотри. А я посижу на
лавочке. Если кто из них появится, так объясню. Да иди же, не бойся. Что они, не поймут?
Хорошо, что новые хозяева не держали собаку. Николай заглянул в баню, под стайку, в
землянку, где зимовали куры. Осмотрел дощатый забор, частокол, крыши, но почему-то боясь
к чему-либо прикасаться. Баня стояла теперь под шифером, а раньше была крыта драньем.
Доски драл еще отцов отец. Вода по таким волокнистым доскам хорошо скатывалась, и они
долго не гнили. Но теперь, видно, и дранью пришел конец. Анюткиной ранетки в садочке и
вправду не было – хозяева выбросили ее, переродившуюся в дичок, но взамен ничего не
посадили. Остальные три деревца разрослись и сомкнулись друг с другом.
Николай вышел в огород, где рядами подрастала картошка. Взгляд его пробежал
задворки соседних домов, забор, огораживающий переулок, задворки домов, повернутых в
другую улицу. Потом Николай посмотрел на небо. Оно было большим, с дымными
объемистыми облаками, такое же, как везде в этот момент, но Николай подумал, что именно
из этой точки все это огромнейшее небо, простирающееся над всей землей, – его небо. Так
было с детства.
Возвращаясь из огорода через коровий двор, он остановился, почувствовав запах
сухого навоза, пыли, старого дерева и мякины. До службы он этих запахов просто не замечал
– они были слишком привычными. Николай присел на кормушку с сенной трухой. Сквозь
частокол видны были грядки. На одной из них, огороженной доской, поднимался густой лук-
батун, что-то зеленело и на других, но нельзя было разобрать – что. Вот там-то он когда-то и
шлепал в дождь босиком. Все там и сейчас росло так же тихо, незаметно, как тихо и
незаметно шло само время.
Сквозь голландку припекало солнце, и Николай повел плечами, на которых были
погончики с желтыми лычками и с зеленой окантовкой. Потом поднялся, вышел за ограду и
опустился на лавочку рядом с Гриней.
– Долго я?
– А, ничего…– ответил Гриня, отвлекаясь от своих раздумий.
– Отцы-то, кажется, гульнуть собрались. Ты бы пригласил этих… Как ты сказал?
Уваровых?
– А зачем?
– Да просто интересно… Ну, ладно – надо еще бабушкин дом посмотреть.
– А на что там смотреть? Ломают его. Председатель колхоза на том месте планирует
себе новый дом строить.
– Да? Но я все-таки схожу.
Бабушкин дом стоял без пола и без крыши, с большими оконными проемами. Теперь
он казался окончательно выстывшим, хотя солнечный свет в этих необычно высоких стенах
казался очень ярким. Стояла тишина. Новенький Гринин сруб желтел свежим деревом, а
здесь солнце, отражаясь от беленых с синькой, облупленных стен, от серой сухой земли с
голубиным пометом, ссыпавшейся с потолка, давало голубоватый холодный оттенок.
Большая русская печь стояла, как гусыня с вытянутой шеей. Оба подполья превратились
теперь в обыкновенные пыльные ямы, а были когда-то тайной, особенно подполье под
большой комнатой, куда картошку не засыпали. Там хранились еще дедовы плоские
жестяные коробочки для фотопластинок. Бабушка Степанида их не давала, не то по
привычке, не то берегла зачем-то…
Черемуха, что росла у крыльца и под которой бабушке все хотелось почему-то
сфотографироваться, была сломана, наверное, какой-нибудь балкой, брошенной сверху. Зато
палисадник с дичками и большой ранеткой зеленел, как ни в чем не бывало. Целы, под
замками на дверях, остались амбар и завозня, которые могли пригодиться и новому хозяину.
"Как же все это случилось? Как? – думал Бояркин, стоя посреди двора, густо проплетенного
стелющейся травой. – Почему же все у нас рушится?"
* * *
Для Степаниды последний год (уже без Марии с Алексеем и Анютки) показался очень
трудным. Дочь и зять приезжали, правда, помочь управиться с дровами, с побелкой, с
огородом, однако без повседневных житейских связей с родными старуха вошла в тягостное
одиночество, которое дети лишь скрашивали приездами, но не могли устранить. Зима,
которую нужно было просто перетерпеть, ничего не делая, показалась особенно тягостной.
Для экономии дров Степанида закрыла одну половину дома, а в половине с русской печью
поставила вдобавок железную печку. Зимой она пристрастилась читать "Роман-газеты",
оставленные Марией. Читала, тихо нашептывая и останавливаясь, если что-нибудь
напоминало свое. Особенно понравилось ей читать про большие дружные семьи, которые
вызывали свои воспоминания. Бывало, что и смеялась в своем пустом доме, бывало, и
плакала.
С тех пор, как дети стали разъезжаться, в колхозе многое переменилось. После
Артемия было много других бухгалтеров, много было и председателей колхоза. У последнего
председателя оказалась нужда в квартире, и он облюбовал удобное место у конторы со
старым домом и с одинокой старухой. Он погостил у нее, попил чаю, поболтал даже о том, о
сем и, наконец, высказал напрямик:
– Зачем вам, Степанида Александровна, такой домина? Дети у вас самостоятельные…
Пусть о вас побеспокоятся… Продайте дом колхозу.
Дети давно приглашали Степаниду. Она не хотела обременять собой их хорошую
жизнь, но совет чужого грамотного человека, председателя колхоза, заставил призадуматься.
Внук Колька, еще учась в десятом классе, сфотографировал ее под белой, как в пене,
черемухой. И карточки были всем разосланы. Теперь уж внук дослуживает трехлетнюю
службу, а она все живет да и живет. Так, может быть, правда, пристроиться поближе к кому-
нибудь из детей? И, главное, покупатель-то готов и дешево, должно быть, не заплатит.
В прошлое лето Степанида часто сидела на крыльце и думала об этом. От
заброшенной стайки наносило прелой многолетней соломой. Черемушный куст, зонтом
развернувшийся над крышей сеней, шелестел листьями, а если был ветер посильнее, то
шуршал, скребся ветками по доскам. Жалко было дом… Он был старый, но, рассчитанный на
долгую жизнь, оставался сухим и крепким. По крепости ему не уступал и амбар под
шифером, настолько плотный, что даже в яркий день туда лучик не проникал. Рядом с ним
была завозня с погребом, где все лето держался лед. Была еще летняя печка под навесом и
баня с каменкой, топившаяся по-черному. Ближе к огороду – стайка для коровы, загородка
для свиней. За стайкой начинался большой огород для картошки и подсолнухов, а около бани
– грядки с капустой, помидорами, горохом, луком, морковью и маком для стряпни, с усатым
хмелем на высоких жердях.
Все хозяйство было когда-то уверенно настроено на полнокровную, долгую жизнь.
Теперь Степанида специально ходила и все рассматривала. Чаще всего останавливалась
около потрескавшихся венцов дома. "Как продавать дом, если эти умело подогнанные бревна,
все еще хранили следы топора Артемия? Но кому теперь все это надо? – думала Степанида.–
Кто еще это помнит, кроме меня…" Пережила она в Елкино еще одну зиму, а весной, уже
перед самой демобилизацией внука, продала дом, получила деньги в колхозной кассе и с
хозяйственной сумкой тяжело пошла на автобусную остановку, чтобы уехать к Георгию на
Байкал.
* * *
Вечером собрались у Кореневых. Пришел сосед Уваров и, протянув черную от мазута
руку – он работал трактористом, представился:
– Николай.
– Значит, мы с тобой тезки, – сказал Бояркин, знакомясь с ним и видя, что Уваров
ненамного старше его.
Уваров был с пышными, округляющими лицо, бакенбардами, на какие коренные
елкинские жители почему-то редко отваживаются. Держался по-свойски.
– Вы уж нас извините, – сказала Татьяна, хозяйка с крупными, "сельскими"
морщинами, – сейчас и угощать-то особенно нечем. Как обычно летом.
– А мы с Колькой вчера овцу зарезали. У нас в совхозе с этим делом проще, – сообщил
Алексей, уже достаточно пьяненький. – Как ты, Колька, про овцу-то сказал? Так сказал, что я
и сам-то ее чуть не бросил – до того жалко стало.
– Что? Что он сказал? – спросил Уваров.
Алексей пересказал разговор с сыном. Переселенец засмеялся, повернулся к Николаю.
– Ну, ты даешь, тезка… Ты запомни то, что бараны и остальные животины существуют
для того, чтобы мы их ели, – подняв палец, заявил он. – Я где-то читал, что люди потому и
выжили, что ели мясо.
– Но и без жалости бы не выжили, – сказал Бояркин. – Они или съели бы друг друга,
или просто не стали бы людьми.
Уваров замолчал, пытаясь переварить сказанное. Гриня с одобрением взглянув на
Николая, придвинулся ближе.
– Ты теперь снова в город? – спросил он.
– Так учиться же надо.
– А вернешься?
– Не знаю…
– Пра-авильно…– едко и сразу отчужденно произнес Гриня, – не возвращайся… А
вместо тебя еще один тезка, еще один вот такой хищник приедет. И куда вы все бежите? Если
уж вам нравятся городские удобства и условия, так давайте создавать это здесь – дома. Да как
вы не поймете, что в стороне-то жить – это все равно, что в радуге половину цветов видеть…
Помнишь радугу-то, когда на конях ездили?
– Помню, хотя мне и не до радуги было.
Гриня засмеялся. Они принялись вспоминать о детстве. К их разговору
прислушивались, и тема, которую они тронули вначале, в разных местах преломилась по-
своему.
– А я вон у сестры-то в городе была, так что у нее за жизнь, – вспомнила Татьяна,
Гринина мать, – как явится с работы, так переодевается и ходит в тапочках на босу ногу. И до
работы на улицу уже нос не кажет. Я у нее на шестом этаже, как на седале, сутки просидела,
так потом на улицу-то вроде как из больницы вышла. К чему такая жизнь?
С Татьяной все охотно согласились.
– Нет, Алексей, ты прямо скажи – почему из Елкино-то уехал? – допытывался в это
время Василий Коренев у Бояркина-старшего.
– Ты же знаешь, какой здесь дом, – шепотом ответил Алексей. Он же совсем старый. А
там я получил хорошую квартиру. Да и для хозяйства там простор.
– А машину-то ты на деньги от дома купил?
– Да у меня и так хватало.
Уварову тоже хотелось говорить, и он взялся спорить с Гриней.
Анютка сидела на другом конце стола и разговаривала с Ириной – Грининой женой.
Николай поймал взгляд сестры и кивнул на дверь. Он вышел первым, прихватив с вешалки
бескозырку, и, поджидая Анютку, смотрел на светящиеся окна своего бывшего дома, где
осталась жена Уварова.
– Давай-ка сходим в клуб, – предложил Николай сестре. – Посмотрим на молодежь –
там теперь, наверное, одна мелюзга осталась. Вроде тебя…
– Не задавайся, – с достоинством ответила Анютка, пристраиваясь сбоку. – Мама
говорила, что ты вообще женишься на какой-нибудь моей однокласснице.
– Кто знает, кто знает, – сказал Николай и засмеялся, согретый такими
предположениями матери.
Вечер был теплый и темный, но Николай узнавал дома и по светящимся окнам. И клуб
ему показался вдруг таким родным и привычным, что, кажется, даже сами ноги узнали его
ступеньки, освещенные все тем же неярким фонарем.
На крыльце толкались выпускники этого года и некоторые из окончивших школу в
прошлому году. Бояркин помнил их пацанами, но теперь это были взрослые люди с усами, с
басовитыми голосами и, возможно, с серьезными планами в голове. Здоровались они
основательно, за руку, и, наверное, удивлялись, что тогдашний старшеклассник теперь уже не
такой большой, каким помнился. В их окружении Николай вовсе не чувствовал себя каким-то
героем; вся гордость убивалась мыслью, что он теперь здесь как бы не совсем дома.
Повзрослели и девчонки, сверстницы этих ребят, Анюткины подруги. С Анюткой все
девчонки чуть ли не с визгом переобнимались и затараторили о своем, но, судя по скрытным
взглядам, выведывали о брате.
В клубе Бояркин понаблюдал за знакомыми, кое с кем перекинулся словом, а когда
началось кино, вместе с Анюткой вернулся к Кореневым.
Отец с Василием дружно храпели в большой комнате на полу, Татьяна убирала посуду.
Анютка стала помогать. Николай присел сбоку, и они разговорились, помянув многие
елкинские новости.
Оказывается, на вечеринке не обошлось без происшествий. Гриня спорил с Уваровым
до тех пор, пока тот не бросился на него с вилкой. Гриня ударил его кулаком, расквасив нос и
губы. Потом вышвырнул гостя за ворота и ушел спать в амбар.
Николая тоже отправили в амбар. Там пахло, овчинами, конской упряжью и
пшеничной пылью. Гриня спал, широко разбросавшись. Бояркин столкал его, тяжелого,
вялого, на одну сторону и лег рядом. Но заснуть не мог. Выпил он сегодня чуть-чуть и хмель
от сладкого вина ощущал слабо. Сами собой перед глазами мелькали яркие, но
перепутавшиеся впечатления последних дней: седина родительских голов, новый елкинский
мост, голубоватая земля в бабушкином доме, сломленная черемуха… Глубокая
растревоженность охватила Бояркина. "А в чем все-таки смысл жизни? – неожиданно
подумал он и удивился: – Как это "все-таки"? Ведь столько уже мучительно думал об этом,
ведь, кажется, уже все решил. Решил, но все осталось нерешенным: этот вопрос, как камень
на берегу, – прокатилась через него волна, а он остался как был. (Слижут ли его волны всей
большой жизни?)
Теперь в этой новой жизни смысла не существовало до такой степени, что Бояркин
чувствовал в себе готовность даже умереть легко и без всякого сожаления… Хотя нет,
наверное, не умереть, а как бы умереть, но потом все-таки остаться и разобраться во всем; и
это правильно – в сильном человеке даже самое холодное отчаяние должно раздувать пламя
жизни. Сердце Николая колотилось и с отчаянием, и с грустью, и с нежностью. "Зачем же я
живу"? – думал он, не понимая чего больше в этом вопросе – боли или радости. Если моего
отца нет на работе, то его там не хватает. Знать бы, где именно на этом белом свете не хватает
меня".
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Утром все Кореневы, кроме Ирины с ребенком, разошлись на работу. Ирина поила
гостей чаем.
– Ну, все, сегодня поедем домой, – сказал Алексей и взглянул на сына. – Ты, наверное,
еще на кладбище пойдешь?
Николай на мгновение удивился, но тут же все выправил.
– Конечно, конечно, надо сходить, – сказал он.