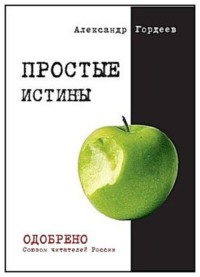полная версия
полная версияМолодой Бояркин
рассеянный красноватый отсвет. Над головой в недосягаемой высоте едва виднелись редкие
облака. На ярком горизонте они висели, казалось, над самой землей, хотя и там, конечно, не,
парили недосягаемо. Николай поозирался кругом, не понимая, откуда появится сегодня луна.
"Люди не осознают, что каждую минуту наблюдают космические события, – подумал он, –
вот сейчас наша планета Земля поворачивается относительно звезды Солнца. И этот поворот
мы называем закатом, а для кого-то он сейчас же называется восходом или полуднем. День
или ночь у нас на самом-то деле не наступают. Просто Земля вращается и то выносит нас в
постоянный вселенский день, то заботливо прикрывает нас собой от него, чтобы мы
отдохнули. Как все это обширно! А дальше во Вселенной! Что там творится! Для того чтобы
это вообразить, надо иметь принципиально иное воображение…"
Когда-то Бояркин просто содрогался от "больших" слов. Произнося слова
"бесконечность", он представлял пустое пространство, по которому, ни на что не натыкаясь,
летел его взор, или представлял бесконечность как самое большое число – сколько ни
подставь к единице нулей, их все еще можно будет ставить. "Уж так все устроено, что вокруг
нас сплошные "незаконченности": время, пространство, человеческие индивидуальности", –
снова, но теперь уже совсем спокойно пришла ему в голову прежняя мысль.
"Человеку нужно иметь мировоззрение на уровне таких понятий, как "Земля",
"человек", "природа", "Вселенная". Именно теперь каждому отдельному человеку нужно
осознать себя человечеством. Причем человечеством бесконечным. И с высоты этого
мировоззрения взглянуть на все наши проблемы и беспорядки. Да чего там рассусоливать. Да
этого рабочего, начальника, директора завода или министра надо, как напакостившего кота,
привести и ткнуть носом туда, куда он напакостил. Напакостил – убери. Хоть языком слижи!
Потому что не только тебе это принадлежит Человечеству!
Что же, если человечество бесконечно, – думал Николай, шагая по дороге, с
необыкновенной легкостью уйдя в свои постоянные размышления. – Если оно бесконечно,
то, значит, никакого другого человечества до нас не существовало. Ведь если бы
существовало какое-то человечество еще, то оно бы просто занимало наше место. Выходит,
что мы появились впервые в результате той вечности, которая за нами… Нет, ну это надо
понять – появиться впервые в результате вечного совершенствования материи! Это трудно
вообразить. А существуют ли в этом случае где-нибудь другие цивилизации? Наверное,
существуют. Но Вселенная так безмерна, что при вечном существовании цивилизаций и при
их стремительном вечном освоении пространства они между собой никогда не встретятся. А,
в общем, кто знает…
Если же других цивилизаций до нас не существовало, то это позволяет критически
взглянуть на теории открытой и закрытой Вселенной. А что если возможна еще и третья
теория? Теория, в которой главной движущей силой являются не слепые силы природы, а
колоссально развившийся человеческий разум. Ведь разум – это не что иное, как высшее
достижение развития материи. Так если оно высшее, то почему же оно не может быть и
всемогущим? Конечно, пока что это кажется абсурдом – разве можно остановить или
заставить потечь вспять реку, которая тебя несет? Но, наверное, это только пока. Пусть до нас
Вселенная была открытой или закрытой, а с нами она будет какой-то другой".
Совершенно неосознанно, особенно покончив со своими выпивками, Николай начал с
большим интересом вникать во все окружающее, и этот интерес подталкивался ощущением,
будто все, абсолютно все ему когда-нибудь может пригодиться, что отбрасывать ничего
нельзя, никакие концы обрубать недопустимо. Сегодня он вышел из общежития для того,
чтобы выполнить своеобразный символический обряд прощания с Дуней, обойдя все места,
где они бывали вечерами. И все это было нужно как раз для того, чтобы, даже оставив Дуню,
как можно крепче закрепить ее в себе.
Шаги гулко отдавались по дороге. Николай, догадавшись, что идет к стогу, подумал: а
почему бы и Дуне не прийти за огород. Или почему бы ей ни почувствовать, что он ждет ее.
Сейчас, когда в погоде смутно тревожили какие-то, пока еще не видимые изменения, такое
чудо было вполне уместно. От этих мыслей ноги сами собой пошли быстрее.
Луна показалась не из-за горизонта, как можно было ожидать, а из-за одной
неприметной тучки на небе. Приближаясь к знакомому месту, Николай стал напряженно
всматриваться, принимая за человеческий силуэт то столб, наваленный на жердевую
загородку, то напоминающий шелковое платье Дуни серебристый отсвет луны на сене.
Бояркин прошелся взад, вперед, распинывая слежавшееся сено, которое дохнуло прелой
пылью, и решил подождать десять минут. Минуты показались очень долгими. Николай
осмотрелся – все тут оставалось так же, как всегда.
Луна в эту ночь, словно удвинутая кем-то далеко вверх, была необыкновенно высокой
и маленькой, как горошина. И земля, раскинувшаяся под увеличенным куполом неба,
казалась беспомощно-тихой и мучительно-пустой.
Желтая горошина висела над кроной дерева – в это время Николай и Дуня обычно уже
сидели под стогом. Сегодня комары ели беспощадно. Они гудели у лица, забивая нос и глаза,
как бывает перед дождем, хотя небо было почти чистым. Бояркин комаров не бил, а сдувал
или смахивал, заботясь лишь о том, чтобы они не жгли. Так простоял он с полчаса, потом
обругал себя за глупую надежду и стал выбираться на дорогу, чувствуя, что комариное
облако начало отставать. Уже на дороге он оглянулся, пытаясь запомнить силуэты стога,
заборов, домов, словно наклеенные на темно-синий фон. Уже потом, подходя к переулку,
Бояркин с недоумением взглянул на небо, потому что стало совсем темно, а ведь только что
маленькая, но яркая луна позволяла видеть даже циферблат часов. И вдруг луна пропала – ее
поглотили неизвестно откуда взявшиеся тучи. Неизвестно, что там происходило вверху, как
боролась янтарная луна с наплывающими темными тучами, но на лицо упали холодные и,
должно быть, такие же чистые, как лунный свет, капли. Они были тихие и напомнили ночные
слезы жены. Теперь, в тишине и одиночестве, Бояркина просто передернуло от жалости к
ней. Втянув голову в плечи, он по переулку вышел в улицу. Издали отыскал желтое окно
Осокиных. Видимо, Дуня учила билеты. Он пошел туда и сел на лавочку с другой стороны
улицы. Скоро окно погасло, но Николай продолжал сидеть. "Вот уж, казалось бы, чего проще
– встать и уйти, – подумал он. – А я сижу, как прилип. Невозможно отказаться любить, когда
любится. Когда любишь, то все силы души направлены на то, чтобы любить еще сильнее.
Это очень правильная закономерность, да только опять же не для меня. Все-то у меня не так.
Так люблю я ее все-таки или нет?"
По высоким тополям, под которыми он сидел, неожиданно пронесся бешеный порыв
ветра. Где-то на крыше загремел железный лист, и Николаю вдруг вспомнилось, как стоял он
однажды в роддомовском дворе. Сильным ветром уносило вверх бумажки и поднимало
листы картона… Оказывается, он хорошо помнил даже мельчайшие детали. Но тогда Коляшка
был еще абстрактным ребенком, еще без имени, без чуть кривоватых, ковыляющих ножек,
без сердечка, колотящегося в тесной клеточке тела, без головы-одуванчика. Теперь же, когда
Николай понимал, что такое сын, эта прошлая картина воспринялась глубже.
"Чего это я здесь сижу?" – спросил себя Николай. Он поднялся и зашагал не
оглядываясь. Непреодолимое желание увидеть Дуню, которое было только что у стога,
показалось теперь даже удивительным.
Николай пришел в общежитие и лег. Он долго прислушивался к тому, как ветер
распарывает себя на бревенчатых углах дома, как колотит по крыше, словно перекатывая там
какие-то громадные брусья. Потом в комнате зашипели часы, и прокуковала кукушка. "Ах ты,
механическая душа", – подумал про нее Бояркин, уже забывая обо всем на свете.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ
Работа на кормоцехе оживлялась. В полную силу заработали монтажники и электрики.
Высокие бетонные своды весь день освещались яркими вспышками электросварки,
наполнялись шипением газовых горелок, гудением, скрежетом передвигаемого оборудования.
Простоев из-за нехватки материалов не стало, и все работали увлеченно.
Эти замечательные изменения начались с того, что генеральному директору
объединения Котельникову напомнили в обкоме, что строящийся кормоцех, срок сдачи
которого уже не за горами, имеет важное значение не только для предприятий, которым он
имеет честь руководить, но и для всей области. Область нуждается в мясе, для мяса нужен
комбикорм, а для производства комбикорма нужен кормоцех. Котельников морщился, слушая
эти банальные и, как он догадывался, намеренно банальные положения, которых он якобы не
понимает, но и сообщить ничего конкретного о делах в Плетневке не мог, потому что на него
в этом году "навесили" в разных районах области сразу пять подобных объектов. Ими
занимался заместитель, под контролем которого находился трест, конечно же, управляемый
начальником треста – тоже ответственным лицом. Но в обкоме спросили не с заместителя, не
с начальника треста, а с генерального директора. Сразу после вызова в обком разгоряченный
Котельников махнул на все свои неотложные дела и поехал в Плетневку сам.
Появление на объекте черной "Волги", из которой вылез высокий, как Петр I,
генеральный директор, никого не переполошило. Худо ли, хорошо ли, но бригада работала, и
уже поэтому чувствовала себя неуязвимо. Котельникова встретил Игорь Тарасович и провел
по объекту, высказав все, что накопилось. Проработав всю жизнь в управлении, он больше
робел перед рабочими, чем перед начальством. Через пятнадцать минут Котельников понял,
что в обкоме с ним говорили не грубо, как показалось вначале, а даже ласково и что, во
избежание куда более крупных неприятностей, нужно срочно переводить объект в разряд
первоочередных. Необходимо: 1. Обеспечение строительными материалами взять под
личный контроль. 2. Распорядиться, чтобы всем строителям и командированным с
нефтекомбината продлили сроки командировок до окончания строительства. 3.
Распорядиться о прекращении ненужных поездок в город, попытаться организовать привоз
части заработной платы (аванса) прямо на место. 4. Укрепить руководство на объекте.
Прораба Пингина от должности отстранить.
Вот после этого-то визита и началось оживление. В день приезда Котельникова на
объекте не было кирпича, но уже на следующий день вместо обычных красных кирпичей
подвезли машину огнеупорных, и пока Пингин раздумывал, что с ними делать, легковая
машина управления треста привезла для укрепления руководства начальника СРСУ Виктора
Николаевича Хромова, который, не колеблясь, приказал вложить эти кирпичи в стену. Игорь
Тарасович оторопел. Его попросту сразило то, что не по назначению были использованы
дорогие кирпичи, а еще больше то, что из-за большей ширины этих кирпичей из стены выпер
ступенчатый карниз, не предусмотренный никаким проектом.
Командированные с нефтекомбината впервые видели Хромова, которого боялись все
строители треста. Он был маленьким, как обрубок, поэтому носил остроносые туфли на
высоком каблуке и узкие брюки со стрелками. Сами строители привыкли, что он всегда
руководил из кабинета, в котором они бывали только "на ковре", и теперь приглядывались,
каков начальник "на самом деле". Хромову тоже было предписано не выезжать из Плетневки
до самого пуска объекта, и распоряжаться он взялся решительно и властно. В первый же день
его приезда все безропотно работали дольше положенного, сильно устали и после работы
поехали искупаться в Длинное озеро. В общежитие ушел лишь Игорь Тарасович. Хромов
поехал вместе со всеми, но в кабине. И когда на озере он стянул свои брючки, то под ними
оказались вполне человеческие широкие черные сатиновые трусы и белые, как молоко, ноги.
К, тому же, плавал он только "по-собачьи" и боялся глубины. Всем стало ясно, что он не
супермен и что с ним можно сработаться.
Игорь Тарасович пока еще не знал о том, что он работает в Плетневке последние дни.
Он снял, наконец, свою солдатскую телогрейку и на некоторое время активизировался,
разъясняя начальнику по чертежам детали, которых тот мог не знать. Но ни этого темпа, ни
постоянных, более выгодных, но грубых отступлений от проекта, Пингин не выдержал – в
его организме ослабли какие-то нити, он стал ходить тяжело и грузно и, продержавшись без
телогрейки три дня, простыл под ясным весенним солнцем.
* * *
Через две недели после поездки в город Бояркин получил еще одну телеграмму
"срочно выезжай". Конечно же, ничего страшного там не случилось, но надо было ехать,
иначе Наденька могла выкинуть что-нибудь интересное – например, приехать сюда с
Коляшкой со своим большим животом и пойти разбираться с той "бабой", с которой путается
ее муж.
Телеграмму Бояркин получил в обед и, вернувшись, на объект, сразу же сообщил о ней
Хромову.
– Поедешь через неделю, – сказал, как отрезал, тот. – Я сейчас не могу отпускать
рабочих. И так срываются все сроки.
– Так вы же не знаете, зачем мне нужно, – удивленно сказал Николай.
– Я сказал, поедешь через неделю!
Бояркину и самому не хотелось уезжать, но безразличие Хромова взбесило его.
– Да пошел ты к черту! – жестко сказал он, сузив глаза, и швырнул на доски верхонки,
которые, высохнув за обед, пыхнули облачком пыли от цементного раствора. – Если ты так
рассуждаешь, то я бросаю работать сегодня же! Сейчас!
– Убирайся к чертовой матери!
– Чао!
– Вообще убирайся, понял?
– От такого руководителя с удовольствием.
Бояркин тут же решил, что уедет сегодня вечером. Для этого надо было лишь сбросать
в рюкзак свои шмотки и сдать книги в библиотеку. Время еще было, и Николай пошел
сначала искупаться в Длинное озеро. Немного отойдя от кормоцеха, он оглянулся и увидел
Романа Батурина, недоуменно наблюдающего за ним. Роман стоял на лесах с мастерком в
руке, по пояс возвышаясь над еще мокрой кладкой, сделанной до обеда при помощи
Бояркина. Николай ясно представил, какая будет у него сейчас работа, как она закончится
вечером и как все рабочие пойдут "по домам". Этот привычный ход событий для Николая
окончился, и в душе даже защемило. "А, к черту! – подумал Бояркин и с отчаянием махнул
рукой, словно отрубая последние нити. До Длинного озера напрямик было чуть больше двух
километров. Сначала Николай пошел быстрым шагом, потом побежал, и легко, без передыха,
покрыв все расстояние, остался доволен своей легкостью.
На песке, хорошо промытом дождями, загорали десятиклассницы. Все были с
книжками. Очень скоро девчонки уезжали в город, и загар был просто необходим. Бояркин
заволновался, надеясь, что Дуня тоже где-то здесь. Он разделся и сел на раскаленный песок.
Лето было лишь в начале, но все уже напоминало его середину. Не верилось, что такая
высокая трава могла вымахать в этом году. Правдоподобнее казалось, что всю зиму, еще с
прошлого лета, она стояла сухой, а этой весной зеленый сок земли хлынул в ее капилляры, и
трава снова стала тяжелой, колышущейся, шелковистой. Над головой мельтешили бабочки, с
сухим звоном носились мухи, на краткий момент оставляя после себя в воздухе серебристо-
звенящие росчерки. Николай любил лето больше весны, зимы и осени, вместе взятых, Свое
детство он помнил только летним. С самой весны он был стрижен наголо и все лето бегал в
сандалиях на босу ногу, так что когда разувался, то сандалии словно оставались на ногах,
нарисованные загаром. Вспомнив это, Бояркин наметил обязательно купить Коляшке
сандалии – пусть бегает.
Сначала Николай сидел прямо, а когда дыхание успокоилось, раскинув руки, лег
спиной на горячий песок. Приятно было ощущать жжение солнца на лице, какую-то, хотя бы
временную освобожденность в душе.
– Боя-аркин! – окликнули его.
Николай сразу узнал этот голос, хотя впервые, может быть из-за свидетелей, Дуня
назвала его по фамилии. Не меняя положения, он повернул голову и замер. Дуня в голубом
"малом" купальнике, стройная и красивая, стояла на другой стороне озера. Ее глаза из-под
заросшей челки смотрели дерзко, испытывающе.
"Господи, а какой женщиной-то она станет!" – с волнением подумал Бояркин.
Смутившись от его взгляда, Дуня разбежалась, сильно оттолкнулась от крутого берега
и струной, почти без всплеска, вошла в воду. Ее ловкость превратила Николая в пружину. Он
тоже разбежался и подпрыгнул, прогнувшись в воздухе так, что щелкнуло в позвоночнике,
Тело вонзилось в глубину, в холод, и, ужаснувшись недосягаемости дна, Бояркин заработал
руками и ногами, чтобы побыстрее вынырнуть.
Они долго купались. Девчонки лежали, наблюдая, как они плавают и ныряют с
разбега. Наконец, оба замерзли и сели на траву. Три дня назад Дуня узнала, что Олег уже
второй месяц в госпитале. Об этом рассказала его мать. А Дуне он продолжал писать веселые
письма. Дуня после этого стала считать его настоящим мужчиной, а себя законченной
предательницей. Она специально стала воображать, что Олегу было совсем плохо и что
после болезни ему, может быть, всю жизнь будет необходима ее помощь. Только такое
положение давало ей некоторую возможность искупить свою вину.
Николай и Дуня говорили легко, много смеялись – все уже было по-дружески. Любовь
у них так и не вышла, хотя временами ее очертания проступали очень ясно.
– Вообще-то ты мне очень помог, – созналась Дуня, желая прийти к какому-то итогу. –
Я и сейчас еще полностью не освободилась от всего, но до тебя я жила сильно сжатой.
Теперь я немножко разобралась в себе. И знаешь, я все-таки люблю Олежку, скажу даже
больше – его я любила даже тогда, когда говорила, что люблю тебя. Помнишь, я крикнула это
"люблю"? Я ведь знала, что могу все разрушить. Но что-то меня толкнуло. А теперь я
понимаю, что это – Олежка… Ты мне помог понять то, что, оказывается, я любила его так, как
будто была обязана любить, любила не свободно. Но сомнение, которое ты во мне вызвал,
помогло мне полюбить его свободно. И Олежке я написала: я стала лучше, и ты полюбишь
меня сильнее. Вот, может быть, и ты… Наверное, если ты посмотришь на свою жену
свободно, без насилия над собой, то ты ее полюбишь…
– Значит, я помог тебе тем, что заставлял сомневаться, – раздумывая и не обращая
внимания на ее последний совет, проговорил Бояркин. – Но, честное слово, это было без
умысла, я был искренним. Наверное, все мы немножко эгоисты – встретим человека и
начинаем считать, что он непременно должен тебе принадлежать, что центр его жизни
обязательно должен совпадать с твоим. Трудно мне было примириться с тем, что у тебя
совпадение не со мной. Я был уверен, что ты не можешь любить другого, не имеешь права. А
почему? Да потому, что кто-то должен был любить меня. Только и всего. И все-таки ты
оставила в моей душе светлый след. Это красиво звучит, но по-другому не скажешь. Именно
ты мне многое открыла. Теперь я и в другой женщине смогу увидеть какую-то глубину,
поэзию…
– В какой в другой? В своей жене? – обрадовано спросила Дуня.
– В жене… Не буду ничего обещать. Я попытаюсь еще раз… Но если не получится… Не
знаю, смогу ли я продолжать. Это ведь неестественно. Да и кому нужно, чтобы я всю жизнь
нес этот крест?
– Это твоим детям нужно! – вскрикнула Дуня. – Ты не должен их бросать!
– Не должен. А нужно ли это детям? Подумай-ка лучше… Сейчас у меня, кажется,
завершается какой-то этап. Я полностью завершил свой пустой, идеалистический круг. Я
перестал быть идеалистом. Редко кто сначала не бывает им. Я, например, знаю только одного
человека, который сразу с первых своих впечатлений принял мир таким, каков он есть. Это
Гриня Коренев, друг детства. А я, наверное, читал сверх меры. Книгами все-таки не надо
заменять всю жизнь. Говорят, что раньше наши ровесники были старше нас. Правильно – им
ведь некогда было блуждать по этим ложным кругам. А у нас сейчас другое время, нас
ничего особенно не поджимает, вот мы и расслабились.
С озера они пошли вместе – босиком по пыльной дороге, а потом сквозь березняк. На
втоптанной тропинке обнажались корни старых берез. Ветерка здесь не было, и листья с
матовым отблеском изнемогали от жары. Дуня была в легком летнем халатике, застегнутом
лишь на верхние пуговицы. Ей казалось странным прикрываться после купания. Кроме того,
ее тело было в одежде загара, и обнаженность не могла быть стыдной. Там, где халатик
промок от купальника, материал стал ярче, как бы вспомнив выгоревший рисунок. Но когда,
миновав тень, они вышли на солнце, яркость ее халатика исчезла.
– Жарина какая! – сказала Дуня. – Так и не вылезала бы из воды.
– Да, настоящее лето…
– В эти дни я много думала о себе. Помнишь, ты говорил, что на лице должна как-то
отражаться и внутренняя красота. Сколько я ни разглядывала себя, но ничего этого так и не
увидела.
– Ничего, это будет потом, – успокоил ее Николай. – Ты просто еще совсем маленькая.
На окраине села они остановились.
– Кстати, ты знаешь, кто тебя тогда побил? – спросила Дуня.
– Никто меня не бил…
– Это друзья Олега. И били как будто из-за меня. Так они сказали.
– Что ж, тогда все нормально. Я ведь думал, что меня просто использовали как
удобную грушу. Бить просто так – большое скотство, а уж если бьют за дело, то, значит, с
человечеством пока все нормально.
– С человечеством… – с улыбкой повторила Дуня. – Слова-то какие…
– Ну, что ж, кажется, все, – сказал Николай. – Может быть, мы еще и встретимся, но
это уж будет не то. Так что – прощай.
Николай перепрыгнул через кювет и, обходя огороды, пошел лугом. Он несколько раз
оглянулся. Уходящая Дуня была еще притягательнее, чем всегда. "О чем она сейчас думает?"
– размышлял Николай.
Собрался он быстро. Никому ничего не нужно было объяснять. Прощаться не с кем.
Только на остановке встретился с Игорем Тарасовичем.
– За цементом? – равнодушно спросил его Бояркин.
– Нет, переводят на новый объект, – ответил Пингин.
На пассажиров, выходящих из автобуса, Николай не обращал особого внимания. Но
одна женщина, по виду совсем еще девчонка, спросила у кого-то, где живут
командированные строители. С ней было двое детей. Николай догадался, что это жена
Батурина, и подсказал, у какого именно общежития ей подождать. Один мальчишка с
деревянным автоматом своей цыгановатостью походил на Романа. "Сегодня увижу своего", –
подумал Николай, растроганно улыбнувшись.
Когда автобус выехал за село, Бояркин увидел, что около кормоцеха все грузятся на
бортовую машину, собираясь ехать на озеро. Николаю хотелось взглянуть на село с самого
последнего поворота, и, оглянувшись как раз вовремя, он увидел, как Плетневка медленно
уплыла за ближайший лесочек. Отъезд из этого, теперь теплого, зеленого села тревожно
опустошал душу. Собственная жизнь показалась ему вдруг чужой и незнакомой.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Прошло два с половиной месяца. Бояркин работал на той же установке, которая
гудела, как ей было положено, выдавая свои тонны нефтепродуктов. Пожалуй, самой
большой новостью за это время было то, что начальник цеха Мостов купил зеленые
"Жигули" и начал без почтения относиться к Федоськину. Больше ничего не изменилось – в
бригаде были те же самые люди.
Теперь Бояркин все время присматривался к человеку с бородавкой на веке, но все не
мог поверить, что это и есть тот самый Петенька, как называл его Федоров. Уже в самом
конце лета он неожиданно для всех, без всяких предварительных разговоров, как обычно
бывает в таких случаях, уволился. Мостов долго уговаривал Шапкина, напоминал обо всех
его льготах, накопившихся за долгий непрерывный стаж.
– Да что вы ко мне прицепились! – вспылил, в конце концов, Шапкин, что было на
него не похоже. – Что же, я не имею права уволиться?