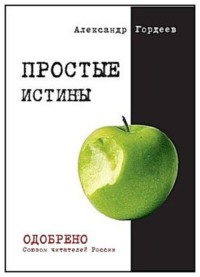полная версия
полная версияМолодой Бояркин
– Что ж, давайте хоть телеграмму, – в тон ответил Николай.
Ему и вправду подали синеватый листок, все написанное на котором он схватил с
одного взгляда. "Бояркину Николаю Алексеевичу. Срочно выезжай. Наденька", – было
написано на листке, как и полагается, без всяких знаков препинания. Николай понял все
мгновенно – Наденька вернулась домой. Она позвонила или съездила на нефтекомбинат и
поговорила с Мостовым, потом побывала в тресте – там узнала адрес точнее. Это был гром
средь ясного неба, если только не больше. Конечно, когда-нибудь должен был наступить
конец такой прекрасной жизни, но зачем, за что так скоро? Заведующая почтой ткнула
пальцем в место росписи. Бояркин автоматически черкнул чуть ли не по самому этому
пальцу и вышел на крыльцо. На крыльце он еще раз заглянул в листок, но в нем было
написано то же, что и прежде.
К памятнику, который был недалеко от почты и столовой, подходили десятиклассники:
парни в пиджаках, девушки в белых фартуках. Девчонки пели. Парни из-за пренебрежения ко
всему чувствительному чуть приотстали и, размахивая руками, болтали о чем-то
постороннем. Кое-кто причесывался на ходу.
Бояркин сразу вспомнил, что у выпускников сегодня последний звонок, и догадался,
что они шли фотографироваться к памятнику. Дуня была сегодня взволнованной и красивой.
Николай сунул телеграмму в карман. "А ведь впереди-то целое лето. Ну и жила бы, в селе,
отдыхала, – с грустью подумал он. – Так нет же, принес какой-то черт в город".
Придя на кормоцех, Бояркин показал телеграмму Пингину. Пингин крякнул от досады
и разрешил съездить завтра домой, разузнать, что там к чему.
Вечером Дуня и Николай встретились на своем месте. Николай сказал про телеграмму
и сразу почувствовал отчужденность, которой повеяло от Дуни. Видимо, Наденька никогда
еще не воспринималась ею так реально.
– Если ты ее бросишь, то тебе придется бросить и сына, – сказала Дуня.– Ой, да разве
ты, сильный, добрый человек, можешь бросить такого маленького человечка! Тут и выбора-
то нет.
– Я, знаешь ли, утешаю себя тем, что когда он вырастет и во всем разберется, то
просто по-человечески поймет, какую я совершил ошибку, женившись на его матери.
Ошибку, конечно, не для него (эта ошибка дала ему жизнь), а для меня. Или, как тут
рассудить, не знаю… Может быть, и не будет он держать на меня зла. Ведь даже одно
появление на свет уже само по себе очень большое счастье. Хотя понятно, что мой долг –
дать ему еще больше. Но думаю, что даже он простит меня легче, чем я сам. Знаешь, я сейчас
ни-че-го не пойму. Говорю, говорю, а правоты не чувствую, просто изощряюсь, чтобы
оправдать себя, а настоящего оправдания не нахожу. Ну, виноват я, да и все. И все-таки, даже
понимая свою вину, дальше я так жить и не могу, и не хочу.
– А каково будет твоей жене…
– Трудно будет нам обоим. Но чуть-чуть легче тому, с кем останется сын. А вместе
нам невыносимо. Пойми это. Невыносимо – это хуже, чем трудно. Вот он в чем, выбор-то…
– А почему она была у твоих родителей?
– Она ездила, чтобы сделать аборт.
Дуня отпрянула от него, вскочила на ноги.
– И ты сам ее послал? На убийство? Нет, ты не добрый. Ты хитрый. Ты рассказал обо
всем, кроме главного. Я где-то читала, что хорошему мужчине нравится, когда женщина
должна рожать… Ты не такой.
– Ну, все! – резко сказал Бояркин, вскакивая с сена и подхватывая куртку. – У нас
давно к этому идет. Прощай!
Он быстро зашагал от стога. "Чистенькая идеалистка, дитя, – со злостью думал он и
был доволен своей решимостью и этим хорошим, да и к тому же хорошо сказанным словом
"прощай". Скоро он вышел на дорогу, застучав каблуками по твердому. Дуня, наверняка, еще
стояла в раздумье у стога, и Бояркин, вдруг подтянувшись, пошел строевым шагом, ударяя в
темноте о землю всей ступней, как учили в морском учебном отряде.
– Соловей, соловей, пташечка! Канаре-ечка жалобно поет! – лихо, изо всей силы
заорал он.
Других слов он не знал и, повторив одно и то же три раза, со злостью плюнул,
переходя с парадного шага на походный.
* * *
В райцентре пришлось немножко подождать автобус до города. И потом, когда он
подошел, Николай сел на втором ряду со стороны входа, так что если смотреть между
передними высокими креслами, то можно было хорошо видеть дорогу. Сначала Бояркин с
полчаса вздремнул, а потом, глядя на ровную асфальтовую трассу, стал размышлять о том,
почему бы ему ни быть шофером на таком автобусе или машине и не ходить в дальние рейсы
и так же беззаботно, как водитель этого автобуса, не покуривать, выдувая дым в окно на
вольный воздух. Бояркину так понравилась эта мысль, что он не заметил, как, была
преодолена половина пути, и пассажирам предоставилась возможность сходить в туалет и
перекусить.
В буфете Бояркин заметил, что к водителю, у которого был свой отдельный столик,
подсел мужчина лет тридцати пяти со светло-рыжими усами. Он о чем-то уговаривал
водителя. Тот сначала отрицательно качал головой, потом заговорил и, видимо, согласился.
Николай уже достаточно хорошо знал дорогу, и, когда пассажиры расселись по местам, он
сразу обратил внимание, что автобус, вместо того чтобы начать выворачивать с окраины
поселка на трассу, пошел в глубь поселка. Рыжеусый стоял около водителя и подсказывал
дорогу. Наконец автобус остановился. Водитель не заглушил мотор, а, наоборот, раза два
газанул, прислушиваясь к гулу.
– Извините, что задерживаю, – тихо, так что его слышали только на первых местах,
сказал рыжеусый. – Жену с ребенком нужно забрать из больницы. Тут не врачи, а коновалы,
Четырех я уже похоронил, а пятого хоронить не хочу…
– Ну, ладно, иди, иди, – поторопил его водитель, знавший его дело подробней.
Ждать пришлось долго. Самые спокойные пассажиры стали засыпать.
– В районе задерживались, тут опять стоим. Чего он там застрял?! – минут через
пятнадцать крикнул кто-то с задних мест.
– Ничего-о, подождешь, – осадил его водитель.
Наконец рыжеусый принес очень тепло завернутого грудного ребенка. Следом
семенила его жена в простеньком застиранном платье. Автобус тут же тронулся, женщина, не
успев сесть, покачнулась назад и, запнувшись за чью-то сумку, упала в проходе, но не
вскочила, а лишь отчаянно махнула рукой, признаваясь в своей слабости. По всей видимости,
уход из больницы с больным ребенком сопровождался скандалом, на который ушли ее
последние силы, хотя спорил и требовал муж. Ее заголившиеся ноги, которых она уже не
стыдилась, были тонкие и неровные. Тонкими были и пальцы рук с болтающимся
обручальным кольцом на одном из них. Ей помогли подняться, и она сразу же забрала у мужа
ребенка. Муж уступил ей свое место на первом ряду, а сам присел на вертящееся кресло
рядом с водителем. Маленький ребенок лежал с закрытыми глазами и дышал с тоненьким
птичьим свистом. Женщина как-то странно, очень плотно прикрывала ему лицо покрывалом,
видимо, заботясь, чтобы он постоянно дышал воздухом одной температуры. Она не видела
ничего кругом, и все ее внимание было направлено только на ребенка, словно она держала
сейчас в себе все нити его жизни. Водитель, вывернув на трассу, стал выжимать из автобуса
все возможное, подгоняемый и стремлением войти в график, и свистящим дыханием ребенка.
Рыжеусый сидел рядом и, казалось, уже самим напряженным взглядом вперед хотел ускорить
движение автобуса. Мужчина был широкий, сильный, но когда ребенок издавал особенно
громкий свист, он сжимался и оглядывался через поднятое плечо с таким жалким,
беспомощным выражением, какое, казалось, вообще не шло его лицу. Острый свист ребенка
почему-то плохо заглушался гудением мотора и слышался почти по всему автобусу.
Пассажиры – и старые, и молодые, и городские, и деревенские – тоже теперь часто
посматривали вперед. В автобусе уже никто не дремал и почти никто не разговаривал.
Бояркин, наблюдая за рыжеусым, его женой и ребенком, тоже заразился тревогой и
мучительным сочувствием к ним. "Неужели у них вправду умерло четыре ребенка? – думал
он. – Наверное, это унесло у них полжизни. Что же, они давали им разные имена или
каждого родившегося называли одним и тем же именем? И что же, все четверо похоронены в
одном месте? Ну, хоть бы один, а то ведь четверо. И это каждый раз горе, каждый раз
страшная тоска, каждый раз похороны. Как они вообще не потеряют все силы, всю веру!"
Когда впереди, наконец, показался город, с ребенком стало происходить что-то
страшное. Все услышали, что он задышал с более громким свистом и более длинными
перерывами. Лица матери никто не видел: она склонилась так низко, словно хотела уже сама
дышать за него, но на лице отца, который развернулся и смотрел на них с открытым ртом,
был ужас. "Вот так оно у них и было каждый раз", – подумал Бояркин.
– Сейчас, сейчас, – с напряжением, не разжимая зубов, приговаривал водитель, – скоро
уже, совсем скоро…
Когда начались первые деревянные дома, автобус, опасно сманеврировав, обогнал
такси, водитель высунул руку из окна, замахал, призывая остановиться. Автобус тормознул
первым, и обогнавшее такси присело перед самым его носом. Водитель выскочил, хлопнув
дверью, сказал что-то таксисту и тут же призывно махнул своим пассажирам. Рыжеусый с
женой и ребенком быстро пересели, и такси, рванув с места, свернуло куда-то в боковую
улицу.
Не доехав до автостанции, Бояркин вышел на набережной. Автобус пошел дальше, и
Николай с какой-то тревогой долго провожал его взглядом.
Думая, что перед встречей с женой и перед возможным скандалом желательно
успокоиться, он решил пройти несколько остановок пешком – как раз тот участок
набережной, который служил пляжем, и потом сесть в троллейбус.
Пляж был покрыт обнаженными телами, но купающихся было немного – вода еще
плохо прогревалась. Загорающие лежали с изможденными лицами, словно их кто-то
насильно пригнал сюда, раздел и заставил "жариться. "Массовый психоз, – подумал Бояркин,
– три тысячи бездельников. В Плетневку бы вас, на кормоцехе крышу заливать. Сами бы не
заметили, как загорели". Он стянул с мокрой спины футболку – у пляжа это не казалось
неприличным. Спину подлизывало жаром раскаленного асфальта, и казалось, даже спина
чует запах гудрона.
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
Войдя в троллейбус, Николай вдруг вспомнил, что с остановки он увидит окно своей
квартиры и уже по окну что-нибудь поймет. Ожидание измучило его.
Но с остановки из-за тополей, расплеснувшихся густой зеленью, ничего не было
видно. Тогда Николай забросил на спину тощий рюкзак и побежал, чтобы взглянуть, наконец,
на свой третий этаж вблизи и успокоиться, но, увидев на веревке под окном детские
колготки, он, не останавливаясь, влетел в подъезд, вбежал по лестнице и, переводя дух,
остановился лишь у самого порога. За дверями деловито стрекотала швейная машинка.
Глубоко вздохнув последний раз, Николай неслышно открыл дверь. Наденька сидела на
диване, склонившись к табуретке с машинкой. Коляшка на половике около ее ног возился с
деревянными кругляшками пирамидки. Их освещало притененное листьями окно, и на душе
Бояркина в первое мгновение потеплело. Сын был острижен наголо и чуть-чуть подрос. Но
главное, к чему почти сразу же прилип взгляд Николая, был Наденькин живот. Никак
невозможно было обмануться, что его величина и округлость – это иллюзия, создаваемая
просторным домашним халатом. Наденька была беременна. "Красиво беременна", как
подумал он однажды, увидев на улице чужую беременную женщину. Бояркин опешил и
словно врос в колоду. Он оставался незамеченным с минуту, и это было последним
расстоянием между двумя его жизнями. В этом промежутке у него мелькнула мысль: пока не
замечен, выйти тихонько и не возвращаться сюда никогда. Конечно, это было бы глупо, и
Николай, боясь, что малейшее шевеление выдаст его, стоял неподвижно. Сынишка, подняв
подбородок и забавно склонив голову к плечу, уже рассматривал его. Наденька крутила ручку
машинки, но, закончив шов, взглянула на Коляшку, тут же на дверь и радостно, счастливо
вскрикнула. Опершись одной рукой, она неуклюже поднялась, бросилась на шею этому
негнущемуся, как столб, человеку. Расстояния в три шага хватило для того, чтобы ее глаза
заплескались слезами через край. В одно мгновение Наденька вымочила лицо мужа
поцелуями и слезами. А он все еще оставался на другой планете и не хотел возвращаться на
эту. Он ощущал выпирающий, каменный живот жены, знал, что там его ребенок, которому он
должен был радоваться, и знал, что это катастрофа.
– А вон наш сынуля, – прошептала Наденька, поворачивая мокрое лицо к Коляшке.
– Зачем ты его остригла? – сказал Бояркин первое пришедшее на ум.
– Так ведь лето… Мама сказала, что тебя маленьким всегда так стригли. А ведь он как
ты. Посмотри-ка, еще больше стал похож.
Николай понял, что эта фраза, приготовленная ею заранее, предназначена, чтобы его
разжалобить, и начал ощущать нервное дрожание в пальцах.
– Он ходит?
– Ходит, ходит, – еще больше оживилась Наденька. – Коляшенька, иди сюда. Покажи
папе, как ты ходишь.
Сын, ухватясь ручкой за край дивана, поднялся и, раскачиваясь, заковылял к ним.
Николай потянулся навстречу, но ребенок увернулся от рук и уцепился за материны ноги. Его
отстающие волосики, посветлев на солнце, переливались желтизной, и весь он походил на
тонкий, гибкий одуванчик. Наденька сама поймала Коляшку и вручила прямо в руки.
Николай подхватил сынишку, прижал к груди и, наработавшийся, огрубевший на стройке,
совсем по-новому ощутил маленькое хрупкое тельце, услышал, как испуганно колотилось в
нем крохотное сердечко.
– Ах ты, воробушек мой, мышонок мой, – тяжело выдохнул он, чувствуя, как слезами
перехватывает горло.
Николай и сам не ожидал наплыва такой всерастворяющей нежности. До него вдруг
дошло, как много он должен был значить в жизни маленького беззащитного человечка, как
многое должен был ему потом рассказать и передать, посоветовать.
– Коляша, Коляша – это твой папа. Скажи "папа", "па-па", – говорила Наденька,
пытавшаяся обнять их обоих.
Теперь она плакала свободно, без насилия над собой, решив, что самое трудное
позади, что муж все принял.
– Вот видишь, какой у нас сынуля, видишь, какой сынуля, видишь, – твердила она.
– Наденька, помолчи, пожалуйста, – умоляюще попросил Николай. – Чего ты от меня
хочешь? Все равно я не могу плакать сильнее, чем умею. Не надо ничего из меня давить.
Она с трясущимися, наползающими друг на друга губами отошла к окну. Она была
испугана его тоном.
Наконец, они успокоились и сели рядом. Николай невольно отметил, что Наденька
похорошела – она нарушила, в общем-то, нестрогий его запрет и постриглась, но короткая
стрижка шла ей.
– На каком уже месяце? – спросил он, указывая глазами на живот.
– Коля, в ковылинской больнице мне сначала сказали, что у меня просто воспаление, –
глухо, с вновь подступающими слезами и несколько невпопад начала Наденька
приготовленное объяснение. – А потом сказали, что уже поздно, срок большой. Теперь
можно надеяться только на какую-нибудь бабку…
– Но, может быть, согласятся и врачи?
У нее остановился взгляд. Она поняла, что разлука ничего не переменила.
– Врачи… – хлюпая носом, проговорила Наденька. – Он уже шевелится, уже живой. У
него уже есть скелет… Почему ты его не хочешь? Он будет такой же, как Коляшка. Не знаю,
как ты думаешь жить дальше, но я хочу детей. Понимаешь ты это? Мне мало одного! Ма-ло!
Бояркин сидел, стиснув голову руками. Жена была права: ребенок уже есть, он живет.
А запрещать детей никто не имеет права… Но он и жить с ней не хочет, а оставить ее сейчас
уже нельзя. Можно потом. Но потом будет два ребенка, он привяжется к ним еще сильнее и
уйти не хватит сил. Этого-то она и добивается. Она все предусмотрела.
– Ты знаешь, почему я его не хочу, – сказал Николай с горечью. – Я не был бы против
него, ты ведь все уже знаешь…
– Да, я уже была у матери, и она рассказала, что ты завел в деревне какую-то бабу…
– Замолчи! Никакой бабы у меня нет… И все это совсем иначе, чем ты думаешь.
Наденька бросилась к нему, покрывая лицо новыми мокрыми поцелуями.
– Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, – приговаривала она, как заклинание.
Это было так долго и так однообразно, что начало походить на припадок. Николаю
стало даже страшно. Он не хотел ни этих ее страшных слов, ни ее любви, он хотел
освободиться от всего. Но как? И он заплакал сам. Сын каким-то образом взобрался на диван
и тоже заплакал. – "Чего бы ты-то понимал… Или, может быть, тоже что-нибудь по-своему
понимаешь", – подумал Николай, прижав сынишку к себе. Коляшка успокоился.
– Мы не разойдемся? – спросила Наденька.
– Все равно разойдемся, – сказал Бояркин, собрав всю свою твердость.
Она вдруг остановилась на полувдохе, замерла и перестала плакать. Потом
отстранилась и встала. Бояркин, лежа вниз лицом, слышал, как она высморкалась, достала
что-то из шкафа, прошла по коридору, скрылась за дверью маленькой умывальной комнатки;
он слышал, как на дверях скрипнул крючок, который обычно никто не закрывал. Бояркин
резко сел, вспомнив прежние Наденькины угрозы. Неужели она решилась? С минуту
Николай сидел раздумывая. В комнате еле слышно тикали часы. Под окном глухо раздались
приветственные возгласы двух, должно быть, давно не видевшихся людей. Коляшка снова
принялся за пирамидку. Не верилось, что в эту обыкновенную минуту могло произойти что-
нибудь страшное. Но и ждать было нельзя. Бояркин вышел в коридор. За дверью умывальной
комнатки журчали вода – если Наденька умывается, то зачем набросила крючок? А может
быть, пытается приглушить какие-нибудь звуки? Что взяла она из шкафа? Коляшка,
оставшийся в комнате один, снова закричал, приковылял в коридор и, сразу угадав, где мать,
стал колотить в дверь деревянным кружком от пирамидки. Его тревога еще больше испугала
Бояркина. Он не знал, что предпринять. Если с женой заговорить или попытаться вырвать
крючок, который был очень крепкий, то можно просто подтолкнуть ее к задуманному.
Действовать надо было быстро и наверняка. "А может быть, это к лучшему?" – мелькнула
мысль, которую он тут же с отвращением отшвырнул. И не успел он ничего придумать, как
дверь распахнулась. Наденька подхватила Коляшку и, давясь слезами, убежала в комнату. На
ее тонкой шее Бояркин заметил красную полоску… В раковине лежала петля из знакомой
синей ленты. Год назад, перед выпиской Наденьки из роддома, Николай искал ее по всему
городу, помня наказ, что одеяло мальчиков перевязывают синей лентой. Почему-то тогда в
магазинах были только девчоночьи красные ленты – видимо, легкая промышленность не
учитывала демографических закономерностей. Потом синюю ленту подарили Ларионовы.
Николай накинул петлю себе на шею, пытаясь представить Наденькино состояние.
Посмотрел на потолок, но необходимого классического крючка там не нашел. Он вышел на
кухню и сел на табуретку. Отстраненным взглядом окинул все вокруг. "Вот кухня, – подумал
Николай. – Вдоль стен пять столов. Наш крайний у входа. На нем кастрюлька, ложечка,
чашка. Над столом сушилка для посуды. В ней тарелки. В другом углу красный баллон с
газом для плиты. Все это реально. О мою ногу трется пушистый кот, кажется, Евдокимовых
или Матвеевых…"
Еще Бояркин отметил крик ребятишек во дворе, тугое жужжание пчелы на стекле,
шипение воды в туалете и вспомнил другой момент ОСОЗНАНИЯ. Тогда под ним было
вращающееся, привинченное снизу кресло. На столе, покрытом пластиком, лежали
микрофон с укороченными шнурами, чтобы в случае качки не упали, а повисли. Слева была
настольная лампа с очень массивным основанием, чтобы не валилась при наклонах корабля,
и с жестким абажуром, чтобы не разбилась, если все-таки свалится. Вверху на специальной
подставке, тоже привинченный, стоял вентилятор. Там было море, и каждый предмет был
приспособлен к нему. Такое же приспособление происходило и с людьми, отчего у них
возникал особенный взгляд на многое, и они жили особенной жизнью в особенном мире. Это
была неплохая жизнь. В тот момент, озираясь в радиорубке, он специально попытался
запомнить все подробнее, чтобы вспомнить когда-нибудь потом. И вот теперь все это
предстало так ясно, что Николай вспомнил даже скудные запахи радиорубки и легкий хмель
в голове от постоянного покачивания. Всплыла и тогдашняя мысль, что через несколько лет
после службы он, вспомнив это как нечто нереальное, не захочет этому поверить. Да, так и
выходило. "Неужели же это был я, а не кто-то другой, – подумал теперь Николай. – Эх, уж
эти бескозырки с якорьками, голубые гюйсы, короткие прически, бритые здоровые ребята и,
главное, пусть резковатые, но уж до конца ясные отношения. Конечно, и там тоже было
достаточно всякого, но ясного было больше. Если бы в жизни всегда было так". Около уха
вдруг зажужжала пчела. Бояркин инстинктивно махнул рукой и почувствовал, что ударил в
воздухе по маленькой твердой точке. Пчела упала на пол вверх лапками. Кот подскочил к ней,
понюхал и, отойдя, стал наблюдать со стороны. "Ну, что же ты летаешь-то здесь! – с болью
подумал Бояркин. – Как ты попала в эту дурацкую кухню? И надо было тебе подвернуться".
Через минуту пчела зашевелилась. Николай с облегчением вздохнул и открыл окно. От
нервного напряжения у него заболела голова.
В комнате Бояркин присел перед рыдающей женой.
– Успокойся, хватит, успокойся, – попросил он.
– За что ты меня так наказываешь? За что? – еле выговаривала Наденька, думая, что
теперь-то уж наверняка все позади.
В этот раз она многое пережила. Думая попугать мужа, как это бывало и раньше, она
сегодня для большей убедительности хотела оставить на шее след… Набросив петлю,
Наденька стала затягивать ее руками вверх. Шелковая лента легко скользнула и сразу сжала
шею. Задержав дыхание, Наденька решила подержать подольше. На шее было какое-то
особенное ощущение, которое не показалось ей страшным, и она прислушалась к нему даже
с любопытством. "Ну, достаточно", – сказала она самой себе. Но руки от этого не ослабили
натяг. "Хватит!" – испуганно и зло приказала она им и вдруг почувствовала, что руки,
напротив, потянули сильнее. Раньше, наслаждаясь своей игрой в раздражение, она так долго
различными намеками внушала мужу свою готовность к самоубийству, что и сама невольно
поверила в это. В умывальную комнатку она вбежала злой, и подсознание вооружило этой
злостью ее собственные руки, которые как бы вышли из-под контроля. Продолжая затягивать
петлю, Наденька простояла еще с полминуты, видя в зеркале свои выпученные глаза и,
удивляясь, что страх страхом, по ощущение удавки становится даже приятным, просто с
каждым толчком сердца голова как бы разбухает от крови, становится все больше и больше.
Больше становятся само лицо, уши, глаза, шея. А потом вдруг послышался шум и слабая
приятная музыка. Это было уже головокружение, и тут-то, найдя, наконец, в себе силы,
Наденька обессилено навалилась на раковину, постепенно отходя от шока. Ей показалось, что
она только что заглянула куда-то в недозволенное, по ту сторону жизни и даже услышала
звуки, доносящиеся оттуда… Теперь она уже не могла сказать точно, хотела ли она с самого
начала лишь попугать мужа или действительно решилась на страшное, напрасен был этот ее
испуг или нет? Наверное, не напрасен – ведь она всегда боялась сама себя. Она ведь и в
самом деле могла оставить сиротой Коляшку, могла убить с собой еще одного ребенка!
Реальное ощущение смерти отрезвило ее. Наденька сбросила крючок и распахнула дверь, но,
выбегая, все-таки не забыла оставить ленту в раковине.
– Почему все так оборачивается? – с болью проговорил Бояркин, усевшись на полу
перед диваном. – Ведь с самого начала я хотел тебе только добра. Но почему же оно
оборачивается злом? Наверное, тут все дело в нелюбви… А ты лучше не добивайся этой