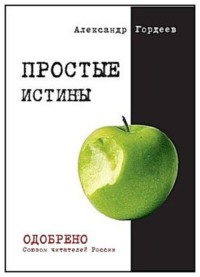полная версия
полная версияМолодой Бояркин
жалости. Жалость делает наши отношения еще более ложными.
Потом они успокоились и, высморкавшись в концы одного полотенца, решили
оставить пока все как есть. Оставить все как есть, значило оставить в пользу Наденьки, но
другого выхода не существовало. Остаток дня Бояркин провозился с сыном, чувствуя, что из-
за сожженных сегодня нервов, воспринимает его уже не с такой нежностью, с какой хотелось
бы. Наденька пыталась как можно умнее угодить во всем, и сготовила такой обильный
праздничный ужин, что Бояркин чуть не объелся. Когда уже стемнело, Николай включил
телевизор и увидел на окне свою тетрадку, исписанную в прошлый раз. Тетрадка была
раскрытой.
– Ты читала это? – спросил оп Наденьку.
– Да, открыла наугад… Белиберда какая-то, Коля, – ответила она с робкой улыбкой. –
Откуда и зачем ты все это переписал?
Бояркин плюхнулся на диван. Ему самому показалось, что лицо его похолодело.
– Завтра я еду в деревню, – глухо и твердо сказал он. – Срок командировки еще не
закончился. Поприветствовали друг друга, и хватит.
Наденька закусила губу и села на другой конец дивана.
Спать Николай лег на полу и спал плохо. Ночью он почувствовал духоту оттого, что
кто-то дышал прямо в лицо. Он проснулся, но боялся открыть глаза. На щеки упало
несколько холодных, спокойных капель. Он открыл глаза и увидел вплотную нависшее лицо
Наденьки. Она без очков близоруко рассматривала его в свете уличного фонаря и плакала,
как всегда, беззвучно. В транзисторном приемнике, который Николай забыл выключить,
ушла волна, и динамик шипел, заглушая малейшие звуки. Николай щелкнул тумблером
приемника.
– Уйди, не мешай спать, – попросил он Наденьку, стараясь казаться как можно более
спокойным, и медленно повернулся на бок.
Она легла на диван. Николай почувствовал это по движению воздуха. От нее не
слышалось ни вздоха, ни всхлипа, ни шороха. Так же тихо она могла сейчас или ударить, или
плеснуть чем-нибудь, или сделать черт знает что… Николай никак не мог уснуть. В голову
лезли разные мысли. От жалости к жене стискивало сердце, но в последнее время он ничего
не хотел так сильно, как иметь рядом с собой понимающего, разделяющего все его мысли
человека. Когда однажды Дуня сказала о кричащем солнце, то словно осветила всю душу –
между ними сразу перекинулся мостик. А будет ли когда-нибудь рядом человек, с которым
этот мостик будет постоянным? Ведь не будет же все всегда так продолжаться. "Для
настоящего счастья нужно все настоящее, – думал Николай. – Оно не терпит заменителей. А
уж жалостью-то любовь никогда не заменишь. Теперь я это знаю точно".
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Проснувшись утром, Бояркин остался лежать с закрытыми глазами. Наденька
осторожно поднялась, оделась и вышла, захватив полотенце. Николай так же тихо, чтобы не
разбудить сынишку, начал одеваться. Он слышал, что жена побывала в туалете, потом
умылась и загремела на кухне. Он подхватил свой рюкзак, который не пришлось даже
развязать, и постоял немного у кроватки Коляшки. Выйдя в коридор, он почувствовал
вкусный запах кофе и гренок. Наденька готовила образцовый завтрак. Николай заглянул на
кухню, чтобы его уход не столь явно походил на бегство. Наденька, переворачивая кусочки
хлеба на сковородке, увидела рюкзак и жалостливо скривила рот, заблестела глазами.
Бояркину теперь стало совсем невмоготу от этой ее старательной, но ненужной заботы о нем.
– Пока, – сказал он и быстро вышел.
Сбегая по лестнице мимо почтовых ящиков, Николай увидел в своем ящике уголок
письма. Видимо, почту принесли вчера после его приезда. Письмо, подписанное почерком
Анютки, было из Ковыльного. Оно показалось слишком толстым, и Бояркин сунул его в
карман. Лишь придя в более или менее нормальное состояние, уже в мягком автобусном
кресле, когда по обеим сторонам дороги потянулись ряды тополей, Бояркин вспомнил о
письме.
"Здравствуй, братец!
Хорошо, если бы ты получил это письмо до приезда твоей жены. Она вот-вот уедет от
нас. Я, честно сказать, толком и не знаю, стоит ли писать тебе обо всем этом, но, во всяком
случае, отношения между нами честные и не терпят умалчивания. Разреши, пожалуйста, мое
недоумение, которое состоит вот в чем – как ты, мой старший, умный брат, мог выбрать себе
такую жену? Кстати, все у нас тут до того тактичные, что на многое как бы не обращают
внимания, но я молчать не хочу. Сначала я относилась к ней без предубеждения. У меня
даже, наоборот, было предубеждение в добрую сторону. Она почти моя ровесница, а уже
мать, жена моего брата и все такое. Но потом отношение к ней пришлось изменить. Вот тебе
два факта – рассуди сам. В День Победы к нам на своем мотоцикле приехал дядя Миша. К
вечеру они с папой сильно напились. Мама сказала, чтобы я постелила дяде Мише на диване.
И тут твоя Наденька высказалась "Этому пьянчужке, – говорит она, – да еще на диване
стелить? Он и у порога проспится". Мы даже рты пооткрывали. Дядя Миша говорит: "Я-то,
может быть, и пьянчужка, а вот ты-то кто? Я ведь тебя насквозь вижу и все про тебя знаю.
Знаю даже то, чего твой Колька не знает". И тут Наденька начала ругаться матом и
выталкивать его в дверь. Я не знаю, может быть, ты этому не поверишь – вряд ли у вас с ней
всегда так, но я не вру. Не стесняясь никого, она стала выкрикивать такое, чего и от мужиков
не услышишь. Мама потом плакала и говорила, что Кольку жалко. Я еще тогда хотела
пожаловаться тебе, но, думаю, посмотрю, что дальше будет. А дядя Миша утром
посмеивается. "Ловко, – говорит, – я ее на мушку взял. Сразу на чистую воду вывел". Уж не
знаю, на какую он там ее воду вывел, но вот тебе второй факт. На другой день, как только она
приехала, пришла к нам тетя Лена, дяди Мишина жена. Они познакомились, тетя Лена и
говорит: "Чего это ты сразу второго ребенка рожать собралась? Отдохнула бы немного.
Приходи завтра утром – я живу около самой больницы и отведу тебя к врачу". Наденька твоя
согласилась, а утром ходит, как ни в чем не бывало. Вечером тетя Лена зашла, а Наденька
говорит: "Утром что-то приболела". Назначили на другой день. Наденька и в тот день не
пошла. И вот собирались они так четыре раза. Я прямо вся перезлилась – ну, не хочет – не
надо, но так и сказала бы прямо, что не хочет. О других мелочах я уж молчу. Ты, наверное, и
сам знаешь ее привычку обманывать на каждом шагу просто так, без надобности. Это для
меня даже какое-то открытие. Я считала, что для обмана надо кик-то поднатужиться,
переступить через себя…"
Бояркин прервал чтение – дорога все равно была долгой. Рассказу Анютки Николай
поверил без сомнений – это мать попыталась бы что-нибудь смягчить, но сестренка пока еще
никаких полутонов в правде не признавала. Да, в общем-то, все описанное вполне подходило
Наденьке. Эти "факты" уже особенно и не удивили. Сестре можно было всего этого и не
описывать, это было лишнее письмо, но, наверное, она пыталась спасти его, открыть глаза на
правду. "Она со всех сторон обложила меня ложью, – спокойно подумал Бояркин о Наденьке.
– Вся наша жизнь с ней – ложь… Но что же тогда Коляшка? Тоже ложь? Ошибка? Если уж
даже роды, материнство – такие естественные переживания, не освободили Наденьку ото
лжи и хитрости и не добавили ума, то все, конечно же, бесполезно".
Бояркин слишком долго смотрел в окно, где за строем тополей бежало ослепительное
солнце, и в глазах зарябило. Николай отвернулся и задремал. "Как же в вашей жизни
произошел такой перекос, уважаемый товарищ Бояркин? – очнувшись, подумал он. – Да как
– сами вы во всем виноваты. Тут уж нечего приседать от возмущения. Других хоть женят, а
вы сами женились – вы же самостоятельный. Вы в соответствии со своими благородными
идеалами спасали несчастную, страдающую девочку. Это, во-первых. Во-вторых, вы мечтали
горы своротить, а для этого кто-то должен был устраивать ваш быт. А под рукой вам для
нравственного спокойствия требовалось иметь женщину вполне законную в вашем
представлении. Все это и вдохновило вас сфабриковать подходящую теорию. Жалкий вы
идеалист, школьник, пионер – всем ребятам пример! Да и все-то мы, дураки, пищим, да лезем
в этот так называемый брак. В нашем представлении все человеческие отношения сводятся, в
конце концов, к семье. В соответствии с этим мы иногда всех неженатых да незамужних так
затравливаем пропагандой о семейном счастье, с которым сами иногда незнакомы, так
жалеем их, что они начинают считать себя, по меньшей мере, неполноценными. А я так
вообще придумал семью с несколькими супругами – пусть что угодно, но лишь бы
называлось семьей. В будущем же, при условии, обещаемом некоторыми фантастами, что
детей будут сразу же отдавать в специальные учреждения специально обученным педагогам,
браки исчезнут совсем или они примут чисто символический смысл – чтобы колечко
поносить. Главное, что получит тогда человек, – это свое отдельное жилище – личную среду
обитания. Каждый человек получит возможность по-настоящему быть самим собой, жить
вдумчивей, духовно богаче и полней, потому что получит возможность осуществить свою
потребность быть только с тем, кто ему необходим".
Николай дочитал длинное Анюткино письмо. Она рассказала новости, дошедшие в
Ковыльное из Елкино. Николая огорчило известие, что Игорек Крышин, вернувшийся домой
один, без жены, сильно запил. Игорьку сейчас нужна была поддержка. "Вот еще одна
неправильность жизни, – подумал Николай. – Они, два необходимых друг другу человека,
друзья, живут в разных местах. И сколько набирается этих неправильностей! "
По дороге с автобусной остановки Бояркин случайно встретился с Дуней.
– Придешь? – спросил он на ходу, пытаясь за это мгновение впитать ее глазами.
– Приду, – ответила она.
Со стороны могло показаться, что они просто поздоровались.
На этот раз Дуня пришла к стогу первой.
– Ну, как? Что? – сразу же с тревогой и нетерпением спросила она.
Николай опустился на сено и стал бестолково рассказывать то о том, что перенес сам,
то о написанном сестрой, то принимался сбивчиво размышлять, строить разные догадки. Он
хорошо видел несвязность своего рассказа, но справиться с собой не мог. Дуня с удивлением
заметила, что он сильно раскис. Она смотрела на все уже как бы со стороны, и Бояркина ей
было просто жаль. Николай, еще сегодня утром видевший блестящие слезами Наденькины
глаза и спокойного, порозовевшего во сне Коляшку, тоже смотрел на Дуню несколько
отчужденно и равнодушно. Обсудив главное, они замолчали. Даже в первый вечер, еще
ничего не зная друг о друге, они были более близкими, чем сейчас. И расстались они без
волнения.
* * *
С Романом Батуриным Николая стала связывать странная, отягощающая, но в то же
время и по-особому легкая дружба. Роман все-таки получил от жены письмо с обещанием
приехать и посмотреть, как он устроился. Жена обещала, но срок не назвала. Батурин весь
изождался и после работы не мог провести в одиночестве минуты. Отношения сложились
так, что и после работы Бояркин оставался как бы его подручным, чувствуя странную
обязанность и в обед, и после работы всюду, как на веревочке, следовать за ним. Вообще,
после поездки в город, сам, не замечая того, Бояркин стал склонен к тому, чтобы в каждом
шаге подчиниться кому-нибудь более опытному и как можно меньше думать. А с Батуриным
было просто. Иногда в обед они шли не в столовую, а в общежитие и варили суп. Все это
делалось без каких-либо претензий, взаимных недовольств и даже без всяких слов, что им и
нравилось.
После работы, убедившись в том, что жена не приехала с вечерним автобусом, Роман с
расстройства покупал бутылку не выводящегося из магазина яблочного вина, и они, весь
вечер, попивая его, играли в дурака и не ходили даже в кино. Раньше Бояркин терпеть не мог
такого досуга, особенно карт, но, оказывается, не терпел из рационалистических
соображений, от мысли, что карты – это "нехорошо". Но эта немудреная игра была хороша
тем, что отвлекала от всего мира. Роман играл азартно – с криком, с руганью и если
проигрывал, то злился всерьез. Так же научился играть и Бояркин. Время пролетало
незаметно. Потом был сон. А утром работа. Главное – ни о чем не думать.
В субботу они освободились от работы чуть раньше, и Батурин, разозлившись, что
жена снова не приехала, купил две бутылки водки. С водки они стали пьянеть быстро, игра
пошла вяло, и Роман принялся рассказывать о себе. Женат он был второй раз. У первой жены
остался мальчик, вторую жену он тоже взял с мальчиком. Все они жили в одной
двухкомнатной квартире, только в разных изолированных комнатах. Жены, встречаясь на
кухне, неожиданно сдружились, пацаны стали играть вместе, и оба называли Романа папой.
Иногда вечером они и ужинали все вместе.
– Людка такой доброй стала, – рассказывал Роман о первой жене. – За кого выйдет, так
золотой женой будет. Видно, для того чтобы баба хорошей женой стала, ей надо хоть раз
развестись. Она потом все ценить начинает.
– Как же вы уживаетесь? – спросил Бояркин. – А твоя вторая жена ничего тебе не
говорит?
– Любашка-то? Говорит, почему же не говорит. Она говорит: "Если у тебя появится
тяга к другой – я не возражаю. Я не буду устраивать тебе сцен и не буду даже сомневаться,
что ты меня не любишь. Просто я умею любить по-женски, а ты по-мужски, и я знаю, что,
даже увлекаясь, мужчина не перестает любить свою жену. Бывает даже, что он после этого
любит ее еще сильнее, если, конечно, она не начинает пилить и делаться невыносимой. Вот
все, что она говорит. Но что ты думаешь? То ли она меня околдовала, то ли, как говорят, в
плен взяла, но только вырваться я от нее не могу и "увлекаться" не могу. Да и не хочу. Мне
никого не надо. А ведь раньше-то что было – мрак! Первым кобелем в городе был.
Медалистом, можно сказать.
– Вы, наверное, никогда не ссоритесь, – сказал Бояркин. Ему захотелось узнать как
можно больше о такой семье,
– Теперь редко, а сначала бывало, – продолжал Роман. – Один раз завелся из-за какого-
то пустяка – уж и сам не помню. Доказываю что-то, факты привожу. До слез довел, а ничего
не доказал. Потом, когда помирились, Любашка и говорит: "Только плохой жене не хочется
соглашаться с мужем, только глупая женщина боится превосходства мужчины. Я соглашаюсь
с любым твоим доводом, но я не понимаю, зачем ты злишься на меня? Если хочешь что-
нибудь доказать, то лучше обними меня, прижми, похлопай по чему положено, и я не смогу
спорить…"
Во время этого разговора в общежитии с книжкой в руках лежал Алексей Федоров. Он
злился из-за их выпивки и не разговаривал с ними, но тут не выдержал.
– Знаешь ли, Рома, – вмешался он. – Даже я, старик, позавидовал тебе. Умная у тебя
жена. Я о таких женщинах только от других слышу, но сам не встречал. Тебе же невероятно
повезло. И что ты делаешь среди нас – сплошных семейных неудачников?..
– А ты разве тоже? – спросил Бояркин. – Ты что же, не женат?
– Был. А как дети подросли, ушел. Мою жену можно было терпеть. Мы как-то тяжело
жили. Вроде бы и не ссорились, но разговаривали, как тугие на голову. Да все сдуру.
Молодой-то глупый был. Строил свою жизнь впопыхах, так же вот, как ты. Думал время
коротко, а оно все-таки длинно. Внешне она была красавица, с высшим образованием, с
исключительной памятью, но глупа. Глупа, правда, как-то неприметно для окружающих. В
голове у ней могли быть черт знает какие познания, но она оставалась глупой. Рассуждала
умно, а поступала всегда не так. Правда, вспоминаю я ее сейчас по-доброму – слишком много
времени с ней прожито. А еще раз жениться уже не могу. Бывали, конечно… И бывают, хоть и
не часто, но все не то. Никто из них не пытался вот так, как тебя, Роман, в плен взять, хотя к
стойлу привязать почти каждая не прочь. А ведь требовать от нее того, чего она не понимает,
бессмысленно. И не объяснишь это за один присест – такой женщиной, как твоя жена, надо
просто быть – и все. А нам, мужикам, такую можно только встретить, воспитать такую нам
не под силу. Я бы вот тоже хотел иметь умную женщину. Такую, чтобы ей нравилось, что я,
например, с бородой или, если сбрею, то без бороды; что у меня на руках мозоли, что домой
я прихожу усталый, в пыльных сапогах, чтобы умела она видеть комплименты не в словах, а
и в поступках, в выражении глаз, в жестах, чтобы нравилась ей моя прямота, чтобы поняла,
что живу я так, как считаю нужным, но без зла. Разве это так сложно? А вот попробуй-ка,
найди такую.
"Наверное, и мне придется ждать, когда дети подрастут, – думал Бояркин, слушая
Алексея. – А, значит, надо пока успокоиться, жить так, чтобы быть понятным многим
другим. А жена пусть понимает тебя настолько, насколько способна и насколько ей
необходимо. Ужин сварен, пол помыт, рубашки постираны, будь доволен. Господи, да ведь
это так просто". Бояркин даже повеселел.
Водки оказалось многовато – очень скоро это поняли они оба. Федоров, несмотря на
только что закончившийся доверительный разговор, резко отругал их в ответ на
предложенный стакан и, расстроено бросив книжку, ушел из общежития.
Бояркин и Батурин посидели, поговорили о том, какой хороший мужик Федоров,
покончили с последней бутылкой и перестали держаться на ногах. Бояркин чувствовал, что в
его сознание окружающее прорывается лишь короткими бессвязными кусками. Ничего уже
не соображая, он выволокся в улицу и, вместо того чтобы шагать в свое общежитие,
приплелся к дому Осокиных, открыл ворота и постучал в окно. Потом он обнаружил, что на
него сквозь стекло смотрят пожилые мужчина и женщина – Дунины родители, а сама Дуня
стоит рядом, дергает за рукав и требует, чтобы он сейчас же ушел. Бояркин подчинился и
направился к себе. У клуба его окружили местные парни. Они что-то говорили, но до
Николая доходили лишь всплески голосов. Тем не менее, он что-то отвечал, а потом все
исчезло.
Очнулся он утром на одной кровати с Романом. Невозможно было притронуться к
челюсти, к бедру, ступить на ногу. Сведения о своих вчерашних действиях пришлось
собирать у других. Но никто ничего не знал. Похоже, что он упал после первого же тычка в
челюсть, которого не успел даже заметить, и потом, когда его пинали, не чувствовал уже
ничего. Подобрал его Роман, прибежавший сразу же, как только узнал, что около клуба бьют
кого-то в белом плаще.
– Я тебя часа полтора искал, – рассказывал Роман, взлохмаченный и опухший, –
сбегал уже в твою общагу – там нет. Да и вообще бы не нашел, если бы не белый плащ, –
ночь-то была темная. Сначала думал, что тебя вообще убили. Ты почти не дышал и не
шевелился. Нес тебя, как мешок, через плечо… А выглядишь ты ничего, даже без "фонаря".
– Что-то бока жжет, – сказал Бояркин.
– Скинь-ка рубашку, – попросил Роман.
Бояркин стянул рубашку и увидел с ее тыльной стороны темные пятна.
– Ого-го, – сказал Роман, разглядывая его спину, – можно сосчитать все пинки,
которые ты схлопотал. Как пинок, так и ссадина. И по рубашке можно сосчитать – они там
отпечатались.
– Знаешь что, Рома, кончать нам надо с этим вином, – сказал Бояркин.
– Да нет, так-то ничего, просто мы вчера норму перешли. А этих местных, не знаю,
кто там был, мы можем сегодня на рога поставить.
– Нет, все. Наверное, я сам выпросил. И с вином тоже конец. В алкашей
превращаемся. Поворачивать надо.
Николай решил, что от Батурина надо просто отколоться. Не ходить к нему в
общежитие и все. В одиночку он пить не умеет – может, и сам перестанет. Разве что другой
напарник объявится. Хоть бы уж приехала скорее его жена.
На другой день Бояркин заболел. С утра появилась апатия ко всему на свете, которую
он не мог превозмочь весь день, а под вечер заныли кости и стало больно глотать. Все было
как в тумане. Его состояние заметила вся бригада, и Пингин распорядился, чтобы в
понедельник он на работу не выходил, а как следует закутался и отлежался. Батурин, помня
ссадины на его теле, испугался, но потом стало понятно, что Николай всего лишь застудился,
лежа ночью на холодной земле.
Весь следующий день Бояркин провалялся под одеялом, поднявшись только в обед,
когда Роман принес котлету с рисовой кашей и стакан молока. Потом, оставшись один,
Бояркин вышел из избы и присел на теплом крыльце. День стоял солнечный, и
температурить от простуды было стыдно. Николай, уже в который раз, поймал себя на том,
что смотрит на все окружающее слишком равнодушно. "Наверное, это безразличие не зря
заложено в человеке, – подумал он. – В большинстве случаев смерти предшествует болезнь, и
равнодушному легче умереть. Болезнь несет равнодушие. Точно так же, наверное, и
равнодушие несет болезнь. Так не от того ли я расхворался, что в последнее время как бы
отошел, оторвался от всего?" Он еще немного посидел, вспомнив Нину Афанасьевну с ее
постоянным постельным режимом, пожалел ее и пошел снова на кровать.
Первым после работы вернулся в общежитие Валера-крановщик. Он принес ужин и
пояснил:
– Ромка отправил. Сам завернул в магазин. Велел тебе не есть, пока он не придет.
Валера сбросил сапоги, через голову стащил рубаху, обнажая свои беспорядочные
наколки.
– Слушай-ка, – сказал он нерешительно, – я вот по-разному думаю. Все хочу спросить.
Ты ходишь с десятиклассницей… Так ты с ней того… Ну, в общем, спишь или просто так?
– А тебе какое дело? – спросил Бояркин, чувствуя как закипает.
– Да интересно. Я не знаю, можно ли просто так ходить.
– Можно и "просто так", – ответил Бояркин, вдруг вспомнив, что про Валеру
поговаривали, будто он импотент. – Я, например, хожу "просто так". Ничего иного мне и в
голову не приходит.
– Я понял, понял, – быстро сказал Валера, – я так, случайно спросил.
Бояркину стало неприятна его неловкость.
– Ты выпить не хочешь? – сказал он.
– Да не отказался бы.
– Тогда не уходи. Сейчас Роман принесет. Он "просто так" в магазин не заходит.
Выручишь меня.
Роман принес бутылку водки.
– Мы же договорились… – недовольно сказал Николай.
– Ну, ладно, ладно – покровительственно осадил его Роман. – Это для лечения.
Таежный способ, по рецепту Алексея.
Он пошел, сполоснул под умывальником стакан и почти до краев наполнил водкой, в
которую натряс потом перца из дешевой столовской перечницы.
– Таежный способ, – сказал Николай, – что же, все таежники с перечницами в кармане
ходят? Дай-ка я Валере отолью.
– Нам с Валерой и этого хватит. Валера, готовь посуду – выпьем за его выздоровление.
Нам полезней без перца. А ты пей и не останавливайся. Если не выпьешь – я тебя добью, –
сказал Роман, в шутку показывая свой граненый кулак.
Перед такой заботой трудно было устоять. Николай выпил. Батурин и карты не забыл
прихватить, но игра не получилась. Бояркин сразу сильно опьянел. Часов в девять вечера он
заснул и, поднявшись утром, пошел на работу вместе со всеми. В этот же день он написал
Наденьке, что приехать раньше, чем окончится его командировка, не может. Он передал
привет Коляшке и, еще раз написав "пусть все останется так, как есть", попросил не
волноваться и ни к какой бабке не ходить.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ
В один тихий, но прохладный вечер Бояркину захотелось выйти за село. С крылечка
общежития он взглянул на небо и почувствовал легкую тревогу, обычную при приближении
дождя. Ночной дождь всегда тревожен невидимостью и "бесконтрольностью"; тревожен и
тем, что приближает человека к природе, работающей даже и тогда, когда все живое в ней
отдыхает. Николай был в ватной телогрейке и сапогах, одетых с сухими портянками.
Состояние прочной теплоты в это преддождевое время было особенно приятно.
Миновав заброшенный огород с пыльной землей, он перепрыгнул через хлипкую
жердевую загородку и, пройдя немного по низкой молоденькой травке, оказался на трактовой
дороге, опоясывающей село. Солнце давно уже закатилось, оставив на горизонте после себя