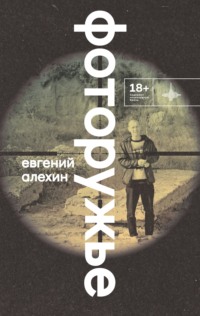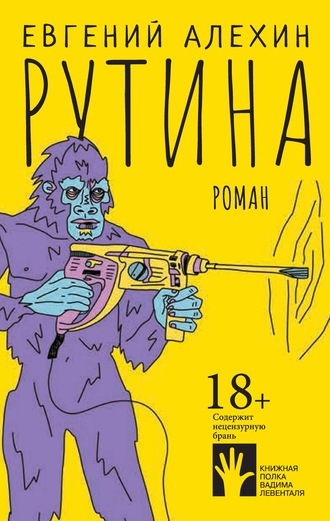
Полная версия
Рутина
Еще был врач в хорошей дурке Кащенко, сразу завоевавший мое расположение, потому что внешне походил на рэпера Басту, но и он дал неверные указания. Выпивать алкоголь можно и нужно, сказал он, чтобы успокаивать работу мысли, но в ограниченных количествах, а вот курить гашиш категорически запрещено, потому что это раскрепощает воображение. Сам я считаю наоборот: выпивать нельзя, даже в небольших количествах – нельзя! Нельзя использовать алкоголь как расслабляющее, как средство снять напряжение мозга, для этого больше подходит спорт, чтение, музыка, прогулки, физический труд – что угодно, но не алкоголь.
Смысл алкоголя для меня в следующем: открыть портал в мир хаоса, путаницы и страданий. Пить есть смысл только запоем или до пищевого отравления. Траву же, напротив, я прописал себе в редких случаях, чтобы давать волю воображению, чтобы напоминать: объективной реальности нет, чтобы видеть одновременно разные ее ответвления, правильно понимать время, быстро отправляться в воспоминания, чувствовать связь с миром природы и испытывать животный страх перед физической смертью. Трава идеально подходит, чтобы натренировать себя. Даже если диагноз «шизофрения» правильный, это не повод отключать зоны мозга препаратами и лишать себя уникального видения мира. Нужно просто научиться работать с телом, приучить его спать. Нужно приучить мозг выбирать одну из реальностей как основную.
Дни мои проходят так: просыпаюсь примерно в шесть и пишу тысячу слов «Рутины», используя Google Документы. Потом еду за овощами для салата, и как раз встает моя жена Даша. Я съедаю салат, потом мы на двоих съедаем кокос по дороге на пляж. Там делаем зарядку, купаемся, она топчется по моей спине – это целебно действует на позвоночник. Весь оставшийся день посвящен мелким делам, обсуждению в чатике работы над альбомом группы «макулатура», который сейчас доделываем с командой, безделью, мечтаниям, бытовым спорам. И правкам книги или дописыванию нормы, если не успел с утра.
Даша не может водить скутер, поэтому, можно сказать, мы – как два узника, прикованные друг к другу. Ей приходится быть свидетелем моих творческих терзаний. То я говорю, что это потрясная книга и что, наконец, я свалю с себя этот груз – мою неотрефлексированную молодость. То, напротив, говорю, что нам надо придумать, как стать нормальными людьми, устроиться на нормальную работу, и что невозможно больше водить людей за нос и прикидываться писателем и реп-исполнителем. Мое творчество слишком поверхностное и глупое.
Даша говорит:
– Ладно, бросай. Не пиши книгу. Деньги найдутся. Играй в кино или иди в офис.
Проблема не в деньгах и не в том, чтобы продать или не продать книгу. Она в том, что писать – единственный для меня способ не впадать в тоску, но когда пишешь, разочаровываешься ограниченностью своих приемов и таланта. Сколько бы другой работы у меня ни было: редакторской, актерской, издательской, – писать книги кажется необходимым. От этого не убежать, даже если книги кажутся недостаточно хорошими. Писать, издавать, открывать их, любить их и стыдиться. Это ведь единственное, что я делаю один, где есть только моя голова (бесполезный ящик) и мой опыт (бесконечный поток однотипной, но всегда немного разной информации). И пока я играю с этими кубиками, переставляю их, пытаюсь придать очертания ненапрасности проживаемой жизни, я и живу. Но мне не хватает красок.
– Ты же сказал, – говорит Даша, – главное, чтобы я заставляла тебя писать. Каким бы результат ни был. Забыл?
От этих слов деваться некуда.
У нас тут есть друзья, Маша и Игорь, мы живем в одном доме, только они на первом этаже, а мы на втором. Вечером мы курим с ними косяк, после чего я предаюсь воспоминаниям, пытаясь приблизить эпизоды прошлого, снова стать собой десяти – двенадцатилетней давности. Это погружение активирует меня на пару часов внутренней работы, а потом глубоко вырубает, и я сплю как труп, пока Даша продолжает читать «Воскресение» Толстого и заниматься своими делами. Сегодня пошел дождь, впервые, как мы здесь, и, видимо, последний в этом сезоне. Дождь – это хороший знак, что надо сделать лирическое отступление и рассказать, наконец, про Вову.
Я уже много лет хочу про него рассказать, с того самого эсэмэс, которое я получил от Сигиты. Измена меня не так обидела, как озадачила: «Зачем ты это сделал, друг?» Помню, как я ехал в маршрутке от Наташи, все пытаясь примириться с этим новым знанием: Вова меня предал, и, хотя я продолжаю его любить, я не могу считать его своим другом. Потому что твой друг может сделать правильный выбор, нажать стрелки «влево-вправо», а не будет идти напролом за своим половым членом.
Это был рок, мое предчувствие сбылось: этот дурной сон про Сигиту и Пьяницу, Наташа, которую я зачем-то использовал, и эта эсэмэс пришла как раз в тот момент, когда надо было отказаться от секса с ней. А если вселенная устроена таким образом, что откажись я, то текст сообщения бы изменился? Эта навязчивая идея долго жила во мне. Я постоянно прокручивал в голове правильный сценарий: Наташа ложится на постель, и я говорю «нет, все-таки давай обойдемся без этого, зачем тебе, я завтра улетаю в Москву, а ты мне нужна, лишь чтобы я убедился, что привязан к другой бабе». И вот я открываю эсэмэс, а там совсем другой текст: «Tvoj drug Vova napilsja i trahnul Pjanitsu».
Тогда и возникло тревожащее меня словосочетание «Прекрасное уходящее» (потаенное название книги, которую вы сейчас держите в руках). Так изначально должен был называться большой рассказ про Вову.
Я разглядывал нашу странную дружбу и не мог писать про Вову. Про то, как он чуть не проломил мне череп в 2003-м. Про то, как он один раз обиделся на меня, а избил Тимофея. Про то, как он вытаскивал меня из передряг. Про то, как они ненавидели друг друга с моей первой девушкой Элеонорой (она даже хотела его убить), хотя Вова приютил нас, когда отец не позволил мне оставить ее ночевать у меня дома. Про то, как он был влюблен в одну нашу знакомую и как не решился сделать ей предложение, и она родила от другого. Приходилось откладывать и откладывать.
Теперь все это скопилось, и я рассказываю про всех друзей сразу, в том числе и про Вову – моего конопатого жилистого друга, в чем-то глупого, в чем-то хитрого, отзывчивого, но заносчивого. На него я смотрю сквозь замутненную другими событиями жизнь. Очень долго всматриваюсь, фокусируюсь на других вещах и как только нащупываю главное в наших с Вовой отношениях, остальное пропадает, и вот он – мой первый в жизни близкий друг.
Мне было девять лет, когда я попал в школу поселка Металлплощадка Кемеровского района. И мое первое воспоминание, посвященное Вове, – как тот дерется с нашим одноклассником Кучей. Это была игровая комната в здании начальной школы. Мы были огорожены от мира старшеклассников, почти все занятия проходили в одном просторном классе, а перемены – в этой самой игровой. Кажется, что их драка состоялась после уроков. Вова и Куча борются, и я – единственный зритель. Здоровый Куча в какой-то момент забарывает маленького Вову, залезает на него и делает трахательное победное движение со словами:
– О, да. Ну ты и кайфуйчик!
Это выглядит очень непристойно, и мне становится стыдно. Я уже вовсю трахал подушку, испытывал холостой оргазм без выделений, лазая по канату, мне снились все знакомые девчонки и родственницы голыми, но вот так показывать «это самое» на людях, еще и об другого человека – мальчика! – кажется мне животной дикостью. Тема секса тогда еще вызывала у нас смущение, а тем более страшно было проявить себя как «гомосек». Я вижу лицо Вовы, оно красное от ярости. Этот голубоглазый малыш орет, скидывает с себя тушу и начинает беспощадно бить Кучу ногами и кулаками, так что тот забивается под лавочку:
– Ах ты псих! Сексуальный псих! Гомосексуалист! – орет Вова.
Куча сдается, Куча плачет. Он повержен.
А мы идем после этого гулять с Вовой, мы подружились. Вместе ходим на борьбу, на легкую атлетику, он часто приходит ко мне в гости поиграть в компьютер. Я прихожу к нему посмотреть фильмы на видеокассетах. Временами я думаю, что он лучший человек – потому что он меня искренне любит.
Мне было восемнадцать, и я переживал разрыв со своей первой любовью, Элеонорой (о ней я писал позже в маленькой повести «Третья штанина» – просто «моя девушка», и рассказе «Ядерная весна» – персонаж Элина). Несколько месяцев я мучился из-за нее, с другими я иногда сосался и даже изредка был секс, но становилось только больнее. Элеонора зависала с одним торчком, я писал много стихов и рассказов, некоторые удавались, но одиночество часто было физически невыносимо. Я сравнивал себя с этим наркоманом, который ей засовывал, неудачливым басистом, одетым как бомж-неформал, с проколами на лице, из которых торчала леска за неимением сережек, и не мог понять, как мне вернуть ее. Очень часто хотелось плакать, иногда я напивался один и, чтобы друзья меня не видели в таком состоянии, ходил и ревел где-то за домами на поселке или уезжал для этого в город. После такого пьяного плача на время легчало. Но один раз меня просто прорвало, и уже плакал даже не из-за самой Элеоноры, она отошла на задний план. Вместо того чтобы поехать на учебу (я тогда учился на филфаке в Кемеровском универе), я проторчал где-то в гаражах, выпил бутылку водки, поспал на крыше одного из гаражей и проснулся, совершенно ничего не понимая, кроме того, что мне хочется пойти к друзьям и поплакаться им.
Меня осенила нелепая идея: мне нужна какая-то легенда. Сперва я направился к своему самому чуткому другу Тимофею. Он материализовался даже не на пороге квартиры, а раньше. Он стоял у собственного подъезда и рубил топориком куски мяса. Никогда, до и после, я не заставал его за таким занятием, но уверен, что это не моя галлюцинация. Он замахивался топориком, по пояс голый, как настоящий мясник, отрубал кусок и кидал его в тазик. Я, завороженный, встал рядом, он даже не сразу меня заметил.
– Тимофей, привет.
– О, Жук. Ты че плачешь?
И я начал рассказывать ему вымышленную историю про то, что у моей вымышленной девушки сегодня случился выкидыш. Тимофей внимательно меня слушал, не забывая орудовать топориком. Когда я выговорился (не прекращая рыдать), Тимофей сказал мне:
– Зайди к Мише. Там Миша и Вова, у них есть водка.
Я еще немного понаблюдал за ним и пошел к Мише. Там уже я плакал и рассказывал эту дурацкую историю при двух зрителях, Мише и Вове. Когда я закончил, Миша сказал:
– Проспись и подумай обо всем. Пить тебе сейчас нельзя.
Мне больше всего на свете хотелось выпить, но вместо того, чтобы попросить рюмку, я сказал:
– Хорошо.
– Пойдем, я тебя провожу, – сказал Вова.
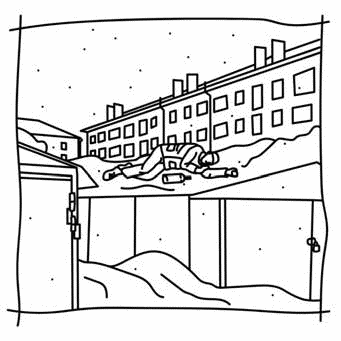
Он даже не стал выпивать на посошок, просто вывел меня и повел на речку. Там мы сели, глядя на воду, и разговаривали о какой-то ерунде. Вова говорил, что у него секс был в жизни всего-то два раза. Я тоже что-то говорил, а потом начинал плакать. Потом Вова сказал:
– Не знаю, зачем ты выдумал эту туфту, Жука. Видимо, тебе надо было проплакаться.
А потом отвел меня домой, крепко обнял, и больше мы никогда не вспоминали об этом этюде.
Я отправил Вове эсэмэс: «Nahuya?» От него ответа не было. Пока я ехал домой в маршрутке, пришло сообщение от Сигиты: «Ty 4to-nibud otvetiw?» Я написал: «U menya net takogo druga, ne ponimayu, o chem rech».
Это был мой последний вечер дома. Мы сидели в Мишиной синей «шестерке» у них во дворе, он тепло нагрел печку, за окнами падал снег. Тимофей и Миша подбухивали, я пил безалкогольное пиво. Я бы им обоим рассказал о своей проблеме, но не хотелось грузить Мишу – у него уже была беременная жена.
Поэтому я решил, что чуть позже выложусь Тимофею один на один.
– Жук, – сказал Миша. – Вот чего хорошего в Москве? Ты отучишься и вернешься?
– Не знаю. Мне не очень нравится Москва. Я думаю переехать в Петербург.
– А там ты что будешь делать?
– Сейчас думал поработать на стройке или еще как-то руками.
Миша покачал головой, нахмурился.
– И зачем было поступать в несколько институтов? Ты сколько раз уже учился?
– Получается, четыре. Два раза здесь, в КемГУ, один раз в «Культуре» и один раз во ВГИКе.
– Четыре раза на первом и один раз на втором, – подытожил Тимофей. – Теперь можно и на стройку.
– А баба твоя? – спросил Миша. – Тоже переедет в Питер?
– С бабой пока все сложно.
Ну вот, подумал я, мы поставим «вконтакте» статус «все сложно» вместо «встречается с». И будем понемногу чинить отношения. Неужели я готов простить эту измену?
Дверь машины распахнулась. В салон заглянул парень по прозвищу Кузьма. Мой бывший одноклассник. Сейчас он досиживал срок, но его уже отпускали домой ночевать.
– О, какие люди!
Я вылез, чтобы обняться с ним. Он немного потусил с нами. Рассказал, как у него дела. Осталась пара месяцев, и будет свободным человеком. Тут еще мимо проходил Пуджик, он же Ушастый, он же толстяк Паша. Парень, с которым у меня была первая рэп-группа, когда нам было по пятнадцать лет. Он тоже сел в машину. Теперь нас было пятеро, мы сидели, шутили, разговаривали. Странно. Вроде бы все уже взрослые, но такие же, как в школе.
Пуджик сказал:
– Коня только не хватает. Где теперь Конь?
– На Север уехал, – ответил Миша.
Конь – это прозвище Вовы. Пуджик стал расспрашивать про него. Про девчонку, в которую Вова был здесь влюблен и с которой у них так ничего и не вышло. Вова настоящий мастер в этом. Он влюблялся всегда только в тех девчонок, с которыми ему ничего не светит. Вдруг слово «переспал» приобрело некоторую прозрачность, сквозь него я увидел, что, скорее всего, Вова влюбился в Сигиту, а не просто переспал с ней. Я оказался прав: в этот самый момент он уговаривал мою девчонку быть с ним. В ее пересказе она трезво отвечала, что не поедет с ним ни на какой Север и чтобы он катился подальше.
– Упустил момент, – сказал Тимофей. – С Вовой Конем всегда так. Не сидится ему спокойно.
Как же мне о нем не думать, как же мне о нем не слушать, думал я, смотрел в окно на снег и пил безалкогольное.
– О, дай попробовать, – сказал Пуджик. – Никогда не пробовал нулевку.
– На, – я протянул ему банку. – Только я бабе сегодня лизал.
Пуджик усмехнулся, я покосился на Кузьму, это было мое прощупывание, отрицание пацанской Буквы. Пуджик взял банку и принюхался к пиву, затем глотнул:
– Ну, нормально. Почти похоже.
– Ага, только у тебя теперь волосина в зубах, – сказал Кузьма, и все засмеялись. Я тоже. Все-таки уважение к отсидевшим в крови даже у меня, хоть моя семья всегда как будто жила в интеллигентском мирке.
Мы вышли с Тимофеем поссать за домом, и я ему все рассказал. Моча текла в снег и дымилась, и меня прорвало. Как он мог, вопрошал я. Почему Вова Конь это сделал?
– Ну что я могу сказать тебе? Соболезную, Жук.
– И что бы ты сделал на моем месте? – спросил я.
– Сдай билет. Объясни отцу, что тебе нужно еще неделю побыть дома, с друзьями.
Когда мы сидели в машине, Тимофей незаметно от остальных протянул мне телефон. Там была такая переписка: Тимофей «Privet, Vova. Kak dela?» – Вова «Трахнул Сигиту. Потерял друга».
Сомнений не осталось: это не сон, это произошло.
Конечно, я не послушался Тимофея и утром сел в самолет. Я всегда очень любил есть в самолете, но на этот раз отказался от еды. Безалкогольное пиво было единственной моей пищей за последние сутки. Мы приземлились в аэропорту Шереметьево. Получил эсэмэс от Сигиты: «Pozvoni, kogda syadesh», но перезванивать не стал. Время поджимало, я побежал на аэроэкспресс. Тогда еще не нужно было платить за него, если был билет на самолет. Но правила менялись от полета к полету. На входе в тоннель показал билет на самолет, но человек мне ответил:
– Вам надо вернуться и распечатать билет на аэроэкспресс.
– Я только что прилетел. Могу по авиабилету пройти? В прошлый раз можно было.

Он сказал, что нет. Я сказал, пожалуйста, поезд же сейчас уедет. Ладно, сказал человек и пропустил меня.
– Но там будет еще один контролер.
Я бежал вниз по эскалатору и успел в вагон. В нем ждала, да, женщина-контролер. На каждом входе было по контролеру, и мне досталась худшая. Никогда не видел такого озлобленного лица у человека этой профессии. Я показал ей авиабилет:
– Не успел обменять, – попытался оправдаться.
– А меня не колышет!
Она двумя руками стала выталкивать меня из вагона. Телефон звонил в кармане. Мне вдруг очень захотелось остаться внутри, снаружи надо было искать новый транспорт, куда-то идти, смотреть на указатели, а здесь лишь пробиться через эту тетку.
– Спокойно! – взвизгнул я, как испуганный поросеночек.
Женщина-контролер оказалась такой сильной, что мне не удалось сохранить свое место. Спустя миг я стоял на перроне, и двери тут же захлопнулись, чуть не отрубив кусок от меня. Мне нужно было продержаться всего секунду, чтобы остаться в вагоне. Женщина-контролер злобно и победно смотрела на меня через стекло. Я не выдержал и приложил к стеклу средний палец, говоря этой суке: «Отсоси!» Ее лицо расплылось в самой омерзительной улыбке, которую я видел в своей жизни. Это чистая правда. Она была счастлива от того, что ей удалось обидеть другого человека. Неважно, что им оказался я. Она была самим злом, и от этой улыбки мне стало страшно, как во сне.
Телефон все еще звонил, поезд ехал, голова кружилась, тошнота поднималась по пищеводу. Я пялился на экранчик телефона, пытаясь очнуться, но просыпаться было некуда. Каждая секунда дробилась на тысячи еще более коротких, но и каждый отрезок был огромным, тяжелым и страшным. Меня сковала боль, я видел все подробно, как накуренный человек видит движение минутной стрелки на настенных часах, процесс превращения меня в stari kashku, происходящий в каждой клетке, и я понимал, что этот процесс будет фоном моего пути, он будет длиться всегда.
Я сбросил звонок и написал: «Da zaebala ty zvonit’».
На перроне кроме меня никого не было. Я поднялся на эскалаторе, вышел на улицу и принялся искать, откуда отходит рейсовый автобус до метро.
Михаил Енотов где-то раздобыл круг для дартса и дротики, чтобы проверить, насколько я хорош в этом деле.
– Мы с Лемом были уверены, что на этом ваши отношения закончатся, – сказал он.
Мой дротик воткнулся в самый край круга:
– Я тоже на какое-то время в это поверил.
Его дротик прилетел почти в яблочко. Мы еще немного поиграли – у меня больше не получалось.
– Не понимаю, – сказал я. – Все было идеально, а теперь нет.
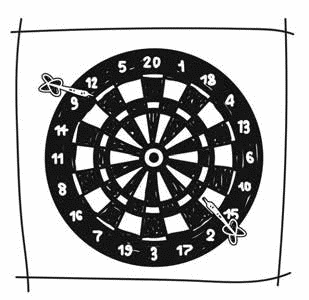
– Нет, – сказал он. – Ты не умеешь ничего – только писать. А писать умеет любая мартышка.
Я попросил его поменяться со мной кроватями. Не мог спать на своей, более широкой, на которой это случилось. Двойное предательство против меня. С другой стороны, на его кровати я трахал Пьяницу.
Подбиралась весна, Сигита жила у мамы, уже где-то месяц мы не спали вместе. Даже не целовались взасос, как будто заново примерялись друг к другу. Я и не думал попробовать сунуть кому-то на стороне, онанизм тоже вызывал тоску. Зато мой первый роман понемногу прибавлял в объеме. Еще у меня получилось сделать отличный рассказ, лучший. Он созревал несколько дней, и написал я его, почти не отрываясь, испытывая головокружение от ощущения своей силы. На следующий день захотелось повторить и закрепить этот успех, но новые рассказы не рождались так быстро. Пусть так. Я продолжил ковыряться в романе, но было много сомнений. Два шага вперед, полтора назад.
Сигитина мама теперь переехала на «Ботанический сад», в однокомнатную, так что, даже если бы я захотел, я бы не смог там ночевать. Поэтому пару раз в неделю приезжал, выгуливал Оскара, пил чай, тихо общался с Сигитой на кухне, целовал в щеку и шел пешком в общагу. На занятия она почти не ходила, а если ходила, то я провожал ее от института до дома и потом шел к себе. Все было рядом, на районе. Снег таял, обнажая грязь, я шел и думал, что потеряю и Сигиту, и Вову, и Илью Знойного. С последним из них было наименее понятно: вот он был близкий и важный, а теперь пытается скрыться в черном ничто.
2
Не так уж плохо – я продержался четыре месяца без алкоголя. За это время у Михаила Енотова появилась девушка, и он довольно буднично потерял свою невинность. Я раз ночевал не в общаге, а в Кузьминках у кемеровского товарища, и получил эсэмэс-сообщение, в котором Михаил Енотов назвал меня обезьяной и сообщил, что тоже умеет трахаться. Уже через несколько дней они расстались, в памяти у меня сохранились только оттопыренные уши и круглое лицо первой девушки одного из главных друзей. Ему и этого было мало: Михаил Енотов перестал есть мясо и в ближайшее время планировал перейти на строгую растительную диету.
Я гордился другом и ругал себя, что до сих пор сам не стал хотя бы лактовегетарианцем. С детства я был уверен, что убийство животных не меньшее (а может быть, и большее) зло, чем убийство человека, и что если я умру раньше, чем переборю омерзительную привычку поедать мясные блюда и воспринимать их как необходимость, то попаду в ад или на предыдущую ступень развития.
Даже если богу не было дела до моих грехов, даже если его самого не было и выбор «рай или ад» – добровольный для нашего духа, я понимал, что из тела, отравленного страхами и физическими мучениями животных, дорога может быть только одна – в пекло. Но запах готовящейся трупчатины всегда действовал как сильнейший наркотик, заставляя забыть всю этику, откинуть понятия милосердия и сострадания, измазаться в этом говне, получить невероятный отупляющий кайф, чтобы потом гладить свою перекормленную тушку и хлопать глазками похабного прогнившего ребеночка, испытывая чувство вины. Но спасибо Михаилу Енотову – он стал первым отказавшимся от мяса человеком среди моих друзей. Для начала хотя бы за компанию с ним я питался так, как, по-моему, в идеале и должен питаться человек.
Стоило моим отношениям вроде бы наладиться, как Сигита напилась с Пьяницей и не пришла ночевать. Мы опять поругались. Я не мог спать, ворочался и прикидывал, как бы мне свалить отсюда, что делать с жизнью вне учебы и вне этого общежития. Утром я вскакивал от каждого шороха, выглядывал в коридор, ожидая Сигиту, но при этом говорил себе: «Пожалуйста, пусть она не придет».
Ко мне в гости тогда заехал молодой писатель и врач из Киева Василий Нагибин. Мы сдружились в гостиничном номере московского отеля, куда нас, финалистов премии «Дебют», как-то поселили ее организаторы. Сейчас он ехал в Петербург по своим делам со своими студентками и длинную остановку в Москве решил перебухать со мной.
Мы выпили водки, и я сказал:
– Мой друг работает под Питером на стройке. Там, может, и для меня место найдется. Я хочу поехать с тобой.
– Так в чем проблема? Нас трое едет в купе. Мы просто возьмем тебя с собой и спрячем, – сразу же ответил Василий Нагибин.
– И твои студентки не против?
– Конечно, нет, они будут только за!
Я посмотрел на студенток. Одна из них обняла меня и сказала, что да, конечно, они спрячут меня. Не помню ни ее лица, ни имени, только это ободряющее объятие, благодаря которому я осмелился поменять жизнь. В животе моем плескалась водка, спустя четыре месяца я снова был пьян, и это было здорово, странно и празднично.
– Допустим, вы все не против. Но там же будет еще пассажир?
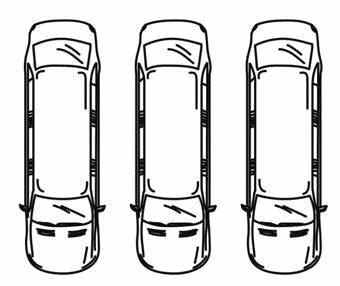
Василий Нагибин махнул рукой:
– Придумаем что-нибудь. Главное, чтобы ты решился.
Тогда я сказал:
– Ладно. Если мы допиваем водку, а Сигита не возвращается в комнату, я еду с вами. Если она вернется, я беру деньги в долг и бегу покупать обручальное кольцо.
Мы выпили, время подошло. Я быстро накидал самое необходимое в сумку, попрощался с Михаилом Енотовым и Лемом, взглянул в окно на лимузины, осмотрел стены конуры и поехал на вокзал с Василием Нагибиным и его студентками. Зашел в вагон как провожающий, прошел с ними в купе.
– И что же теперь, а? – спросил я.
– Не знаю.
До этого я никогда не был в купейном вагоне. Тут, прямо над входом, был отсек для матрасов и одеял, и, если вытащить их оттуда, он идеально подходил для одного безбилетника. Я залез туда. Василий Нагибин и студентки расселись. Вошла женщина средних лет – тот самый четвертый пассажир.
– Простите, – сказал Василий Нагибин. – Не пугайтесь, пожалуйста, это наш друг, ему надо в Петербург, и мы везем его зайцем.
Женщина подняла на меня взгляд. Мы пару секунд смотрели друг на друга. Я попробовал дружелюбно улыбнуться:
– С девушкой расстался.
– Хорошо, – сказала женщина, кивнула и стала смотреть в окно. Скоро поезд тронулся, зашла проводница, проверила у них билеты, а я все лежал на верхней полке, в этом тесном закутке. Женщина не сдала меня, проводница вышла. Я тихонько посмеивался, тихонько поскуливал. Потом мы пошли пить пиво в тамбур, а потом Василий Нагибин сказал мне лечь на постель, поскольку я – гость в его купе.