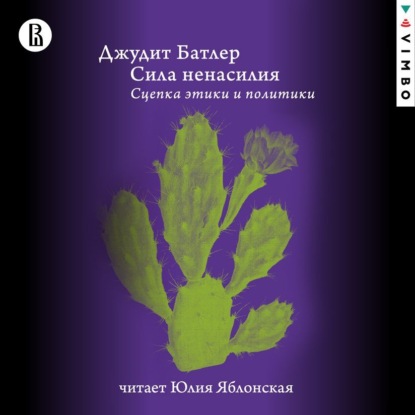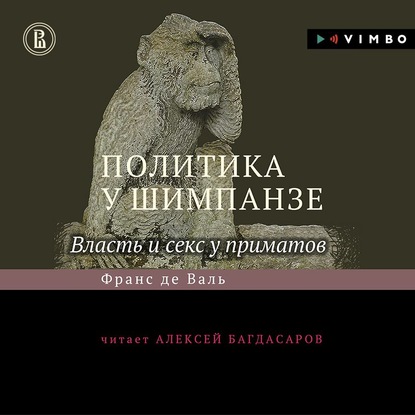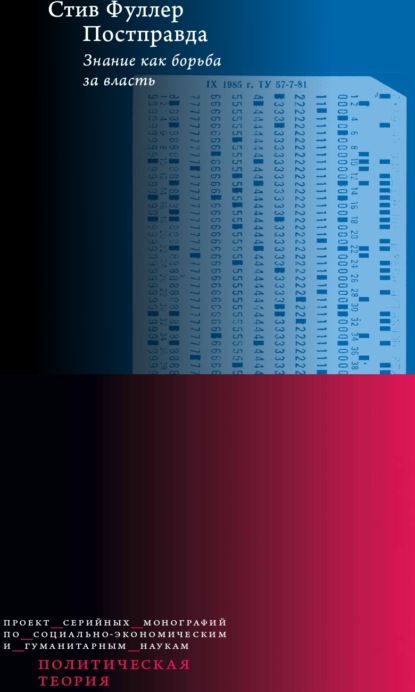Полная версия
От марксизма к постмарксизму?
3. Способность правых к применению насилия, фатально недооцененная левыми, привела к кровавым поражениям: Индонезия в 1965‐м, южная оконечность Латинской Америки в начале 1970‐х годов, затянувшаяся, но в пропорциональном отношении даже более смертоносная схватка в Центральной Америке.
4. Развал социалистического лагеря в 1990‐е годы был в историческом отношении негативным фактором для левых (как для некоммунистов, так и для коммунистов): возможность достижения жизнеспособного некапиталистического общества потеряла значительную часть своего кредита доверия. Кончина коммунизма не была ни героическим поражением, ни результатом ускорившихся процессов разложения. На самом деле это была ирония судьбы. И в Советском Союзе, и в Китае начало конца было положено волной радикальных и неожиданных внутренних реформ; в обеих странах развязка наступила именно как непредвиденный результат успеха этих реформ. В Советском Союзе реформы были в значительной степени политическими и демократическими; они погрузили плановую экономику в хаос и в конце концов сыграли на руку националистически настроенным политикам. В Китае они были в большей степени экономическими, и им потребовалось больше времени для того, чтобы разорвать в клочья социалистическую политику, одновременно глубоко разложив однопартийное государство. Восточная Европа обогнала СССР, освободившись еще до его окончательного распада, а коммунистическая Юго-Восточная Азия последовала за Китаем с относительной осторожностью.
Двум небольшим коммунистическим режимам, тем не менее, удалось остаться самими собой используя совершенно различные стратегии выживания. В результате национальной изоляция северокорейский коммунизм мутировал в династическое государство с баллистическими ракетами и массовой нищетой. Куба выжила, сохранив революционную целостность режима, хотя едва ли можно утверждать, что это государство является менее авторитарным, чем было раньше. Ее внутренняя стратегия заключалась в том, чтобы вновь стать крупным международным курортом. В то время как туризм в действительности является индустрией будущего, менее очевидно, что пляжный отель может быть социальной моделью в среднесрочной перспективе83.
5. Еще одна трудность для левых: неолиберальная экономическая политика реально принесла определенные материальные выгоды, и ее нельзя было объявить полным провалом правых. Неолиберальные правительства сумели обуздать инфляцию, что стало значительным политическим активом в 1990‐е годы в Аргентине, Боливии, Бразилии, Перу и многих других странах. Открытие мировых рынков означало появление новых возможностей для огромного числа людей. Некоторые приватизационные инициативы преуспели не только в предоставлении большего числа привилегий для меньшинства, но и в оживлении инвестиций, а также в предоставлении услуг: телекоммуникации служат тому ярким примером.
6. Геополитические события на государственном уровне значительно повлияли на баланс левых и правых сил. Вот краткий список этих важнейших событий. Раскол между Китаем и СССР, позднее воспроизведенный Пол Потом в конфликте с Вьетнамом, разделил и деморализовал левых, одновременно резко укрепив позиции правых. Распад государств в независимой Африке, начавшийся в Конго в 1960 году, оставил мало пространства для проведения левой политики и реализации левых инициатив на континенте – ограничение, закамуфлированное на некоторое время геополитическим союзом некоторых лидеров с СССР. Катастрофическое поражение в войне с Израилем в 1967 году дискредитировало и деморализовало секуляризованных арабских левых по всему региону и взрастило агрессивных религиозных фундаменталистов как среди арабов, так и среди евреев.
В дополнение к перечисленным успехам и провалам следует отметить, как в целом изменились характеристики политического пространства на протяжении данного периода. Опять же у нас есть место лишь для того, чтобы указать на влияние некоторых из этих процессов на баланс сил между правыми и левыми. Во‐первых, произошел рост популярности экологической политики, которая резко усилилась во время нефтяного кризиса середины 1970‐х годов. Будучи более критично настроенными по отношению к капиталу, чем к рабочей силе и труду, представители этого течения поставили под вопрос фундаментальную левую перспективу развития промышленности и, возможно, оказались более терпимыми к безработице и экономическому неравенству, чем это было характерно для традиционных левых. Во‐вторых, политики, выступавшие за этническую и сексуальную идентичность, приобрели гораздо больше влияния в некоторых частях света. Их отношение к социально-экономическим вопросам часто двусмысленно – они, например, критически настроены по отношению к неравенству, которое влияет на их группы или сообщества, но не по отношению к тем или иным видам неравенства в целом.
Влияние технологийНовые достижения в научном знании и технологическом развитии на протяжении последних 40 лет также имели значительное влияние на политическое пространство. В первую очередь следует отметить влияние технологий на ускорение промышленного производства, вылившиеся в относительную деиндустриализацию и, как следствие, исчезновение традиционной среды существования рабочего класса. Телевидение способствовало созданию новых ориентированных на домашнее существование общественных отношений и политики, более сфокусированной на визуальности. Дальнейшее развитие в области телекоммуникаций – спутниковое вещание, мобильные телефоны, e‐mail и Интернет – имело неоднозначные последствия, разрушая одновременно и коммуникации в сфере услуг, и возможности общественного контроля84. Наконец, спустя более чем столетие после Дарвина, биология в очередной раз стала площадкой для распространения знания и технологий и наряду с этим – для культурной идеологии. Политическое поле будущего, несомненно, будет содержать значительный элемент «политики жизни» по таким вопросам, как здоровье, окружающая среда, борьба со старением, генная инженерия, вопросы этики и качество жизни.
Культуры критики
Критическое мышление зависит от культурной почвы. Чтобы быть осмысленной, критика должна отталкиваться от определенных предпосылок или принципов, укорененных в ее объекте. Просвещение и вытекающие из него традиции предоставили идеальную отправную точку для левой критической мысли. Критическое исследование, которому не препятствуют существующие авторитеты и убеждения, было заложено в смысловом ядре Просвещения – sapere aude! (Дерзай знать!)85. Его универсалистский принцип разумности послужил трибуналом для критических выпадов против мудрости предков и самопровозглашенных наследников Просвещения.
Европейская современность культурно и философски развилась из Просвещения, а в политическом отношении – из Великой французской революции. Ее политическая культура была сосредоточена на противостоянии между народом/нацией и монархом, его аристократическим окружением и высшими церковными иерархами. Хотя у сил, поддерживавших status quo, были сильные институциональные и интеллектуальные ресурсы, на которые они могли опереться, культура европейского модернизма стала плодородной почвой для радикальной критической мысли; Европа после 1789 года стала главной мировой ареной для идеологических конфронтаций. Так что же в действительности происходило с правами человека, со свободой, равенством и братством в условиях промышленного капитализма и политики землевладельцев? Концепт класса был сформирован еще до Маркса в первых прорывах европейского модернизма, в рефлексии над промышленной революцией в Великобритании и над Великой французской революцией. Ценность, приписываемая «прогрессу», как правило, подрывала базовые положения консерватизма.
Как я более полно аргументировал это в других контекстах, современный разрыв с прошлым принял разные формы в разных частях света – европейский путь; путь, который подошел поселенцам в Новом Свете; колониальный путь и путь модернизации сверху.
В новом мире американских поселенцев после обретения независимости современная мысль стала конвенциональным мейнстримом, которому бросали вызов противники в лице католического клерикализма в Колумбии и в некоторых других частях Латинской Америки. Главным в обеих Америках был не вопрос «Что такое права человека?», но скорее «Кто такие люди?». Включает ли понятие «человек» коренное население? Черных? Неотесанных новых мигрантов? Суммируя политическую культуру Нового Света, выделим два особо важных аспекта. Во-первых, в США либерализм – в широком смысле как защита свободы (частных практик, частной собственности, личных убеждений) и приверженность науке и прогрессу (разуму) – имел гораздо более прочную интеллектуальную хватку, чем в Европе, обычно, если не всегда, отодвинутый в этом регионе на второй план социалистической критикой. Во-вторых, из-за гораздо менее выраженных идеологических различий в Америке марксистская мысль и политика в некоторых случаях гораздо легче сливались с мейнстримными политическими течениями, такими как Новый курс, креольский популизм на Кубе, в Гватемале и Аргентине в 1940‐е годы или чилийский радикализм 1960–1970‐х годов.
Антиколониальный модернизм колонизированных стран – перспектива, также взятая на вооружение в Латинской Америке теми, кто не признавал поселения креолов, – значительно благоприятствовал радикализму. Современные колонизированные – поколение Неру, Сукарно, Хо Ши Мина и Нкрумы – вероятно, были людьми, наиболее остро испытавшими на себе противоречия либерально-европейской реальности. С одной стороны, они, изучая их язык, их культуру, политические принципы нации/народа, права и принципы самоопределения, идентифицировали себя с агрессором, колониальной властью. С другой стороны, они пережили отказ в правах и самоопределении для своего народа, столкнулись с заносчивостью и стальными кулаками либерального империализма. Социалистический радикализм, как коммунистический, так и некоммунистический, был способом мышления, пропитывавшим все стороны антиколониального национализма после Второй мировой войны.
Реактивная модернизация сверху, напротив, оставляла мало пространства для радикальной мысли. По определению она означала инструментализацию нации, политики, науки и прогресса, с учетом сохранения режима перед лицом внешней – реальной или выдуманной – империалистической угрозы. С тех пор как свобода, равенство и братство были предопределены в мейнстриме как средства усиления режима, их неотъемлемые общественные противоречия были оставлены или отодвинуты на второй план. Это, конечно, не предотвратило развитие радикальных течений наряду с современными в целом идеями в Японии, Сиаме, Турции и деколонизированном арабском мире. Там, однако, они столкнулись с менее плодородной почвой и более репрессивным контролем.
Модернизм – с его приверженностью разуму, науке, изменениям, прогрессу и будущему – не был по своей сути левоориентированным. (В третьей главе разбираются различные «большие нарративы» современности и их отношение к марксизму.) В конце XIX века традиционалистский консерватизм получал все большую поддержку, и в Америках его обогнали правоориентированный модернизм, который расхваливал первостепенные права сильнейших и наиболее приспособленных. Это были социальный дарвинизм и новый язык либерального империализма, два важных ингредиента фашизма ХХ столетия. Тем не менее после Сталинграда и Освенцима этот расистский, империалистический и милитаристский модернизм был побежден и совершенно дискредитирован. Немилитаристский laissez-faire86 социального дарвинизма, пропагандируемый среди прочих Гербертом Спенсером, будучи очень влиятельным в США, с его позицией в отношении антагонизма между индустриализмом и милитаризмом, был опровергнут Первой мировой войной, а его экономические положения уничтожила Великая депрессия 1930‐х годов.
После Второй мировой войны модернизм был невероятно близок левым взглядам во всех частях света, за исключением в основном стран, включенных в процессы реактивной модернизации. Затем, в 1980‐х годах, случился сход лавины постмодернизма. В тот же самый период, когда произошло затмение политического марксизма, можно было наблюдать и отказ от современности во имя постсовременности и подъем постмодернизма. У последнего было по меньшей мере два разных источника87. Первый – это эстетика: мутация модернистского наследия авангарда, наиболее развитая в области архитектуры как реакция против аскетизма высокого модернизма Миса ван дер Роэ и интернационального стиля. Другой источник относится к области социальной философии – это манифестация усталости и фрустрации бывших левых. Ключевая фигура здесь – французский философ Жан-Франсуа Лиотар, разочарованный бывший боец крайне левой группы «Социализм или варварство»88.
Почему постмодернизм оказался столь внушительным вызовом? Почему в постсовременности «крайне нуждались, интуитивно жаждали и отчаянно к ней стремились», как это выразил один из ее ранних приверженцев, благодаря скептическому ретроспективному рассмотрению?89 Эстетическую привлекательность легко понять как прежде всего иную манифестацию безжалостного модернистского стремления к обновлению; как то, что влияет на специфические формы модернизма, будет находиться в оппозиции к его непосредственным предшественникам/врагам, равно как понятен и социокультурный контекст. Но все еще остается вопрос теоретического и политического значения постмодернизма. Здесь Джеффри Александер схватывает один важный аспект, когда делает вывод, что «теория постмодерна… может рассматриваться как попытка исправить проблему смысла, порожденную переживаемым провалом “шестидесятых”»90.
Все это включало примечательное смешение гениальной прозорливости и близорукости. В культурной области важные изменения очевидно имели место между работами, скажем, Миса ван дер Роэ и Роберта Вентури, или Джексона Поллока и Энди Уорхола – изменения, возникшие в 1960‐х годах и задавшие новый эстетический тон последовавшим десятилетиям. Эти процессы заслужили анализа нового вида культурного производства, такого, который провел Фредрик Джеймисон в книге «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма»91. Но даже самые лучшие попытки соотнести культурный анализ с социально-экономическими трансформациями никогда полностью не увенчивались успехом, чтобы отобразить связи между этими феноменами. Джеймисон основывает свой подход на «Позднем капитализме» Эрнста Манделя, изображающем послевоенный экономический мир, возникший в 1960‐х годах. Мандель в значительной степени фокусировался на государственном регулировании капитала и его непреодолимых ограничениях, так что Джеймисон не обсуждает «поздний» капитализм после 1975 года или всплеск неолиберального модернизма правого толка92. Несмотря на свои эпохальные достижения, постмодернизм мутировал в набор культурных и политических нападок на современность и модерн – слабость в области академической аналитики93. Вне специфических кругов архитекторов и деятелей искусства он в значительной степени обращался к левым и бывшим левым, включая феминизм, и уделял скудное внимание одновременному подъему модернизма правого толка, которое приняло вид неолиберализма или агрессивного капитализма94.
Вместо этого постмодернизм питался деморализацией и неуверенностью левых, последовавшими за концом эйфории 1960–1970‐х годов. Его критика разума и рациональности процветала за счет «фабрики образов» общества телевидения, обеспечивая поддержку академическим cultural studies95. Плюс ко всему существовали еще два столпа новой доктрины постсовременности. Один из них – это социальное реструктурирование, которое вылилось из деиндустриализации, – эпохальный социальный сдвиг. Другим была критика модернистского прогресса, появившаяся из осознания экологических проблем, которые были интенсифицированы нефтяным кризисом 1970‐х – начала 1980‐х годов. Экологизму, возможно, и было тяжело процветать в эзотерической атмосфере постмодернистского философствования, но его последователи оказались восприимчивы к постмодернизму. В самом деле, массовое тиражирование визуальных образов, деиндустриализация и экологические последствия предоставили социальную эко-комнату для постмодернистского дискурса дезориентации (экс)левых. В противовес этому модерн – объект постмодернистских нападок – определялся самыми разными способами. В книге Джеймисона «Сингулярная современность», к примеру, угрюмо отмечаются «регрессии» от более раннего «консенсуса» вокруг «полной постсовременности», обсуждаются аскетизм модернизма, его фаллоцентризм и авторитаризм, телеология его эстетики, его минимализм, его культ гения и «неприятные запросы», которые были предъявлены аудитории и публике96.
Хотя интеллектуальная волна постмодернизма в настоящее время ослабела, правое возрождение правого модернизма никуда не делось. Заражение социального дарвинизма фашизмом замели под ковер, однако глобализация определяется как выживание наиболее приспособленного, свободная от спенсерианского пацифизма и сопровождаемая громкой барабанной дробью неоимпериализма. «Модерн» становится собственностью либеральной реакции. «Модернизация» рынка труда обычно означает увеличение прав капитала и работодателей. «Модернизация» пенсионной системы, в общем, означает уменьшение прав пожилых людей. За этим термином редко скрывается расширение прав наемных рабочих, безработных или пенсионеров, и сокращение – для капитала или государственных служащих. Если представить социалистический модернизм одним из видов животных, то он находится на грани вымирания.
Прогрессивная академическая культура пришла в упадок, а постмодернизм превратился в социокультурные исследования – тенденция, которая теснее связана с сужением политических возможностей extra muros97, чем вид опасных внутренних антилевых позиций, появившихся внутри Французской академии и в определенных посткоммунистических кругах. Вдохновленная Марксом и когда-то сильная университетская экономическая наука в Японии, которая пережила великий послевоенный бум, иссякла; радикальная историография в Индии, похоже, потеряла свою впечатляющую динамику; а в Латинской Америке политические эссе левых интеллектуалов вышли из моды. Государственные университеты потеряли многих из своих лучших исследователей, перешедших в правоориентированные институты. Массовая приверженность марксизму в континентальной Европе и Латинской Америке сошла на нет. Университетские студенты не только были деполитизированы, их движения также диверсифицировались и ныне включают предназначенные для уличных боев ударные отряды, поддерживающие либерально-демократические, проамериканские «цветные революции» в Сербии, Грузии и на Украине, таких как античавистская оппозиция в Венесуэле.
Академия, аналитические центры и государственные исследовательские институты, тем не менее, все еще поддерживают широкий диапазон марксистской и левой мысли. Политически более изолированные англосаксонские университеты справляются с этим лучше, чем латиноамериканские, которые всегда более восприимчивы к политическим движениями и амбициям. Нонконформизм все еще хорошо представлен в Оксбридже и в Лиге плюща, так же как и в лучших университетах Сан-Паулу и Сеула. Отчасти их силы черпаются из более опытного поколения, которое представляют интеллектуально ориентированные студенческие радикалы конца 1960‐х – начала 1970‐х годов, достигших профессорских званий. Но в последние 5–10 лет расцвело новое, хотя и меньшее по размеру, левоцентристское интеллектуальное поколение.
Имели место и институциональные обновления. Одним из примеров является оживление деятельности Латиноамериканского совета по социальным наукам (КЛАКСО) под руководством Атилио Борона и до недавнего времени Эмира Садера, которым оказывают финансовую помощь шведские и другие иностранные фонды. КЛАКСО финансирует прогрессивные эмпирические исследования и в целом стал важным вдохновляющим примером; в деятельность совета входит мониторинг протестных движений в Латинской Америке, которые в 2000‐е годы вылились в увеличившееся количество акций, а также продвижение контактов по линии Юг – Юг98. Более слабый африканский эквивалент КЛАКСО, Совет по развитию экономических и социальных наук в Африке (КОДЕСРИА) со штаб-квартирой в Дакаре не так давно получил второе дыхание. Среди исследовательских центров ООН можно найти несколько продуктов ранней прогрессистской эры, в частности из стран третьего мира, которые отлично работают, при этом не забывая о дипломатической осторожности. Латинская Америка тоже была важным центром мысли и анализа культур глобализации, что можно обнаружить в работах Октавио Ианни и Ренато Ортиса в Бразилии или, например, у Нестора Гарсиа Канклини в Мексике99.
Всегда существовал сильный маргинальный антимодернизм субальтерна, нашедший свое красноречивое выражение в истории рабочего класса Э.П. Томпсона в Англии и многотомнике «Исследования субальтерна» Ранаджита Гухи и его коллег в Индии. Этой работе симпатизировал теоретик Джеймс Скотт100. Марксистское рабочее движение обычно могло использовать его в социалистической критике индустриального капитализма. Но сейчас, когда марксистская диалектика потеряла большую часть своей силы, необходимо систематически описать, пусть и кратко, ныне существующие политические импликации антимодернизма.
Здесь нам интересны движения, критикующие модернизм, которые, тем не менее, не являются сторонниками традиционных привилегий и правых властей. Таких движений несколько, и они стремятся к тому, чтобы объединиться в две группы, одна из которых ставит под вопрос призыв к «прогрессу», «развитию» и «росту», а другая – примитивный «рационализм» и секуляризм.
Среди разнообразных критик прогресса и развития есть одна, которая перекочевала из эпохи промышленной революции в постиндустриальный мир: защита традиционных средств к существованию ремесленников, крестьян, маленьких фермеров, рыбаков и племенных сообществ. Подобная зашита легко поддерживается антикапиталистически настроенными левыми в оппозиции и была воспринята ныне существующим Всемирным социальным форумом. «Мы не хотим развития. Мы просто хотим жить», – гласил заглавный баннер в Мумбаи в 2004 году. Однако, выраженный в сильных, но неточных терминах, он не имеет никакого смысла для мировой общественности, которая борется за то, чтобы выбраться из бедности. Как движение против экономического развития эта позиция часто распадается на изолированные малозначительные баталии, пользующиеся неэффективной и ограниченной поддержкой.
Всемирный социальный форум (ВСФ) 2000‐х годов повлек за собой сходные антимодернистские протестные движения в разных странах и на разных континентах, а также предложил им платформы и благодарную публику. Но это было возможно лишь потому, что ВСФ – лишь форум, площадка для встреч, на сегодняшний день наиболее любопытная за последние 20 лет, – но не движение или даже активная сила. Создаваемая на форумах критическая культура родилась из сопротивления неолиберальному модернизму. Глобальная амплитуда нападок последнего породила большое число неудачников и критиков, которых объединила вместе в рамках присущего движению латиноамериканского стиля в 2001 году разнообразная коалиция бразильских социальных движений и французских ученых и журналистов, сгруппировавшихся вокруг ежемесячной газеты «La Monde Diplomatique»101. Значительная организационная инфраструктура была предоставлена представительствами Рабочей партии в Порту-Алегри и Риу-Гранди-ду-Сул, Коммунистической партии Индии (марксистской) [КПИ(м)] в Мумбаи, а также французами и другими троцкистами в альтернативном глобализации движении ATTAC. Но в своем идеологическом экуменизме, отсутствии единого управленческого центра и действительно глобальном характере ВСФ представляет собой по-настоящему новый феномен в мировой истории левых. Вместе с тем существование стимулирующего культурного пространства не становится действием, автоматически меняющим реальность, что, в конце концов, привело к напряженным спорам в рамках широкого Интернационального совета ВСФ102.
Другое течение, старое как сам модернизм, приводится в днействие приверженностью к естественному или эстетическому стилю жизни, изначально мыслимому как протест против массовой, уродливой и нездоровой урбанизации. В 1960‐е годы, прежде всего в Западной Европе и Северной Америке, это привело к возникновению влиятельного урбанистического движения против уничтожения городских исторических центров с целью создания пространства для шоссе и коммерческой застройки. Оно одержало несколько важных побед в больших городах, таких как Амстердам, Париж и Вашингтон (округ Колумбия), наряду с маленькими местечками вроде Лунда, моего старого университетского городка в Швеции. С тех пор оно распространилось по миру. Радикально настроенные левые – и в значительно меньшей степени социал-демократы и их левоцентристские эквиваленты – обычно играли активную роль в этих урбанистических движениях, а широкие, победные коалиции доказали свою оправданность. Политическая ирония заключается в том, что такие коалиции, как правило, включали сильную компоненту культурных консерваторов правого толка, так что заслуга в успехах оправданно может быть предметом притязания как правых, так и левых. Тем не менее загрязнение и транспортная перегруженность азиатских городов, и вообще городов третьего мира, свидетельствует о слабости и настоятельной необходимости в критических городских движениях.