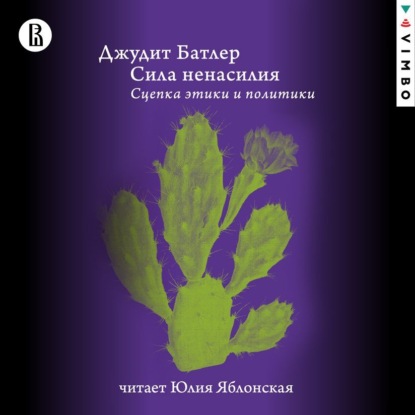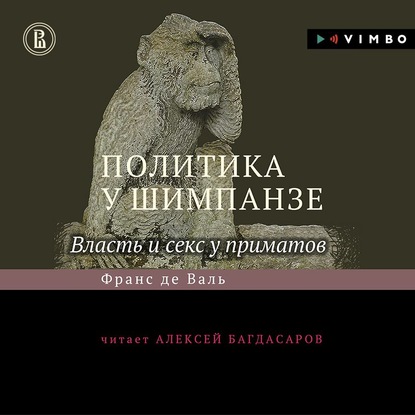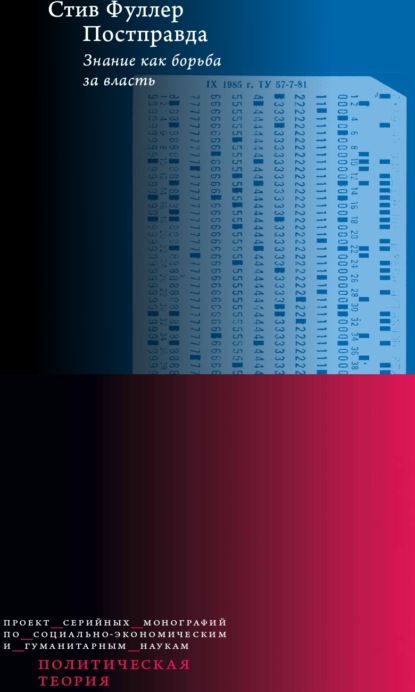Полная версия
От марксизма к постмарксизму?
Азиатские государства развития были более озабочены политическим и культурным протекционизмом против нежелательных иностранных влияний, часто занимая авторитарную националистическую позицию. Япония и Южная Корея сдержанно, но эффективно боролись против иностранных инвестиций. Попытки Международного валютного фонда и стоящих за ним США использовать кризис в Юго-Восточной Азии 1997–1998 годов, чтобы принудить региональные экономики стать более открытыми, были успешными лишь отчасти; Малайзии удалось выпутаться, наложив ряд контролирующих предписаний трансграничным передвижениям капитала.
Несостоявшиеся государственные формыВместе с тем экономически замкнутые на себе страны с низкой интенсивностью торговых связей столкнулись с серьезным кризисом. За исключением Северной Кореи, которая все еще остается на плаву, закрытые коммунистические модели схлопнулись. Китай, Вьетнам, Камбоджа и Лаос встали на новый курс: в пропорциональном отношении у Китая сейчас гораздо больше иностранных инвестиций, чем у Латинской Америки. Кубе удалось выжить, несмотря на блокаду со стороны США – даже после исчезновения Советского Союза, – в значительной степени посредством мутации в объект туристического притяжения, а также при помощи капитала из Италии, Канады и Испании (хотя в настоящий момент этот капитал уступает средствам, поступающим из Венесуэлы, а также выплаты за медицинские и образовательные услуги). В Африке постколониальные государства с национальными «социалистическими» амбициями потерпели крах из-за недостатка как административных, так и экономических компетенций, а также отсутствия подходящей национальной политической культуры. У Южной Азии были изначально лучшие стартовые условия, в которые входит квалифицированная управленческая элита, значительный слой буржуазии и демократическая культура. Но результаты оказались разочаровывающими, а дискриминирующая система образования и низкий экономический рост привели к увеличению числа бедных. Даже после того как Индия встала на путь экономического роста, она остается крупнейшей по числу бедных на Земле. Около 40% от общего числа бедных (те, кто живет менее чем на 2 доллара в день) находятся в Южной Азии, составляя 75–80% населения региона. Поворот 1950‐х годов к импортозамещающей индустриализации в Латинской Америке принес определенный успех, особенно в Бразилии. Но к 1970‐м и 1980‐м годам стало очевидно, что ситуация с подобной моделью зашла в тупик. К тому моменту весь регион оказался в глубоком экономическом и политическом кризисе. Традиционалистские, ориентированные на внутренние проблемы государства, такие как франкистская Испания, также были вынуждены меняться: начиная с 1960 года Испания приняла новый курс, сконцентрировавшись на массовом туризме и привлечении иностранных инвестиций. Широко распространенные кризисы, с которыми сталкивается этот тип ориентированного на внутренние проблемы государства во всех многочисленных проявлениях – на резком контрасте с успехами двух основных вариантов направленных вовне государственных форм, – должны иметь общее объяснение. Оно, вероятно, может быть представлено нижеследующими соображениями. В период, последовавший за Второй мировой войной, произошел новый подъем международной торговли – хотя вплоть до начала 1970‐х годов она так и не достигла показателей 1913 года. Однако более важным, чем масштаб, был сам характер развития торговли. Как стало ясно к концу ХХ столетия, объемы международной торговли со временем смещались от обмена необработанного сырья на промышленные товары – обмена, который доминировал в эпоху экспортной ориентации Латинской Америки, – к возрастающей конкуренции между производителями промышленных товаров. Одним из последствий этой торговли между промышленно развитыми странами стало стимулирование технологического развития; таким образом, страны, находившиеся в стороне от активности на мировом рынке, упустили возможности этого этапа. К началу 1980‐х годов, когда СССР наконец удалось обогнать США в производстве стали, он уже стал индикатором экономической отсталости, а не признаком индустриальной мощи. Где-то между энтузиазмом от запуска «Спутника‐1» (1957) и докризисной стагнацией 1980 года Советский Союз, который всегда заимствовал индустриальные задачи и модели на Западе (в первую очередь в США), утратил технологическую динамику. Западный постиндустриальный поворот и новые возможности электроники были обнаружены советскими и восточно-европейскими планировщиками слишком поздно.
Тогда государство все еще могло защищать свою форму и осуществлять собственную политику в условиях актуальной глобализации – при условии, что его экономика могла быть конкурентоспособной на мировом рынке. Для классических левых это стало новым вызовом, но это было нечто такое, вместе с чем выросло скандинавское рабочее движение в маленьких, слаборазвитых обществах, которые обратили свое внимание на производство конкурентоспособного экспорта силами достаточно квалифицированного труда.
Корпорации и государстваОтносительное экономическое значение крупнейших корпораций выросло на протяжении последнего исторического периода, создав концентрацию капитала, как это предвидел Маркс. В 1905 году 50 крупнейших по капитализации корпораций США владели активами равноценными 16% ВНП. К 1999 году активы 50 крупнейших индустриальных компаний США возросли до 37% ВНП. Для десяти крупнейших индустриальных компаний Великобритании повышение было с 5% ВНП в 1905 году до 41% в 1999‐м, из которых Vodafone, крупнейший мобильный оператор в мире, имел долю в 18%68. В сравнении с ростом государства, тем не менее, корпоративный рост не всегда выглядит столь впечатляющим. Удивительно, хотя цифры не до конца сопоставимы, кажется, что государство США на протяжении ХХ века росло быстрее, чем промышленные корпорации (впрочем, для Великобритании верно обратное). Между 1913 и 1998 годами государственные расходы США увеличились более чем в 4 раза, поднявшись с 7,5 до 33% от ВНП; в Великобритании они утроились, с 13 до 40%69. В Швеции государство в темпах роста также опережало корпорации. Основные фонды трех крупнейших промышленных корпораций страны, составлявшие 11–12% ВНП в 1913 и 1929 годах, упали до 5% в 1948‐м и достигли 28–29% в 1999 году. Государственные налоги вместе с тем поднялись с 8% ВНП в 1913 году до 52% в 1997‐м.
В более близкое нам время соотношение роста между транснациональными корпорациями и национальными экономиками куда более детализировано. Доход – показатель, не всегда доступный для долгосрочных сравнений, – десяти крупнейших мировых корпораций уменьшился по сравнению с крупнейшей национальной экономикой мира. В 1980 году доходы корпораций от продаж составили до 21% ВНП США, а в 2006‐м – лишь 17%; в 1980 году корпоративные доходы в 3 раза превышали ВНП Мексики, а в 2006‐м они были уже всего лишь в 2 раза больше ВНП Мексики, чье население на тот момент было около 105 млн человек. Мы, тем не менее, сталкиваемся с возросшим значением частного капитала. В 1999 году совокупный доход 500 крупнейших мировых корпораций составлял до 43% мирового производства. Только их ежегодные прибыли были на 29% больше, чем ВНП Мексики, чье население в 1999 году было около 97 млн человек70. Именно благосостояние, а не доход корпораций вырос по отношению к государствам и национальным экономикам. Противореча многим современным предположениям, корпоративный доход не поспевал за ростом ключевых экономик в последние два десятилетия71.
Рыночная динамикаМеждународные рынки выросли даже больше, чем корпорации. Финансирование войны США во Вьетнаме было, вероятно, одним из поворотных пунктов в экономической истории ХХ века: это помогло появиться новому международному валютному рынку с гигантскими потоками капитала, и американские военные закупки сыграли ключевую роль в ускорении динамики развития стран Восточной Азии. В мировом масштабе товарооборот биржевого рынка вырос с 28% мирового производства в 1990 году до 81% в 1998‐м. Капитализация биржевого рынка США выросла с 40% ВНП в 1980‐м до 53% в 1990‐м, а затем и до 150% в начале 2001 года, с учетом падения после пика в пределах 180%72. Транснациональные потоки капитала невероятно ускорились, не только – и даже, вероятно, не главным образом – из‐за инноваций в коммуникационных технологиях, но из-за институциональных изменений. Можно назвать два таких изменения, первое из которых – это международный валютный рынок. Послевоенная валютная система, установленная в Бреттон-Вудсе, рухнула в начале 1970‐х годов. Международная торговля валютой вскоре превратилась в гигантское глобальное казино, объемы которого в 12 раз превышали мировой экспорт в 1979 году и в 61 раз в 1989 году, затем выровнявшись на отметке этого altiplano73. В апреле 1998 года ежедневный оборот иностранной валюты в мире был в 3,4 раза больше ВНП Мексики за целый год. С осени 1998 года, тем не менее, после представления евро и негативных последствий от азиатского кризиса среди прочих факторов, торговля валютой значительно уменьшилась. В апреле 2007 года ежедневный оборот иностранных рынков обмена валюты составлял 3,2 триллиона долларов, больше, чем годовой ВВП третьей экономики мира, Германии, который в 2006‐м составлял 2,9 триллиона долларов.
Вторым изменением стало развитие новых предметов торговли, имеющих особое значение. Одним из таких изобретений, придуманных в 1970‐х, но выстреливших в 1980‐е годы, были ценные бумаги: буквально, ставки на будущее. Между 1986 и 1996 годами торговля ценными бумагами увеличилась в 56 раз, достигнув оборота в 34 триллиона долларов. В 1995 году номинальный объем ставок, неуплаченный в глобальной торговле ценными бумагами, практически сравнялся с общемировым производством; c 1996 года они превзошли этот уровень. Международные потоки облигаций и акций росли в 1970‐е годы и достигли пика в 1998 году. Транснациональные трансакции облигаций и акций, которые затрагивали граждан США, выросли с 6,9% от ВВП США в 1975–1979 годах до 221,8% в 1998‐м – что более чем в 2 раза превышало ВВП США – перед снижением до 189% в 1999‐м74.
150 лет назад Маркс предвидел, что производительные силы будут приобретать все более социальный характер и придут, таким образом, к возрастающему противоречию с частной собственностью на средства производства. С того времени вплоть до 1980 года действительно существовал долгосрочный тренд на национализацию и/или регуляцию средств производства, транспорт (железные дороги, авиалинии, скоростной транспорт) и коммуникации (телефоны и, позднее, радио- и телевещание). Это была главная динамика в ключевых капиталистических странах, начиная с Первой мировой войны и до начала холодной войны. Это положение подкреплялось мощью советской промышленности и после Второй мировой войны существованием социалистического блока. Еще одна волна национализации пришла с постколониальным социализмом, Кубинской революцией, коалицией Народного единства в Чили и с предложениями национализации со стороны правительств Франции и Швеции в промежутке между серединой 1970‐х и началом 1980‐х годов.
Затем тренд развернулся в обратную сторону, столкнувшись с провалами и поражениями от Швеции до Чили, от Франции до Танзании и Индии, что сопровождалось нарастающим кризисом в социалистических странах. В Великобритании волна приватизации была инициирована Тэтчер, которая в данном отношении была радикальнее, чем ее чилийский аналог – Пиночет. С тех пор программы приватизации были осуществлены не только в посткоммунистической Восточной Европе, но и в большинстве оставшихся социалистических стран, Китае и Вьетнаме, и практически во всех социал-демократиях, не говоря уже о правых режимах. Подобные программы стали важным, порой решающим, условием для займов МВФ.
Как можно объяснить этот исторический поворот от национализации к приватизации? То, что случилось, было результатом стечения трех системных процессов, в условиях – благоприятных или неблагоприятных, что зависит от точки зрения, – непредвиденных обстоятельств.
1. Программа развития социалистических государств, зависимая от мобилизации природных и человеческих ресурсов при помощи отечественных или зарубежных технологий, начала исчерпывать себя. Впервые это стало очевидно в странах Центральной и Восточной Европы к середине 1960‐х годов и десятилетием спустя в Советском Союзе. Вне области гонки вооружений с США вопрос о том, как создавать новые технологии и увеличивать производительность, так никогда и не получил ответа. Из-за ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году были заморожены коммунистические инициативы – начался период стагнации, который не смогла прервать перестройка.
2. Способности и цельность постколониальных государств оказались фатально неадекватными требованиям социалистического планирования и финансируемого государством экономического развития.
3. В ключевых капиталистических странах новые источники создания капитала и технологии управления бросили вызов дееспособности государства. Значительные социальные обязательства также сделали более трудным даже для богатых государств соответствовать новым требованиям инвестиций в инфраструктуру, в то время как взрывной рост финансовых рынков начал производить гораздо больше частного капитала.
Эти три системные тенденции слились в 1970‐е годы. Приватизация приобрела собственную политическую направленность в появлении двух особенно безжалостных тенденций, возникших из кризиса управления, поразившего левую политику: пиночетизм в Чили и тэтчеризм в Великобритании. Ни в одном из этих случаев приватизация не была изначально принципиальным вопросом – за исключением ликвидации последствий проведенной Альенде национализации, – но скорее идеей, которая зародилась на ранних стадиях в окружении политических лидеров. После запуска ее поддерживали заинтересованные в ней инвестиционные банкиры и бизнес-консультанты. Приватизация превратилась в условие предоставления займов Всемирным банком и МВФ и в конце концов стала центральным пунктом повестки правоориентированных медиа. Как отмечалось, у произошедшего сдвига были некоторые технологические аспекты по большей части в области телекоммуникаций, а также некоторые управленческие нововведения. Аутсорсинг частного сектора развивался параллельно. Но в общем драйв приватизации питался от нового частного капитала и в значительной степени поддерживался идеологической модой.
Меньше класса – больше непочтительностиПромышленная занятость достигла пика в ведущих капиталистических странах во второй половине 1960‐х годов; рабочее движение достигло исторического максимума и пика влияния в 1970‐е годы; достаточно драматично развивавшийся процесс деиндустриализации произошел в 1980‐е75. В то время как индустриализация и формирование рабочего класса продолжались в Восточной и Юго-Восточной Азии, в наиболее значительной степени в Южной Корее – где занятость в промышленном секторе повысилась с 1,5% в 1960‐м до 22% в 1980 году, достигнув своего пика в 1990‐м на уровне в 27% от общего числа занятых, – деиндустриализация также ударила по старым индустриальным центрам третьего мира, таким как Бомбей. С 1980 года производственная занятость относительно снижалась во всех наиболее развитых странах Латинской Америки (за исключением Мексики, c ее контролируемыми США maquiladoras76)77. Между 1965 и 1990 годами промышленная занятость в пропорции от мирового уровня занятости снизилась с 19 до 17%, а среди «промышленно развитых стран» – с 37 до 26%78. Более поздние данные Международной организации труда (МОТ) за 1996–2006 годы показывают некоторую стабилизацию показателей на достаточно высоком уровне, с занятостью в промышленном секторе, достигающей показателя в 21% от мировой занятости, что связано с тем, что постиндустриальное снижение было скомпенсировано индустриализацией Южной Азии.
Тем не менее ясно, что великая эпоха промышленного рабочего класса подошла к концу. Фактически промышленный труд смог стать преобладающим лишь в постаграрной Европе, но не в США, Японии или Южной Корее, и крайне маловероятно, что это случится в будущем. Если в очередной раз обратиться к данным МОТ, то можно отметить, что сфера услуг приближается к рубежу, когда она превысит промышленную занятость и в Китае. Невероятный рост мегагородов третьего мира – от Каира до Джакарты, от Дакки до Мехико, Киншасы или Лагоса – производит пролетариат только в римском, домарксистском смысле «неформальной» занятости и торговли. В Индии только около 0,1 экономически активного населения заняты в официальном городском секторе экономики; в Китае – 23%. Хотя и существуют международные организации жителей трущоб, возможное их восстание (как это предполагает Майк Дэвис в своей книге «Планета трущоб»), если оно когда-нибудь случится, вряд ли будет соответствовать классическому репертуару протестов рабочего класса и революций. Классический «непочтительный коллективизм», основным историческим носителем которого выступало движение рабочего класса, прошел пик и постепенно ослабевает. Но это только часть истории.
Другим ключевым процессом этого периода была сильная эрозия традиционной почтительности как религиозной, так и социально-политической. Деаграризация была одним из факторов – занятость в аграрном секторе в промежутке между 1965 и 1990 годами снизилась с 57 до 48% от общемировой, хотя крестьяне всегда и везде были далеки от того, чтобы быть почтительными. Согласно переписи 2000 года, городские жители в Китае составляют уже 1/3 населения; десять лет назад они составляли лишь 1/4. Нидерланды являются ярким примером секуляризации: начиная с момента введения всеобщего избирательного права в 1918 году и вплоть до 1963‐го открыто религиозные партии получали более половины голосов на каждых выборах; а на протяжении следующих 20 лет эти результаты обвалились до 1/3 голосов. Сильно ослабла и хватка патриархата: права женщин и вопросы гендерного равенства встали на повестку дня фактически во всем мире79.
То, что мы могли бы назвать социальной модернизацией, выросшей из изменений в экономике, образовании, массовой коммуникации, формальных демократических правах, международной миграции, имело эффект разрушения многих видов «почтительности», затрагивающих не только женщин и молодых людей, но также и служащих среднего класса в большинстве стран, нижние слои общества и даже «неприкасаемых» в Южной Азии, коренное население на всех континентах, городскую бедноту в трущобах больших городов третьего мира, католиков и европейских протестантов. Результаты этого процесса стали впервые заметны в 1960‐е годы, с подрывом традиционного «клиентелизма» в Латинской Европе и Америке. Это стало особенно очевидно в протестах 1968 года, а затем в женском движении, которое за ними последовало.
Одним из компонентов этой эрозии почтительности было создание новых форм бунтарского коллективизма. Коренные народы самоорганизовались с целью защиты своих прав и становились существенной политической силой в Америке, от арктической Канады до субантарктического Чили, а также важной силой в Боливии и Эквадоре. В Индии движения коренного населения, объединившиеся с экологическими организациями, получили право вето. Нижние касты переопределили свою коллективную идентичность в качестве далитов, угнетенных и униженных, но не грязных неприкасаемых; женщины работали над созданием транснациональных феминистских сетей. Но существовали и другие тренды. Один из них состоял в том, что может быть названо почтительным индивидуализмом, – поклонении богатству и успеху в любых его формах. Закат старых форм власти также представил возможности для возвышения новых разновидностей авторитаризма или фундаментализма – в особенности значимых для американских протестантов, Западной Азии, североафриканского ислама и израильского иудаизма. В то время как исламские фундаменталисты и латиноамериканские евангелисты пользовались плодами провалов секуляризованных левых и традиционных религиозных институтов, фундаменталистские течения внутри иудаизма и протестантизма США, казалось, были движимы специфическими интересами идентичности.
На этой стадии невозможно подвести итог совокупному эффекту всех этих социальных процессов, с их многочисленными противоречиями, исключениями из них, а также неравномерным характером их протекания. Но мое впечатление состоит в том, что общее направление, в котором они двигались (и продолжают двигаться), не только далеко от традиционного коллективизма, но также сильно ориентировано на большую «непочтительность» перед лицом неравенства и различных привилегий, в особенности касающихся обладания властью и статусом. С левой точки зрения эти процессы предлагают не только потенциальное усиление будущих союзников в борьбе против почтительности, но и вызов индивидуалистскому или новому коллективистскому сомнению в традиционном коллективизме левых, антиимпериалистических и рабочих движений. Что даже более важно, эти процессы не просто предоставляют дополнительные ресурсы для левых. Они поднимают новые проблемы и задают новые вопросы касательно приоритетов, возможных союзов и компромиссов. В конце концов, экологическая политика и политика идентичности могут сойтись лицом к лицу с концепциями устойчивого развития и эгалитаризма классических левых. Непочтительность может также приобретать отталкивающие формы, такие как насилие на почве ксенофобии или криминальная деятельность.
Динамика политической сферы
Именно в этих координатах развивается динамика происходящего. Самыми непосредственными результатами являются те, что были созданы историческими итогами предшествующей политической борьбы. Здесь мы обозначим, что нам представляется наиболее значимыми поражениями и победами, успехами и неудачами за прошедшие 40 лет как для правых, так и для левых. Также мы укажем на то, какие параметры изменились в политической сфере.
Успехи левых1. Дискредитация явного расизма и падение колониализма. До 1960‐х годов европейское колониальное правление над другими народами все еще считалось абсолютно легитимным. Чернокожим в США все еще отказывали в предоставлении гражданских прав. Деколонизация Африки, поражения институционализированного расизма в США, отказ от политики апартеида в Южной Африке и поражение империализма США на Кубе и во Вьетнаме были громкими победами левых, которые значительно изменили политическое пространство мира.
2. Послевоенная дискуссия о государстве всеобщего благосостояния в развитых капиталистических странах – означает ли новоприобретенное благополучие, что в дальнейшем будет требоваться меньше социальных расходов, или что общественная безопасность, а также надлежащее социальное обслуживание отныне стали доступными по цене – была безоговорочно выиграна левыми, в особенности в Западной Германии, Скандинавии и Нидерландах, а затем закреплена результатами выборов в 1960‐е годы.
3. Мировое студенческое движение 1968 года было важным шагом вперед для сил непочтительности по всему миру, поскольку оно атаковало не только традицию и реакционность, но и самодовольство социального либерализма, социальной демократии, коммунизма и национальных революций. Оно отрицало существовавшую установку на экономический рост и продвигало массовое образование как адекватное дополнение классическому Просвещению, за которое ратовали левые, требуя эмансипации и равенства, а также поставило на повестку дня освобождение и самореализацию.
4. Новое феминистическое движение поставило под сомнение лидерство левых радикалов мужского пола в движениях за освобождение и равенство, в которых традиционные гендерные роли оставались неизменными. В общем, феминизм, ставя под вопрос маскулинную роль капитала, равно как и патриархата, был движением левых в самом широком смысле, хотя и в большей степени в Западной Европе и в странах третьего мира, чем в США. В прошлом электоральное поведение женщин стремилось к тому, чтобы быть более правым в сравнении с мужчинами, несмотря на тенденции к объединению с левыми, которые были характерны для первых феминистских движений. Но на протяжении 1980–1990‐х годов этот паттерн в капиталистических демократиях изменился, поменяв электоральные предпочтения женщин. Они стали тяготеть к левоцентристским партиям и кандидатам (что было отчетливо заметно на последних президентских выборах в США80).
Провалы и поражения левых1. Важным поворотным пунктом стал провал левых, не сумевших справиться с конфликтами в распределении ресурсов, которые возникли во время экономических кризисов 1970–1980‐х годов. Западные социал-демократы – в первую очередь британская Лейбористская партия, американские либералы, латиноамериканские популисты и чилийские левые – столкнулись с подобными конфликтам, что привело к еще большим серьезным инфляционным кризисам, безработице, экономической неуправляемости и рецессии. Их провалы расчистили путь мощной ответной реакции правых сил – жесткой в Латинской Америке, но в Северной Америке и Западной Европе реализованной в формально демократических границах. Так возник неолиберализм, который все еще с нами.
2. Rendez-vous manqué81между протестующими 1968 года и существовавшими рабочими движениями. После первой волны индивидуалистического иконоборства первые обратились к подражанию раннему большевистскому романтизму и «партийному строительству». В свою очередь, разочарование в этом создало значительное количество либеральных отступников правого толка, nouveaux philosophes82 и идеологических штурмовиков времен Войны в заливе и Косово, равно как и потворствующий своим желаниям индивидуализм наследия Клинтона. Значительная часть непочтительного индивидуализма 1968 года продолжала существовать в порой политически эксплицированном виде, как в феминистских и экологических движениях, так и в активистской борьбе за права человека. Но из-за той так и не состоявшейся встречи потенциал для исторического обновления или переучреждения левых был потерян.