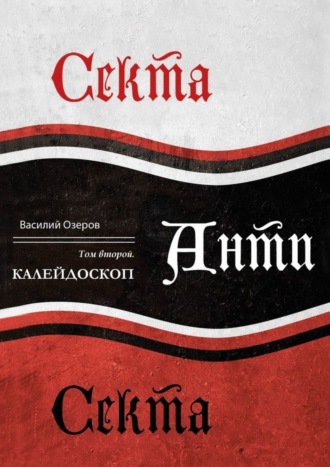
Полная версия
Секта Анти Секта. Том 2. Калейдоскоп
«Первацельс сошёл с ума, профессор Первацельс хочет отрастить губы, нос и уши беглому каторжнику! Каторжник платит Первацельсу бешеные деньги за регенерацию лица!». И всё прочее в подобном ключе.
Слухи эти росли, как снежный ком, и, как это обычно и бывает, случайно или нет, они дошли до «начальства», в частности, до моложавого завистливого проректора, который при первой же возможности, собрал то ли учёный совет, то ли ещё какое-то подобное ему сборище учёных мужей и суфлёров Сорбонны. Естественно, с единственной целью: отлучить Первацельса от кафедры медицины якобы за шарлатанство, что ему и удалось сделать…
Удалось сделать при помощи таких же завистливых бездарей, пауков от науки, как и он сам. Наука действительно бывает похожа на сборище пауков, ведущих человечество не к прогрессу, а к невиданной катастрофе. Есть люди, работающие на созидание, а есть учоные, работающие на разрушение. Однако тут был всего лишь частный случай, иллюстрирующий общую закономерность…. Закономерность полной безнравственности современной науки.
Наш профессор, как я уже упоминал выше, был весьма гордым человеком; обозвав своих коллег бездарями и тупицами, он хлопнул дверью и навсегда исчез из Сорбонны. Первацельс был, разумеется, прав, однако, и характер у него был, резким, как горький перец.
Вместе с ним пропал и таинственный беглец или каторжник… по имени Кармог, и предполагаемый Философский камень в виде безсмертного порошка проекции, о котором мы тогда так ничего и не узнали от своего любимого Учителя.
***
…А ещё ранее, вскоре после злополучного визита Кармога, странное чувство овладело мной, истоки которого я никак не мог понять. Если сказать проще, услады Катарины и любовь к ней, если это вообще можно было назвать любовью, стали мне казаться какими-то пресными и нереально глупыми и тупыми. Два тела, словно две змеи, сливались на короткое время в одно, а затем наступало почти мгновенное разочарование в этом мнимом и фиктивном физиологическом единстве. У меня точно наступало это охлаждение, думаю, что и у Катарины тоже, потому что после наших встреч на неё почти всегда нападала икота и зевота…
Каждый из нас хотел лишь что-то получить в этом бешеном соитии, именуемом всеми людьми любовью, которое было каким-то нелепым и неполным. Мне стало в этих отношениях чего-то катастрофически не хватать. Но чего?! Словами я не мог объяснить, но чувствовал, что из паутины моих отношений с Катариной пришло время выбираться, чего бы это мне не стоило.
Трудно назвать это моё чувство охлаждением эмоций, простите бедного бакалавра за тавтологию образов и их понятий, но лучшего определения дать мне будет весьма затруднительно. Да и не поэт я по определению, а так, будущий литератор средней руки, которому всё же есть о чём поведать миру…
Катарина мне стала постепенно безразлична, и я стремился с ней видеться как можно меньше, и меньше вспоминать о её лощёном и гладком смугловатом теле, отчасти напоминающим тело молодой, но уже хорошо объезженной кобылицы. Но окончательный разрыв произошёл лишь после ухода Первацельса, когда у меня наконец открылись глаза на происходившее на кафедре, да и в самой альма-матер.
…Однако это произошло не сразу, а, постепенно. Повторюсь, меня в ней привлекало уже только тело, как магнит, постоянно воскрешающий оное в моей памяти. Да, тело у Катарины действительно было восхитительным, ни сучка, ни задоринки, как сказал бы я, если б родился и вырос в снежной России (что, возможно, когда-либо и произойдёт). Чрезмерно умная молодая женщина, но чертовски хитрая, как я понял лишь позже, она поначалу была украшением самой кафедры Первацельса, который, любил и баловал её, словно ребёнка, почти ни в чём не отказывая. Хоть Первацельс и был выдающимся врачом и алхимиком, однако человеческие страсти были ему знакомы не понаслышке, и ни для кого не были секретом.
Баловал, то баловал, но, как я понял, до конца тоже не доверял, раз использовал на трудных больных предполагаемый нами порошок проекции втайне от своей длинноногой любовницы. И правильно делал, учитывая сотворённое ей впоследствии предательство профессора, из-за которого тот был вынужден покинуть Париж.
Естественно, что Катарина за ним не последовала, вскоре вновь став секретаршей нового выскочки-проректора. Мои же отношения с Катариной сразу же развалились после внезапного и вынужденного ухода моего кумира и учителя из университета, чему поспособствовал донос Катарины в ректорат о визитах к Первацельсу уродливого Кармога…
Но это я так, к слову. Мне тогда было не до того, чтобы выяснять отношения и ушедшего мэтра, и нового проректора с молодой лаборанткой, потому что мои собственные отношения с внешним миром всё ещё так и не смогли сложиться в более- менее связанный калейдоскоп, а пребывали всё в тех же разбросанных там и сям осколках этой так называемой земной жизни, которой я в виду моей молодости, совершенно не видел конца…. У меня иногда было такое чувство, будто я живу вечно. И, по большому счёту, я был недалёк от истины, если сравнить вечность с придорожной пылью. Пыль будет существовать всегда, пока существует Земля.
Всё же алхимия алхимией, а реальная обычная жизнь, проходящая у тебя пред самым твоим носом, а, тем паче, глазами, несколько иная, и ты иногда запутывается в ней до основания самого черепа, где хранится главный осколок твоего давно и прочно подзабытого рептильного мозга, управляющего твоими подсознательными инстинктами; а иногда, почему то она бьёт тебя самым неожиданным образом, и ты долго не можешь понять, почему это и за что?
Но всё же… Я пока что довольно успешно лавировал в потоке собственной судьбы, но мне однозначно чего-то не хватало. Тоска стала приходить ко мне всё чаще вскоре после ухода любимого Учителя, моего Первацельса.
Вот так, лёжа однажды в своей комнате поздним вечером я долго никак не мог уснуть и ворочался с боку на бок. Что было причиной вдруг нахлынувшей ужасающей меня тоски, я тогда, ввиду то ли глупости, то ли молодости, не понимал…. Соседи за стеной моей лачужки апогейно завывали в пьяном угаре, мне хотелось либо убить их, или заткнуть себе чем-то ушные раковины: пока что я выбрал последнее….
Наконец, настала полная тишина, которая, однако, не принесла мне никакого успокоения: моё внутреннее смятение лишь возросло…. Жизнь казалась мне в этот момент безрадостной и лишённой всякого смысла.
…И вдруг совершенно внезапно в моей голове возник образ Марии! Господи, радость моя, Мария, ну почему я стал вдруг забывать про тебя? Этот образ так отчётливо появился предо мной, что я невольно вздрогнул, как будто опасаясь немедленного появления Марии здесь, в этой моей грязной лачуге, совершенно не предназначенной для такого воплощённого ангела, как она.
И, словно в подтверждении моим мыслям, за стеной вновь раздались ужасные вопли соседей, делящих между собой скромное чувство любви и рвущие его на осколки взаимных упрёков и претензий этих скучных человеческих существ. Ушные затычки были в данном случае безполезны.
Слушать стенания окружающих – боже мой, какая тухлая пошлятина! Каждому человечку хочется любви, хотя бы на мгновение, каждому её мало и каждому не хватает: он оглядывается по сторонам и ищет, где бы ему вытрясти хоть её малую толику!
Я вновь задумался… Боже, как мало света в этом мире, и только одна лишь алхимия может удовлетворить мою жажду жизни и ещё всё-то светлое, что я испытываю, когда встречаю иногда девушку по имени Марию де Ариас.
Я так долго лежал и думал всё это долгим весенним утром, оставив происходящее вокруг за пределами моего восприятия.
Что сейчас происходит со мной? Что я хочу? Новой, единственно неповторимой любви? Это Мария! Я буду помнить тебя вечно!
Эта мысль грела моё сердце приливами радости и любви.
А быть может, я просто никчемный человеческий слабак, как иногда внушал мне мой любимый papa? Человеческий неудачник? Я боюсь тебя любить? Так я люблю тебя, либо боюсь любить себя? Я окончательно запутался.
А эти мысли вымывали из меня весь свет бытия и надежду на будущее.
Эти мысли выматывали всё моё существо, но ответа в тот раз я так и не нашёл. Быть может, я ещё просто молод и ничего не понимаю в жизни?! Скорее всего…. Если б молодость знала, что будет потом!
…Господи, боже милостивый, помоги мне разобраться и понять, что же я действительно хочу получить от своих таких непонятных для меня самого, полу-застывших и странных отношениях с Марией? После ухода Первацельса и разрыва с Катариной, мир вокруг явно стал сложнее и стремится навязать свои правила жизни…. Нет, только не сдаваться!
И здесь я вспомнил своего отца. Право слово, моему папаше, бравому вояке, было намного проще: старший Лагранж, не задумываясь рубил головы врагам короля или протыкал их трепыхающиеся тела своей шпагой. Жизнь другого человека для него имела ценность не более ценности курицы, либо индюка, следующих предназначенной им дорогой в суп.
Таковы они, эти бравые солдаты всех времён и народов! Что и говорить, папаша в своём деле всегда был на высоте и теперь заслуженно почивает на лаврах, получая солидную королевскую пенсию. Иногда я ему искренне завидую!
* * *
Шло время, я продолжал читать лекции в университете, а пациентов более там никто не принимал: запрет наложил новый проректор, заявив, что университет не есть лазарет… Разрешалось лишь приготовление лекарств и сбыт их в аптеки, контролируемые этим прохвостом.
Без Первацельса мне стало совсем тоскливо и я с нетерпением ожидал весточки от Пьера, чтобы, наконец, уже заняться настоящим делом.
И вот, наконец, драгоценный день настал, Пьер во время одной из наших алхимических встреч в Великом Соборе сообщил мне, что готов начать большой путь алхимического Делания, и я уже завтра рано утром должен прийти после восхода солнца к де Ариасом, чтобы сменить его у атанора.
Что я испытал при этом известии? Трудноописуемое чувство предвкушения нового счастья, вот как это называется. Это чувство открытия нового, знакомого каждому истинному художнику своей собственной жизни. Моя тоска и хандра моментально испарились, будто их и не было.
Чувство открытия, чувство новизны, чувство исследователя! Оно сродни с самостоятельным прочтением первого слова твоей жизни в тексте Букваря, лежащего пред тобой, с первым снегом, с его редкими снежинками, дарящими умиротворение и надежду, и, конечно же с первым чувственным томлением, которое охватывает душу подростка при виде понравившейся ему девушки, и принимаемое им, как это обычно бывает, за «великую» «любовь». А вдруг?! Повторюсь: всю мою вчерашнюю ночную меланхолию как ветром сдуло.
Я был рад и счастлив до такой степени, что вечером вновь долго не мог уснуть в своей каморке, из-за чего наутро чуть было даже не проспал, хотя привык вставать с рассветом, но только в тех случаях, когда не встречался с Катариной.
Выскочив на улицу, я вприпрыжку побежал по ночному городу к дому де Ариасов и через полчаса уже был у такой знакомой мне двери. Не успев дёрнуть шнур звонка, как дверь тут же распахнулась передо мной, и на её пороге возникла Мария, в строгом длинном белом платье без всяких следов декольте. Это платье сразу же показалось мне чересчур серьёзным и даже монашеским, несмотря на его высший алхимический цвет, что я машинально отметил в то самое время, когда Мария произносила эти драгоценные для меня слова:
– Здравствуйте, мсье Виктор, заходите, мой брат ждёт вас с нетерпением!
Она взглянула на меня своими огромными глазами, и в тот же момент опустила вниз свои красивые и слегка взлохмаченные длинные веки.
Боже, как я рад был сейчас слышать этот голос! От моих вчерашних ночных сомнений не осталось и следа. Конечно же, я люблю её! Как только я мог сомневаться в этом! Для меня стало совершенно очевидным, что до сего момента Катарина занимала моё воображение незаслуженно! Оказывается, мне нужно было всего лишь её тело! Мгновенно Катарина оказалась в пучинах мёртвого прошлого. Как заметит заинтересованный читатель, я понемногу стал прозревать… это хоть что-то. Или нет?
Я поблагодарил девушку и прошёл вслед за ней к двери лаборатории Пьера, где она меня и оставила.
Первое, что захватило меня при прибытии в святая святых Пьера де Ариаса, это был запах. Я уже несколько раз ранее посещал эту его тайную от всех комнату, и такого запаха никогда здесь не чувствовал.
Надо сказать, что лаборатория у Пьера была шикарная, не то, что каморка какого-нибудь суфлёра, в коей мне однажды ранее пришлось побывать по поручению доктора Первацельса… У Жана также была лаборатория слабенькая, – одно название.
Запах тут стоял особенный, где кислое вуалировалось сладковатым привкусом расплавленного лёгкого металла, и предвкушал во мне раскрытие великой тайны алхимии. Мои чувства вновь обострились до предела. Как при встрече с Марией несколько минут назад Пьер стоял возле атанора, который имел форму башни, и через слюдковое окно которого хорошо был виден огонь, творящий волшебство трансформации. Взмахом руки он пригласил меня подойти поближе.
И Пьер тут же стал мне давать наставления вкупе с поручениями:
– Я ночь не смыкал глаз, да и сейчас не хочу спать, поэтому побуду с тобой здесь немного. Этой ночью мной начат первый этап процесса: получение чёрного цвета, иначе он называется «умирание старого», или nigredo.
Сейчас этот этап происходит под воздействием Огня почти автоматически и твоя задача, Виктор, лишь поддерживать пламя масляной горелки под атанором (так называется чудесная алхимическая печь). Процесс этот относится к женскому началу и будет продолжаться пятьдесят два дня, это женское чётное число. За это время мы должны убрать всю воду из подготовленной материи, что находится в колбе атанора. Что такое «подготовленная материя», я объяснял тебе ранее. Эта материя под воздействием огня начинает чернеть, как обугливаются белые дрова при сгорании. Поэтому, для начала, получим, чёрное.
Итак, дорогой друг, возрадуйся и восхвали Небеса: мы с тобой приступили к великому Деланию, Оpus magnum. Пусть замолчат на это время все профаны! Итак, внимай.
Ты должен приходить ко мне в одно и то же время и всего лишь наблюдать за этим процессом, что более сложно в исполнении, чем в словах, но, – не беспокойся: я же почти всегда буду с тобой рядом. Возможно, что Мария тоже иногда будет нам помогать.
При его последних словах сердце моё ёкнуло, и озарилось радостным чувством, всплеснувшемся из меня чудесным фонтаном, которое я до сих пор называю любовью. Вернее сказать, преддверием любви; впрочем, кому как угодно.
…Итак, наконец-то мы приступили к настоящей алхимии. Той, которая Нечто нечистое превращает в чистое и неизменное, путём перемен, находя постоянное и недвижимое. А что, кроме материи золота, может быть неизменным в этом изменяющемся каждое мгновение мире?
Золото, только золото, только этот металл самого Солнца, он один сможет удовлетворить нас, ищущих счастья и постоянства. Золото даст долгую стабильность моей мятущейся жизни. Если б я тогда знал, как жестоко заблуждался! Всё, что произошло в дальнейшем, случилось со мной с точностью до наоборот!
* * *
Алхимический процесс был начат и теперь не должен был прерываться в течении длительного времени: в этом заключалась основа нашего успеха.
Так, день за днём я по утрам приходил к де Ариасам, и работал в лаборатории Пьера, выполняя его указания. Иногда во время моего бдения у алхимической печи, когда Пьер спал, заходила Мария, и мы, полные более духовного влечения друг другу, беседовали на алхимические темы, с нетерпением ожидая того момента, когда, наконец получим от своих бдений чего-нибудь стоящее. Что? Золото, либо потрясающую любовь, либо то и другое вместе, с жизнью, полной счастья, богатства и любви, которую мы с ней, безусловно, заслуживаем. Я полностью тогда был рабом формы, впрочем, это свойственно почти всем молодым людям. Таковы были в то время мои мысли и ощущения… Эти ласкающие мысли приходили ко мне всё чаще и чаще, я уже перестал глазеть по сторонам в буквальном смысле слова в поисках тех развлечений, которые так свойственны моему возрасту. Понемногу я стал перерастать самого себя. В мою жизнь входили Любовь и Алхимия.
Однако, по правде говоря, я плохо представлял себе в деталях весь процесс алхимического делания. Был так сказать, слабоват, и не только в коленках, ногах, но и в собственных мозгах, которые казались мне верхом человеческого совершенства. Но, увы! Мои мозги были ещё недоразвиты! Я боялся себе в этом признаться, но, однако, дело обстояло именно так, а не иначе. Посему я целиком и полностью полагался на Пьера, на его знания. И честно говоря, далеко не ушёл от обычных суфлёров с алхимической тусовки средне-мелкой руки. Но это и не было тогда для меня столь важно. Важно было другое, – я всё никак не мог признаться, моей доброй Марии в своих искренних чувствах, о которых та наверняка догадывалась. Пока ещё чувства, чувства любви были для меня самым важным. Впрочем, где чувства, где эмоции; всё было смешано во мне. Ясно было одно: сначала девушки, самолёты потом, – вот что такая моя молодость! Наконец, благоприятный случай вскоре представился.
Прошло уже много времени с начала нашего Делания. Однажды мы сидели вмести с Марией де Ариас в лаборатории у атанора, кажется, это было время сублимации алхимических веществ в последней стадии. Накануне Пьер предупредил меня, что процесс работы подходит к концу, и получение святой киновари или алхимического яйца должно вот-вот произойти.
Мария спросила меня в тот день:
– Виктор, скоро у нас будет столько золота, сколько мы только можем пожелать. Что вы будете с ним делать и как использовать? Зачем нам с вами много золота?
Вопрос этот не застал меня врасплох, он был весьма кстати.
Тут я и подумал, что настал решающий случай для объяснения с очаровавшей меня навеки девушкой. Это был великолепный повод продвинуть далее наши отношения: они ведь только начинались; мы, как два магнита, медленно, но верно притягивались друг к другу, чтобы соединиться навеки (так мне тогда казалось).
Набравшись смелости и глядя ей прямо в глаза, я проговорил:
– Я люблю вас Мария, люблю как саму свою жизнь, и буду просить вашей руки у матери Вашей Тересы. Но сначала я построю для нас дом неподалёку от этого места. Это будет большой дом с множеством комнат, и снаружи он будет похож вот на этот атанор, – я указал взглядом на печь, придвинулся ближе к Марии и вял её за руки. Он будет похож на эту башню, но символом этой башни будет наша любовь, она будет вечно властвовать в нашем доме! Клянусь, Вам, Мария!
Она молчала, лицо её при свете масляных ламп выглядело как то отрешённо, и удивления я не заметил на прекрасном лике Марии, даже тени смущения не было видно: казалось, что она всё знала заранее.
Я впервые прикоснулся к ней, взяв за руки; тепло рук девушки, казалось, перетекало в моё сердце, точно таким же образом, как киноварь, сублимируя самое себя, превращается в золото. Такие мгновения незабываемы для истинно влюблённого! Тем более, если эта любовь – с первого взгляда! После маленькой паузы я спросил её:
– Вы согласны, Мария, быть моей женой?
Она чуть прикрыла свои глаза, и лишь сказала:
– Да, – и тут наступила тишина.
Тишина нарастала, словно снежный ком, катящийся с горы и долженствующий вот-вот рухнуть, разбившись на части, превращающиеся, в свою очередь в исходный материал. Я заключил Марию в свои объятия, но всего лишь на какое то мгновение, потому что она почти сразу же стала освобождаться от них, со смехом говоря мне:
– Вам сейчас надо следить за процессом, милый Викто̀р, иначе мы так и не получим ни золота, ни всего остального!
Смутившись до корней волос, я освободил её и бросился уменьшать пламя масляной горелки, потому что кипение внутри уже достигало критической массы…. Процесс никак нельзя было нарушать,…отвлечения от процесса, бывают так опасны, чем они привлекательнее, эти отвлечения тем опаснее, сию истину я понял много позже.
Что и говорить, Мария девушка с юмором!
Надо ещё раз напомнить, что после исчезновения профессора Первацельса, я сразу же прекратил встречаться с Катариной, которая, очевидно, ввиду своего предательства последнего, пошла вскоре на повышение и стала любовницей нового проректора, с коим я был не намерен делить своё, уже канувшее в лету, но когда-то страстное любовное ложе. Был прекрасный повод расстаться с ней, расстаться, как мне казалось тогда, навсегда. Катарина тогда оставила след в моей душе, но всего лишь след, хоть и глубокий.
Из-за предательства Первацельса она мне стала неприятна и вызывала то самое смешанное чувство, которое я испытывал иногда, препарируя различных лягушек, змеюшек и жуков в университетской лаборатории. С образом любви, связанной с ней было покончено.
Как иногда быстро заканчивается любовь, переходя в отвращение и ненависть! Не перестаю удивляться этому до сих пор. Поводы к тому могут быть разные, зато результат всегда один и тот же. Одна любовь приходит, а другая предаётся забвению. Я не был исключением в этом всеобщем правиле нашей обыденной жизни. Однако моя любовь к Марии будет вечной, как сама жизнь! Сама Вечность, казалось, шептала мне об этом.
…Теперь я уже не мог ни о ком более думать, кроме как о Марии, и распылятся на остальных особей женского пола, как бы они не были привлекательны, не имел уже никакого желания, тем более, что все остальные мысли, вместе со временем, порождаемым ими, мною были заняты происходящим алхимическим процессом в лаборатории де Ариаса.
Моя учёба и работа в Университете также отошла на задний план, превратившись в обычную рутинную службу, которую приходилось посещать более по вынужденной необходимости. Тот, кто занял место Первацельса на его кафедре, даже не заслуживает того, чтобы о нём говорить тут, дорогой читатель, он был, что говорится, полным суфлёром как в медицине, так и в алхимии, зато был отличным знатоком, как теперь говорят, под ковёрных игр и служебных интриг. Впрочем, именно чинуша в любую эпоху и в любой стране остаётся чинушей, имей он хоть кейс ультрамодного и ультратонкого ноутбука. Последний не изменит его сути, а, наоборот, всё более поработит, превратившись в живую биомеханическую игрушку, самодовольную и подлую…
Именно поэтому большую часть времени я проводил у де Ариасов: то у атанора, заменяя Пьера у горелки, то беседовал с Марией и её матерью, которая, как я внутренне предчувствовал, будет готова рано или поздно отдать мне Марию в жёны. Пока к этому был не готов именно я, живущий в жалкой лачуге и еле-еле прокармливающий сам себя. О какой такой женитьбе вообще могла идти речь?
Шло время, прошло уже более чем шестьдесят девять дней с начала процесса, и то, что варилось внутри алхимической печи, начало, наконец, менять свой цвет.
Чернота обрабатываемой массы, которой вначале Пьер придавал такое большое значение, убывала с каждым днём, алхимическое яйцо за стеклом атанора белело на наших глазах. Пьер стал каждый день добавлять в сосуд, где происходила метаморфоза философского камня, какие то вещества: то в виде порошка, то в виде жидкости.
Глаза его в эти моменты странно блестели, его тело хоть и выполняло какие то действия у печи, но делало их автоматически. В такие моменты я всегда вспоминал то его состояние, в которое он иногда входил, когда молился самой Божией матери в её величественном Соборе. Пьер был истинным алхимиком и мистиком, совершенно не от мира сего. Быть может, позже я расскажу, почему это произошло…
…Пьер де Ариас был похож иногда даже на сумасшедшего, особенно в те моменты, когда проводил незнакомые мне манипуляции у своей любимой алхимической печурки:
«Скоро, скоро, – бормотал он, и тут же добавлял: но не будем спешить!» Эта фраза стала его постоянной спутницей во всё время великого делания.
С каждым днём содержимое в плавильном сосуде светлело и начинало приобретать белесоватый оттенок.
– Сегодня нам нужно добавить киновари и молодой ртути, что является довольно опасным процессом, – заявил Пьер решительно, не спуская с меня глаз, наблюдая за моей реакцией на его слова. Подавив своё смущение, я довольно тупо спросил его:
– А зачем?
– Для ускорения процесса плавки и для изменения состава и изменения состава зародыша, что приведёт к падению божественного белого вниз, так сказать, – на грешную землю, но только никак не потерявшим своё божественное, мой юный друг!
Я всё равно ничего не понял. Возможно, что я выглядел тупым и обескураженным, посему решил промолчать. Однако мой глуповатый внешний вид был отмечен де Ариасом, что повергло его на более пространное объяснение происходящего процесса:

