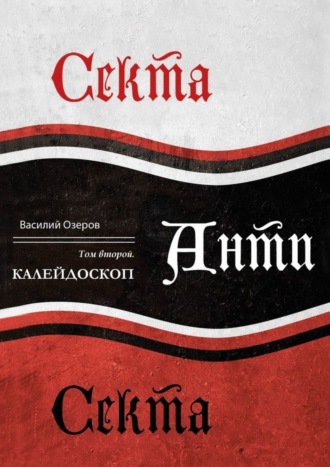
Полная версия
Секта Анти Секта. Том 2. Калейдоскоп
Да, я по прежнему любил красавицу Марию, но любил её какой то, странной даже для самого себя, любовью. Я не мог себе представить, что мы когда-нибудь будем вместе с Марией не только духом, но своими молодыми телами, и я бы мог проделывать с ней все те штуки, которые проделывал вчера с Катариной или когда то ранее с пышногрудой булочницей Мартой.
Сам для себя я не мог понять своих чувств к ней. Да, я никогда не видел ангела наяву, и Мария в то время заменяла мне его место… И заменяла его до самого конца моей короткой жизни….
Так прошло более года и вскоре в моей Альма Матер произошли значительные события, благодаря которым я стал бывать у Ариасов всё чаще, пока, наконец, Пьер не объявил мне, что он, наконец, готов к Великому Деланию, и ему будет нужна моя помощь в ассистировании алхимического процесса. Он дал мне старую большую книгу, написанную по латыни, и приказал тщательно изучить её.
Честно говоря, это было чертовски трудно, несмотря на то, что латынь я знаю в совершенстве, как уверяет меня любимый учитель Первацельс. Сложность понимания сего фолианта заключалась главным образом, в том, что одни и те же понятия, которыми оперировал его автор, относились, на мой взгляд, к совершенно разным предметам и материям. Но об этом я ещё скажу позже, когда мы с Пьером приступим к нашему таинственному Деланию.
Далее де Ариас лично провёл со мной несколько уроков, рассказывая об этапах великой транс мутации золота из вторичных, как их ещё называют, загрязнённых или неблагородных металлов. Главным в его скрупулёзных наставлениях были особенности верного соблюдение пропорций исходных материалов, время их преобразования, и последовательность всех намечаемых процедур. И ещё он мне сказал, что основным во всей алхимической процедуре является безошибочность выполнения всех предначертанных заранее действий, любая погрешность в которых абсолютно недопустима. Нужна чёткость наших с ним действий во всём. Иначе распад атомов одних веществ и их собирание в другие будет невозможен.
В этих трудно описываемых на этих страницах действиях мы должны были с Пьером «перейти от черного к белому, от гниения к растворению, от мрачной ночи к золотому утру» – таков был великий переход к бессмертным вратам жизни, слишком тесным для того, чтобы всякий суфлёр мог протиснуться сквозь них, как выразился кто то из великих алхимиков, кажется, Василий Валентин.
Об алхимии и её непреходящем значении в истории всего человечества, написано множество заумных трактатов, так что я отсылаю интересующихся более подробным изложением технологии прохождения работ к их авторам, не забывая, впрочем, намекнуть, что они все (я имею в виду оные трактаты), слишком тяжелы для восприятия средним человеческим мозгом, занятым лишь исключительно собой и своими мелкими проблемами в поисках пищи, женщины, крова и прочих развлечений.
Мозг большинства людей тупеет по мере развития цивилизации, как ни странно, вот и непонятно, куда ж она развивается? Люди всё более становятся потребителями, нежели открывателями и производителями, не говоря уже о настоящих творцах, которые служат Богу. Ох, это не мои возвышенные слова, куда мне! Это де Ариас вчера изрёк, а я запомнил.
Иногда и меня захлёстывала эта философия жизни, жизни такой, какой её видел только я и никто другой. Увлечение ею было сродни увлечением вином начинающего пьяницы. Что поделать, так человек устроен или его устроил господь Бог, что нам неведомо. Дружба моя с Пьером, как и ученичество у Первацельса были для меня в то время всем. Пьер говорил, что алхимия, она не для всех, и это очень правильно, иначе всем ростовщикам и банкам мира грозит опасность разорения, а правителям государств – оскудение казны, и вследствие этого – потеря власти, что совершенно недопустимо для анти природной системы, – главной космической и невидимой Секты управления нами, людьми…
Так Пьер прояснял мне понемногу истины мира сего. Он говорил в тот раз долго, а закончил фразой, до конца мной так и непонятой в той сумбурной жизни:
– Поэтому главное в нашем Великом умном деле – строжайшая тайна. Я неоднократно буду повторять тебе эти слова, Виктор. Это шифр безопасности от безумия этого мира, отпавшего от Непознанного им Великого Бога. А Этот Истинный Бог отнюдь ни от кого не требует никакого поклонения. Ему важно лишь Его Признание и всё.
Вот так меня поучал Пьер почти каждый день, надо вам признаться, что он был слишком зануден: и лишь много позже я узнал, что занудство и педантичность есть необходимые качества для настоящего алхимика.
* * *
А многочисленные завистники в университете продолжали «копать» под моего любимого мэтра, и после их подлых, но скрытых усилий им удалось избавиться от него, причём моя страстная любовница Катарина сыграла против Первацельса ключевую роль…, как мне поначалу и не хотелось этого признавать: я не видел очевидного.
Так что же произошло с профессором Первацельсом?
Да вообще-то ничего особенного, зависть, увы, обычная человеческая зависть… один из пороков, и всегда энтропийных двигателей человечества, ведущих его в неведомое «завтра», которое так никогда и не настаёт.
Вновь назначенный «проректор» в наш Парижский университет, как бы сказали в более «просвещённом» двадцатом веке, по научной работе, отчаянно ревновал именитого профессора к его научным трудам и открытиям, а главное, – адски завидовал тому почитанию и благолепию, которое ему оказывали студенты и излеченные, от, казалось бы, неизлечимых недугов, горожане нашего благословенного города.
Ну и что скрывать, как уже указывалось ранее, мэтр наш зачастую был остёр на язычок, и не особо жаловал своих коллег по лекарскому сословию, часто публично объявляя их то профанами, то недоучками, а то и просто идиотами. А кому такое может понравиться? Ведь подлинный идиот никогда не признает себя идиотом или дураком. Он банально обидится, затаит злобу и ненависть на своего визави, и будет только лишь ждать удобного случая, чтобы нанести решающий удар исподтишка.
Таковым был и молодой проректор, недавно занявший место почившего в бозе нашего прежнего старичка, которого все мы, вчерашние школяры любили за его наивность, добрый нрав, и крепкую дружбу со своей полной, но гениальной противоположностью по характеру, каковым являлся Первацельс. Идиотом назвать себя может лишь умный человек: однако я таких пока не встречал! Пока старичок был жив, он постоянно заступался за Первацельса при любых конфликтах в алма-матер. Но его неожиданная смерть многое изменила в Сорбонне.
…А Первацельс действительно творил чудеса, от коих его слава лишь увеличивалась и росла, как снежный ком в конце февраля: он никому не отказывал в приёме, и никто из страждущих граждан не уходил от него не удовлетворённым.
В городе, разумеется, в нашей среде, часто поговаривали, что он имеет порошок проекции философского камня, но не алхимическое золото привлекает его душу, а милосердие и любовь к ближнему своему. Впрочем, были и такие глупые завистливые профаны, которые распускали слухи о его связях с самим дьяволом, якобы давшему ему возможность получить алхимический философский камень, дарующий его обладателю возможности избавиться от всех болезней и даже добиться бессмертия. Однако профессор вполне выглядел на свои лета и не был похож на мальчика. Но, чтобы там не шептали злые языки покорёженных и ржавых умов, поток больных к нему не иссякал…
Как-то раз в это время Катарина поведала мне такую историю: она часто ассистировала профессору при приёме больных, особенно в тяжёлых случаях. Тяжёлых не для Первацельса, разумеется, а для самого больного и для неё, потому что при приёме таких больных ей приходилось крутиться, как белка в колесе, доставая и смешивая всякие снадобья из шкафчиков по команде профессора. Снадобья эти были большей частью растительного происхождения, но небольшую часть среди них занимали и металлические порошки, а также их производные, и, естественно, минералы.
Лекарство для каждого больного Первацельс назначал сам, и обычно оно было строго индивидуальным для пациента. Очень тщательно профессор относился к дозировке лекарства, двое больных одним и тем же заболеванием у него всегда получали индивидуальную дозу своей панацеи.
И вот Катарина заметила, что, когда к Мэтру приходят страдающие неизлечимыми болезнями, как тот несчастный прокажённый, боящийся даже приблизиться к собору Нотр Дам де Пари. Ведь прокажённых нигде не жалуют. Но только не наш любимы и благородный сострадательный Первацельс. Этого прокажённого пациента доктор, после одних из субботних собраний в совместном в то время храме религии и науки, велел слуге наутро привести к нему на приём. В тот раз Первацельс старался не пользоваться услугами своей помощницы и отослал её прочь. И не только её услугами, но и помощью других ассистентов.
А значит, и те снадобья, и мази, которые стоят в шкафчиках и на полке лаборатории, он не использовал в той работе, чтобы поставить больного на ноги.
Тогда что же использовал наш неутомимый профессор, чтобы больной мог избавиться от такой страшной напасти, за которую обычные врачи даже и не пытались браться? Неужели в действительности таинственный порошок проекции? Этот вопрос мне не давал покоя ни днем, ни ночью…
В одну из встреч с Пьером, который, как я уже упоминал ранее, сам был знаком с Первацельсом, и также, как и он, являлся хорошим врачевателем, я задал этот вопрос де Ариасу.
Тот задумался почти на целую минуту, показавшуюся мне в моём молодом пылком нетерпении сравнимой с вечностью, и сказал мне:
– Скорее всего, да, твой профессор знает тайну камня и получения из него порошкща проекции. Видимо этого порошка у него не так уж и много, раз он использует его очень редко, лишь в экстраординарных случаях. Восполнить запасы порошка не всегда удаётся, видимо он давно не занимается настоящей алхимической практикой, переключившись на медицину и преподавание.
Великое Делание ведь, мой юный друг, требует времени и полной, абсолютной самоотдачи, во время которого необходимо забыть про всё остальное, о врачевании, преподавании, и даже о любви!
Я ничуть не обиделся на этого «юного друга», каковым себя, в действительности и считал. А самого Пьера де Ариаса с этого момента я теперь уважал и почитал ничуть не меньше славного профессора Первацельса.
К этому времени я знал, что порошок проекции есть не что иное, как таинственный Философский камень, измельчённый в ступке алхимика специально для приёма его внутрь при тяжёлых заболеваниях людей и животных, да и просто так, для долголетия или продления жизни. Люди же чрезвычайно любят цепляться за свои драгоценно озабоченные жизни, они не прочь стать ближе к Богу безо всяких видимых заслуг…
Также упомянутый порошок можно было использовать для простого получения золота, либо серебра. Короли и герцоги нашей старушки Европы гонялись в наше время за порошком проекции похлеще, чем за самим золотом, намереваясь царствовать вечно, оседлав мнимую лошадь безсмертия, которую на свой страх и риск им подводили прямо к палатам некоторые истинные и мнимые алхимики средневековья.
Ведь при помощи порошка можно было получить не только молодость и здоровье, но также золото и серебро, то есть осуществить вековую и действительно извечную мечту земного человечка: быть здоровым и богатым!
Тут, к слову, я вновь не выдержал и спросил Пьера:
– А когда же ты сам думаешь приступить к Деланию?
Тот внимательно посмотрел на меня, глядя в глаза, и, одновременно, как бы сквозь меня и заявил:
– Ещё не все составляющие для Великого Делания приобретены, дорогой Виктор! Кое-чего не хватает, но думаю, что это вопрос двух-трёх месяцев. Я жду сейчас прибытия одного турка, который привезёт мне для Великого делания корни одного растения. Они потребуются для фиксации косной материи в нашем процессе. В самой же лаборатории у меня давно всё готово к трансмутации.
Я очень полагаюсь, на тебя, Виктор, надеюсь, ты помнишь наш договор! Тебе и наблюдать за процессом придётся лишь по утрам, всего часов пять-шесть, когда мне придётся спать. Эх, друг, если б ты знал, как бы я желал освободиться от этого сна вообще!
Тогда бы я мог сам всё время готовить Камень! К сожалению, пока такое невозможно, хотя ходят слухи, что были в старину такие алхимики, которые никогда не спали, постоянно бдя днём и ночью, и лишь благодаря этому они добивались успеха. Однако, я подозреваю, такими они стали лишь благодаря порошку проекции, который они получили и стали применять его для себя.
Мне тут стало даже немного страшно. Как это, – никогда не спать?! Это же невозможно! Даже боги отдыхают! Видимо этот Пьер был истинным фанатом алхимии, ничем не хуже моего уважаемого профессора Первацельса.
Наверняка он почувствовал мою недоверчивую мысль и вдруг внезапно переменил тему:
– Что-то ты стал реже у нас бывать, Виктор?
Я неловко замялся и сказал ему в ответ:
– Профессор стал уж слишком загружать работой, особенно вечером, зато утром я всегда свободен и сплю столько, сколько захочу!
Разумеется, после очередной бурной ночи, проведённой с Катариной! Об этом, я, конечно, благоразумно, умолчал.
Пьер тотчас заметно оживился:
– Значит, ты сможешь всегда приходить ко мне по утрам, чтобы замещать меня в моём дежурстве на атаноре?!
– Конечно, же, Пьер, я же тебе дал слово ещё тогда, на нашей встрече в Соборе! Я буду делать всё, что нужно, не сомневайся, друг!
Де Ариас пожал мне руку, и мы расстались с ним почти на две недели…
* * *
…Тем временем, над Первацельсом и над всей нашей кафедрой сгущались тучи, которых я, ввиду своей молодости и неопытности в так называемых житейских делах, не замечал и не видел.
А пока произошло необычайное… Как правило, наш профессор принимал страждущих исцелиться во второй половине дня, после занятий со своими студентами и бакалаврами. Ассистировала ему, как я уже говорил, Катарина; частенько во время приёма больных присутствовал и один из бакалавров, в тот день этим бакалавром был я.
И вот, вечером, уже на исходе дня, в нашу приёмную комнату зашёл странный человек, у которого, в буквальном смысле слова, не было лица, вернее, оно было, но изуродовано до такой степени, что казалось немыслимым и отсутствующим.
Вошедший сразу же напомнил мне одного из ужасных демонов «Божественной комедии» великого Данте! На лице пришедшего не было носа, ушей, губ и бровей; страшный, лысый, гладковыбритый череп завершал чудовищную картину, которую всем нам ранее никогда не представлялось лицезреть. Мы с Катариной просто были в шоке, лишь профессор сохранял своё обычное хладнокровие, присущее ему, впрочем, не в обычной жизни, а только при приёме пациентов, ведь, увы, как ни крути, всё же он был человеком, хоть и гением!
Только одни глаза вошедшего монстра, иначе оного и не назвать, чёрные колодцы без дна, смотрели на вас, и, казалось, хотели поглотить всякого, кто мог задержать на них свой взгляд. Кажется, радужная оболочка его глаза слилась воедино со зрачком, или попросту отсутствовала. Я лишь мельком взглянул на него и опустил, как говорится, очи долу. Иначе я рисковал утонуть в его глазах, либо они бы меня съели. Эти его глаза горели, каким то неземным дьявольским светом, будучи отражением всех сил самой бездны Вселенной.
– Что привело вас сюда, сударь? – спросил, наконец, Первацельс ужасного визитёра, который без приглашения уселся на стул, впрочем, предназначенный как раз для пациентов доктора.
И, о боже! Такого тембра звука я ещё никогда в своей жизни не слышал! Пришедшее чудище заговорило, но заговорило оно таким голосом, который и должен принадлежать явившемуся перед нами страшилищу. Голос его был глухой и звучал, как будто из закрытого крышкой, то ли гроба, то ли погреба, куда страдальца поместили на время за какую-то провинность:
– Профессор, как я вижу, ваши юные помощники не в восторге от моего внешнего вида, а в особенности от лица, точнее, того, что от него осталось. Я тоже ему не рад. Моё лицо ведь и рылом не назовёшь, слишком много чести для него. Посему очень коротко расскажу свою историю, и то, что привело меня к вам.
Тут он сделал паузу и, как будто что-то вспоминая, продолжал своё ужасное чревовещание:
– Моё имя Кармог, уважаемый профессор, несколько лет назад я участвовал в войне нашей Священной Империи с турками, приняв участие в последнем Крестовом походе к Гробу Господню. Я был тогда ранен и попал к неверным в плен. Турки же пожелали продать меня арабам в рабство, но в ночь перед торгами я бежал, однако неудачно. Через день, сидящий перед вами урод (который в то время таковым ещё не являлся), был пойман и жестоко поплатился за свой побег, результаты которого вы видите на моём несчастном лице, точнее, на его отсутствии.
Результат на-лицо, так сказать; как видите, несмотря ни на что, я ещё обладаю чувством юмора, и посему надеюсь, что для меня в этом прекрасном, хотя и бренном мире не всё ещё потеряно.
Мерзавцы отрезали на моём бедном лице всё, что только можно. Пощадили лишь мой язык, да глаза, и то лишь для того, чтобы я всем рабам рассказывал свою историю побега в целях острастки. Но и язык мой онемел от ужаса, поэтому я и говорю таким голосом, кажущимся вам нестерпимым… Язык мой стал негибким, подобным твёрдой древесине, он плохой стал помощник моей гортани!
«Всё же средние наши века не такие уж и романтичные, как свидетельствуют некоторые поздние учёные мужи, придавая им флёр возвышенной духовности», эта мысль часто приходила ко мне в голову, – особенно по мере моего ужасно медленного взросления. Рыцарство и преданность высоким идеалам, в этом мире почему то уживаются с гнусностью и мерзостью. Описываемые события происходили незадолго до так называемой эпохи Возрождения, но и в ту достославную эпоху, воспетую поэтами и, особенно, художниками, если святая церковь признает вас еретиком, право слово, вам трудно будет избежать костра её святейшей и добрейшей инквизиции.
Бедняга, к которому моё сердце уже до краёв прониклось сочувствием, тем временем, продолжал жаловаться на свою горемычную судьбу:
– Мой язык пусть и деревенел, закоснел, но остался невредимым, благодаря Богу, которому я не оставлял молитвы моей души! Будучи в плену, у меня и изменился голос, что невозможно для обычного человека. Для правильного произношения не хватает природной гибкости языка, вот в этом всё дело! Но куда больше меня волнует моё лицо, вернее, то, что образовалось на его месте…
Кармог сделал небольшую паузу, и через минуту продолжил своё «чревовещание»:
– Вскоре война вспыхнула с новой силой и турецкий паша, по чьему приказу я был изуродован, был убит, а все его рабы получили свободу от имени нашего Христа.
После возвращения в Европу я посетил более сотни магов, чародеев и знаменитых лекарей, но на мою просьбу везде получал отказ. Я пытался добраться до Индии, однако судьба распорядилась иначе. Теперь я пришёл к вам, и умоляю вас, не откажите мне в просьбе, о, великий и мудрый Первацельс!
– Да, конечно же, почему нет, я никому не отказываю, но в чём заключается ваша просьба, что мучит Вас, уважаемый Кармог?
– Как же в чём? Я хочу, чтобы вы чудесным образом вернули мне мой прежний вид, моё настоящее лицо, о всемогущий профессор! Я являюсь в этом виде не только пугалом для детей, но и для взрослых, как вы сами только что изволили видеть! Я знаю, что вы великий алхимик, месье!
Мы все трое буквально остолбенели от этого заявления уродливого незнакомца! Даже Первацельс был изумлён, а он то, уж поверье мне, давно ничему не удивлялся в этом удивительном, но, увы, часто предсказуемом мире. После затянувшейся, чисто гоголевской паузы, профессор, наконец, произнёс:
– Увы, я не всемогущий алхимик, и тем более, не Бог, а всего лишь его весьма скромный слуга. Нарастить вам нос, губы, уши, и всё прочее на вашем… ммм, лице, совершенно не предоставляется возможным. Даже моя магическая медицина тут безсильна… это невозможно!
Первацельс закончил свой спич, как отрезал, и тут в приёмной комнате наступила гнетущая тишина, должная, по обыкновению, чем то разрядиться. Так и случилось. Произошло нечто, из ряда вон выходящее, чего вновь никто из нас никаким образом не ожидал. Этот явившийся нам Кармог внезапно упал на пол пред нами, и стал выть и кататься по нему, что бывает, как при приступах падучей. Он катался по полу, выл и визжал, словно его должны вот-вот зарезать… Или уже режут! Этот вой проник внутрь меня и достиг пяток!
Сказать, что мы просто были в шоке, это ничего не сказать. Однако профессор первым взял себя в руки и быстро распорядился вызвать ещё пару молодых бакалавров. Припадочного уродца усадили на крепкий стул, связали ему руки и ноги, поскольку он ими постоянно вертел и дрыгал, сопровождая эти телодвижение ужасными утробными звуками.
Минут через десять он также внезапно успокоился и довольно внятно произнёс:
– Вы просто убили меня наповал, профессор, вы были моей последней надеждой…
Голова Кармога упала на его грудь, и в комнате наступила тишина, которую через пару минут нарушил уже мой любимый профессор:
– Я просто не хочу Вас зря обнадёживать, Кармог, кто бы вы ни были на самом деле. Органы и члены одних людей, другие люди, которых зовут хирургами, могут в наше время лишь удалять, но никак не наращивать и наставлять… Может быть, когда-нибудь позже, в будущем…
И тут мой любимый Первацельс, до сего момента расхаживающий туда- сюда по комнате, вдруг встал, как вкопанный, напротив необычного, но успокоенного верёвками пациента, и внезапно произнёс:
– В будущем эта задача, несомненно, разрешится настоящей медициной! Я в этом нисколько не сомневаюсь! Но почему бы мне не попробовать и сейчас?!
Мы с Катариной переглянулись в изумлении! Может у Первацельса тоже поехала крыша при виде уродливого незнакомца?! Но этого просто не может быть!
Внезапно, однако, в своём привычном, слегка резковатом стиле, профессор скомандовал мне:
– Развяжите ка его, Лагранж! А вы, сударь, – он в упор посмотрел в немигающие глаза Кармога, – потеряйте вашу последнюю надежду на свои нелепые упования, дабы более не расстраиваться! Это вам необходимо сделать, чтобы ваши припадки, очень схожие с припадками эпилептика, более не повторялись! Для начала, что вам нужно сделать, – это полностью смириться с судьбой. Запомните, мой дорогой: «Полное смирение даёт шанс на избавление! Помните всегда, что всё в руках Божиих!».
Таким набожным я никогда ещё не видел своего любимого мэтра.
Профессор помолчал немного, и продолжил вновь свою речь, глядя на пришельца:
– Я проведу с вами несколько сеансов лечения новым способом, который хочу на вас проверить, только и всего. Запомните ещё раз, – шансов у вас нет. Никаких. Но кое-что я попробую сделать. Приходите ко мне завтра вечером… сразу после захода солнца. Я приму вас, и мы побеседуем одни, без свидетелей.
Мы вновь переглянулись с Катариной, и в наших с ней взглядах просто таки сочилось недоумение и растерянность. Что же задумал профессор?
…Тут Кармог вскочил со стула и испарился, будто его и не существовало вовсе, и этот случай нам привиделся.
Мы с Катариной вопросительно уставились на профессора, который лишь произнёс:
– Надо же было его как то успокоить, чтобы бедняга совсем не сошёл с ума! Несколько дней придётся его потерпеть. Ну, а вы, оба, рот на замок закройте, этого случая не было, а вы все ничего не видели и не слышали. И этого теперешнего посетителя тоже у нас с вами никогда не было. Ясно?
– Да, – только и оставалось нам пролепетать с Катариной.
Не знаю, как она, но на этот раз я, почему то не поверил Первацельсу, как верил ему всегда. У меня возникло убеждение, что он, что то задумал. И, как оказалось впоследствии, интуиция меня не подвела: я оказался прав.
С тех пор Кармог стал приходить на приём к профессору через день после заката солнца.
Принимал его Первацельс всегда в одиночестве, выпроводив Катарину из лаборатории, и о чём они там беседовали, нам не было известно, как и о возможном «лечении» этого получеловека… Я потерялся в догадках, но так и ничего не выудил у Первацельса; когда ему было нужно, он умел молчать. Это продолжалось почти с месяц. Кармог приходил к профессору через день, они запирались в кабинете последнего, а что происходило внутри его, нам с Катариной было совсем непонятно…
И вот что произошло далее. Моя милая любовница Катарина не сдержала своего обещания, данного ей Первацельсу, и не призналась в этом даже мне…. Всё её дальнейшее поведение говорило об измене великому мэтру. Но я узнал об этом вновь позже всех.
С лёгкого болтливого языка этой недалёкой, и, как оказалось позднее, довольно вздорной, но весьма интеллектуальной потаскушки, Катарины, по альма-матер, а затем и по всему Парижу, поползли слухи:

