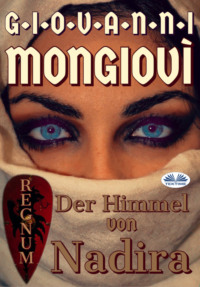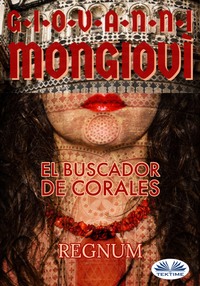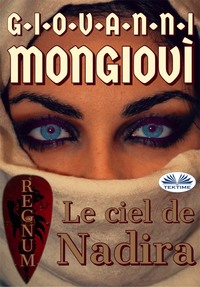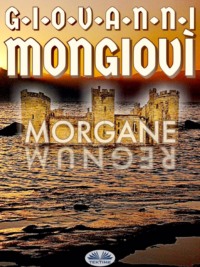Полная версия
Небосвод Надиры
– Но от деревни до Каср-Йанны всего полчаса езды! – произнес задумчиво человек с медальоном.
– Так то в гору, брат! – отозвался второй, намереваясь поиздеваться над Умаром.
– Дорогой мой Умар, ткань на мой кафтан привезли из ремесленных лавок из Баларма35. Ты когда-нибудь бывал в Баларме?
Искусством торговаться Салим владел ловко, но Умару он продавал не материальные блага, а нечто такое, что у сборщика налогов уже было: гордыню. Также как торговец зарождает в своем покупателе надобность заиметь вещь, которую намеревается продать, так и Салим унижал Умара, давая ему понять, что надо стать другим человеком, человеком, который показывает всем, что породнен с каидом, который гордо выставляет напоказ свое новое родство. Он давил на него фактом, что Умар никогда не был в Баларме, что делало сборщика налогов маленьким… таким же маленьким, как любой житель крестьянской деревни, хоть он и сборщик каида. Теперь Салим предложит ему решение, воздействуя на ту же гордыню, которую до этого ловко разгромил и которую необходимо возродить к новой жизни.
– Кафтан твой, брат! Тебе именно и нужен кафтан, в котором тебя заметят.
– Уж больно он дорогой, чтобы ты с ним расстался.
– Да ты шутишь, Умар? У меня таких отрезов тканей еще сотня… а мои портнихи шить умеют отлично. С другой стороны, я что и прошу-то у тебя – просто дать взглянуть в глаза девушке… Подумай-ка: у тебя всего-то и есть что сестра, которую стоит показать… а ты ее под замком держишь…
Умар кивнул служанке, которая стояла у двери и держала большой глиняный кувшин полный до краев воды.
– Позови Надиру.
Служанка вышла из комнаты.
Четверо мужчин долго сидели молча и ждали, когда придет девушка, на которую так хотел посмотреть приезжий. Умар нервно взял с блюда посередине ломтик хлеба, обмакнул в мед и поднес ко рту.
Надира, которая после вечерней ссоры с братом все это время сидела в своих покоях, вошла в комнату. На ней все еще с полудня было то же красивое зеленое платье с желто-синей отделкой, как всегда в присутствии мужчин, она закрывала лицо.
Джаля с Гаддой в растерянности и любопытстве припали к неплотно затворенной двери.
– Так именно эта девушка похитила сердце Ибн аль-Хавваса? – спросил Салим, обернувшись к Умару.
– Она и есть… моя сестра Надира.
Салим поднялся на ноги, а другие двое, что приехали с ним, переглянулись, стушевавшись в обстановке, вдруг ставшей колдовской. Надира остановилась посреди комнаты, взглянула на Умара, пытаясь понять, чего надо от нее гостю и какую роль он играет во всем этом.
– Иди сюда, девушка, подойди, – проговорил Салим, делая рукой знак приблизиться.
Умар согласно кивнул головой, и Надира, посчитав, что доверять можно, сделала два шага вперед.
Взгляд Салима утонул в глазах девушки, но смотрел он на нее так вожделенно, что Надира вынуждена была опустить глаза, почувствовав себя неловко, как будто мужской взгляд уже сам по себе представлял для нее большую опасность.
Несколько секунд спустя Умар произнес:
– Всю ночь смотри – не насмотришься.
И обернулся к Надире:
– Довольно и этого, сестра.
Салим запросил:
– Нет, девушка, погоди немного! А ты, Умар, я с ума сойду, если не попрошу у тебя вот еще что.
– Что же.
– Не вижу служанок-негритянок у тебя дома, а ведь у каждого достойного мужчины есть хоть одна. Поедем со мной до моего родного города, возьми с собой столько людей, сколько захочешь, сколько посчитаешь нужным, а я навалю каждому в руки денег и навьючу на каждую лошадь или на верблюда тюков со всем, что тебе понравится… и дам тебе черную служанку. Я человек богатый и благородных кровей; не отказывайся, брат! О тебе заговорят все и наверняка нарекут мечеть в твою честь.
При таком запредельном обещании у Умара зазвенело в ушах, голова закружилась, опустела в замешательстве от посула. Но он взял себя в руки и подавил намечавшийся торг в зародыше, примерно представив себе, чем придется за это расплачиваться.
– Я не стану проявлять неуважения к своему каиду и принимать богатства от кого-то другого.
Надира поспешила выйти из комнаты и присоединилась к двум женщинам в уголке, где она могла все слышать, но видно ее не было.
Салим опять уселся у очага, отказ оскорбил его. Он погладил себе бороду и неспешно произнес:
– Как-то раз, когда мой сын был еще совсем маленьким, я увидел, как он играл горсткой золотых робаи36; складывал их в стопочку как деревяшки, пока стопка не падала. Служанка не хотела, чтобы он играл деньгами, и кричала на него как шальная, чтобы он положил деньги на место. Тогда я подошел к нему, вытащил из кармана несколько монеток из цветного стекла и предложил в обмен на золото. Сынишка живо поменялся.
Так вот, ты, Умар, как то дитя, готов отказаться от золота и удовольствоваться цветастыми стеклянными пустышками.
– На стеклянные пустышки люди хлеб покупают! – воскликнул Умар, рассерчав на словесные выкрутасы, которыми хотели оскорбить его.
– Но ведь ты не хочешь навсегда остаться человеком со стеклянными пустышками… У тебя в доме есть такое, что больше золота стоит… и поверь мне на слово, твой каид не питает к тебе никакого уважения!
– Моя сестра уже принадлежит Али ибн аль-Хаввасу! – повысил голос Умар, он вскочил и ткнул пальцем в Салима.
– «Демагогу», тому, кто обольщает народ одними словесами… У него есть дар, конечно… я и сам не смог бы сделать лучше. Но ты понимаешь, брат, что Ибн аль-Хаввас может предложить только слова? Только монеты из цветного стекла!
– Заплатит за Надиру, когда сможет взять ее.
– Я предлагаю тебе больше и даже не прошу отдать ее мне. Откровенно говоря, плотская любовь услаждает меня меньше, чем золото и чем удовольствие потратить его.
Умар растерялся; может ли быть, что приезжий имеет в виду не то, что Умар подумал поначалу, когда тот попросил что-то еще?
– Ну и как ты собираешься потратить его здесь? – спросил он.
– Ты же не подумаешь, что я поверил будто красота Надиры ограничивается ее глазами? Об этом, должно быть, догадался и твой каид, а то он не стал бы просить ее в жены, взглянул бы, да и только. То, что твоя сестра прячет под чадрой, надо думать, столь же прекрасно, сколь ее глаза, я уверен. Прошу тебя всего лишь, пусть она сегодня в этой комнате потанцует для меня.
У Умара аж уши запылали огнем. Богач бросал вызов его зависти, будто его роль поручителя девушки ничего не стоила.
– Джамал, подари медальон, который носишь на шее, моему другу!
Тот встал и повесил тяжелый медальон на шею хозяину дома.
Умар поднес медальон к глазам, взвесил в руке: медальон был очень дорогой, с искусной гравировкой, с инкрустацией, очень тяжеловесный.
– С ним тебя все заметят, брат! – с улыбкой отозвался Салим.
Но Умар снял с шеи медальон и бросил на хлебное блюдо.
– В этом доме никогда не играли музыку и не танцевали! – решительно отрезал он.
– У Джамала в суме лежит мизмар37 и он прекрасно играет на нем.
Надира за дверью пришла в смятение от просьбы незнакомца, она уже представляла себе, что Умар вот-вот взорвется от гнева, также думали и Джаля с Гаддой.
– Джамал будет счастлив сыграть в присутствии твоих наложниц, – присоединился Джамал.
Салим посерьезнел и поднялся на ноги.
– Я много путешествовал… познакомился с многими людьми… и даже каиды никогда мне ни в чем не отказывали!
Тогда Умар тоже встал.
– Ты думаешь, что можешь купить все, но честь не продается и не покупается! Я отвечаю за всех женщин в этом доме и не позволю никому даже думать, что он может обращаться с моей сестрой как с проституткой!
Гость усмехнулся:
– Не прослышь каид про Надиру, ты рано или поздно продал бы ее первому встречному… может быть и тому, кто обращался бы с ней именно как с проституткой. Поверь на слово человеку, который знает, как устроен мир.
– А ты поверь на слово мне, а я сам себя знаю. Ты осквернил мое гостеприимство, поэтому я не могу больше терпеть твоего присутствия в моем доме.
Умар взглянул на державшую кувшин служанку и сухо бросил:
– Пусть вернут заезжим вещи и лошадей.
Умар стоял и смотрел на них все время, пока они собирали пожитки и выезжали со двора. Но с лица Салима не сходила ехидная усмешка; с виду он нервничал, стараясь скрыть неловкость.
Подъехав к воротам, он сказал:
– Попомни мои слова, Умар: ты пообещал Надиру каиду, и скоро именно перед каидом и его гостями будет она танцевать без всякого стыда! – и ускакал со спутниками, исчезнув во мраке ночи.
– Кто был этот человек, кого ты настроил против себя? – в тревоге бросилась к Умару Джаля.
– Это был человек, каким я стать не хочу никогда! – отрезал он, уходя к себе в комнату, и отправил по комнатам женщин.
Глава 7
Зима 1060 года (452 года хиджры), рабад Каср-ЙанныКогда Идрис закончил склоняться в вечерней молитве, он увидел, что Аполлония нарушила запрет и стоит, крепко обняв брата. Она не заметила, как стражник подошел сзади, он рывком потянул ее за платок и сорвал с головы, ухватил за распустившиеся волосы, повалил на землю и оттащил от столба, Аполлония брыкалась и старалась освободиться от хватки. Идрису она вконец надоела, и без того никакого удовольствия стоять и сторожить пленника, так еще она тут крутится; он решил, что сейчас проучит ее раз и навсегда, усмирит плетью также, как днем раньше задал острастку Коррадо. И принялся хлестать ее куда попадет, но больше целился в лицо. Аполлония кричала и прикрывалась руками.
Чуть поодаль Коррадо дрожал, приоткрывал глаза и снова зажмуривался в приступе лихорадочных болей. Вдруг ему привиделся образ мужчины… взрослого мужчины, он стоял совершенно обнаженный с ног до головы, привязанный к древку флагштока. Но он не кричал под ударами своего истязателя, а гордо терпел муку, сжимая кулаки.
– Рауль, что с ним делают? – спросил Коррадо у пустоты.
Избиение сестры, которое Коррадо видел перед собой, вызвало в памяти травму детства. Впрочем, будь Коррадо полностью в сознании, он наверняка попытался бы выдернуть из земли столб, к которому его привязали, и отплатить человеку, который нещадно бьет сестру.
Волей случая остановил Идриса Умар, когда собирался подняться на балкон.
Так, Аполлонии разрешили тихонько сидеть в сторонке, она сидела, сжавшись в комочек и прислонившись спиной к стене, головой уткнулась в коленки и плакала.
Когда Умар решил, в котором часу освободят пленника, Аполлония заплакала еще пуще, почувствовав облегчение оттого, что казавшееся бесконечным наказание подходит к концу.
Позднее Идрис взял под уздцы скакунов приехавших гостей и увел их в примыкавшую к дому конюшню.
– Смотри, чтобы я не пожалел, что не добил тебя, когда Умар вступился, – предупредил стражник, сурово глядя на Аполлонию.
Она побоялась снова нарушить запрет не потому, что ее опять побьют, а потому, что могут прогнать домой.
– Брат, брат! Я здесь, я не уйду.
Потом на четвереньках подползла чуток к столбу, но все равно до столба оставалось, по меньшей мере, еще четыре шага.
– Коррадо, душа моя, жизнь моя, тебе еще только немножко надо потерпеть. Брат, ответь, дай знать, что сердце у тебя в груди еще бьется.
Потом подползла еще на полшага и зашептала:
– Я знаю, что ты печешься обо мне как брат о сестре… но мое чувство к тебе не того же рода…
Несмотря на то, что разум брата был затуманен, и он почти не понимал, что она говорит, Аполлонии нелегко было признаться ему в том, что таилось у нее в сердце многие годы, в чувстве, которое заставляло ее сгорать от стыда перед иконой Святой Девы.
– Не думай, что я – преданная сестра, потому что будь на твоем месте Микеле я, может, не осталась бы здесь на холоде и под плеткой… Не думай вообще, отчего я сижу тут, Коррадо, потому что вдруг откроется тебе такое, отчего ты совсем покинешь меня… а для меня это хуже, чем если бы ты умер.
Когда вернулся Идрис, она умолкла, чтобы он не услышал признания, из-за которого от нее отвернулась бы вся деревня, осудив на отторжение еще большее того, в котором она уже жила, будучи христианкой.
Сошла ночь, муэдзин пропел ночной азан. Идрис пристроился на низкой кирпичной кладке достаточно далеко, чтобы не слышать девушку, но достаточно близко, чтобы вмешаться, если она опять подойдет к столбу.
– Еще пару часов и я уведу тебя домой, – проговорила с улыбкой Аполлония.
Но снова посерьезнела, когда ощутила, что не чувствует пальцев на ногах, и представила себе, что брату, наверное, еще холоднее. Она дрожала от холода и дула в сжатые кулаки, чтобы согреться.
– Ступай домой, девчонка! Ты совсем продрогла, не чувствуешь? – окликнул ее Идрис, увидев, как она трясется от стужи.
– Не пойду… тебя уж скоро отвяжут, – ответила она, обращаясь к Коррадо.
Ее карие глаза смотрели вверх в лицо брату, слезы застывали под глазами, не скатываясь из-за стужи вниз по щекам.
– Если бы ты хоть немножко верил в Бога, вера тебе так помогла бы сейчас… – неслышно прошептала Аполлония Коррадо, она знала, что в вопросах веры особого рвения у него нет.
– Я знаю, брат, ты не хочешь верить, что есть Бог, который позволяет делать зло, какое тебе сделали. Знаю, что ты однажды уже обманулся в Христе и всех святых, когда они не выслушали твою молитву, ты так хотел, чтобы отец вернулся.
– Рабель де Ружвиль, – пробормотал Коррадо.
Аполлония мигом умолкла; брат все еще в сознании. А вдруг он услышал ее признание в любви несколько минут назад…
– Коррадо, брат, ты жив!
– Рабель де Ружвиль! – выдохнул он громче, почти прокричал, почти проплакал.
– Вспомни о святом, о хранителе твоего отца, позови его! – подсказала Аполлония, чтобы занять его разум чем-нибудь, чтобы он не заснул.
– Святой Андрей…
– Агиос Андреас38, – повторила Аполлония по-гречески, на языке христианского богослужения на Сицилии.
В семье Аполлония выражалась на своеобразном простонародном латинском языке, на нем же разговаривала как с христианами Каср-Йанны, так и с многими местными жителями, принявшими ислам. Когда же она молилась, вспоминала старый греческий язык… который, по правде говоря, не особо понимала. С другой стороны, в рабаде, поскольку там жили в основном магометане, Аполлония и ее родственники говорили по-арабски; на Сицилии арабское наречие уже довольно сильно отличалось от языка, на котором говорил Пророк. Иногда они включали в свою речь и берберские слова, которые выучили, слушая, как выражаются женщины из берберских племен у колодца и мужчины в полях.
Аполлония закрыла глаза, сложила в молитве руки и забубнила молитвы, взывая к Богоматери Марии, к Святой Деве, чтобы она заступилась за Коррадо. Молилась она, конечно же, шепотом, поскольку тем, кто не проповедовал ислам, было запрещено произносить молитвы вслух, чтобы они не доносились до ушей верующих… а Идрис сидел довольно близко.
– Мариам Теотокос и Партенос39… – зашептала она.
Коррадо слышал голос Аполлонии также, как слышал в эту минуту голос своих воспоминаний, вызванных образом Богоматери и святых, к которым возносила молитвы сестра.
Глава 8
Начало лета 1040 года (431 года хиджры), долина к востоку от ТрагиныСтяги яростно хлопали на ветру; в тот день направление порывов ветра все время менялось, как будто даже Бог не знал, на чью сторону встать… поэтому по мнению потомков-атеистов, Бог не мог решить кому подсобить в этом сражении. С одной стороны стояли сицилийские и африканские сарацины – африканцы приплыли на помощь, – вопили «Аллаху Акбар40» и готовы были сбросить захватчиков в море. С другой же стороны орали «Христос победит» константинопольские наемники, считавшие, что захватчики – мавры.
По приказу предводителя, укрывшись за Джябалем41 и Карониями воины Абдуллы коленопреклонялись в сторону Мекки, а значит невольно в сторону вражеских сил. Те тоже склонились в молитве, но голоса их не сливались гармонично в унисон, кто возносил молитву на латинском языке, а кто на греческом.
Лагерем стояли милях в двадцати к востоку от горы, на которой оборонялся за стенами городок Трагина42, и здесь среди палаток всего несколько часов назад Конрад смотрел вслед отцу, который удалялся вместе с дружиной.
Если не считать маленькой деревушки, где жили торговцы и крестьяне, от этого места до людского жилья было далеко, около лагеря с одной стороны на склонах гор повыше росли густые леса, а с другой стороны раскинулись пригодные для пастбищ луга. В долине текла речушка, текла в самой низине, и поэтому не просыхала даже летом, и солдаты всегда могли набрать воды.
Конрад не сводил глаз с точки вдали, куда уходила дорога и в которой только что пропал отец. Поутру он помог ему надеть поверх белой туники тяжелую кольчугу, на груди которой красовался красный крест. Рассвело совсем недавно, но солнце уже припекало, поэтому Конрад положил шлем в тень, чтоб был попрохладнее, когда отец станет надевать его. Перед тем, как вскочить в седло последним прикосновением Рабель взъерошил сыну волосы, а Конрад подал ему хоругвь и шлем. Последний взгляд, и вперед, фигура отца затерялась в гуще солдат, которые двинулись к открытому полю неподалеку от лагеря; там Георгий Маниак воззвал к своему воинству. Конрад взобрался на скамеечку, с которой только что сошел благословлявший солдат монах, и в море голов в долине попытался разглядеть Рабеля. Скоро он различил Рауля, голова и плечи которого возвышались над толпой, и подумал, что отец, должно быть, с ним, рядом.
Все знали, что сражение будет решающим во всем сицилийском походе, и все же в тот день Рабель постарался не выдать беспокойства все время, когда был с сыном.
– Много их, тех других? – спросил Конрад.
– Дозорные передают, что большей частью пехота. А у нас кони!
– Можно мне взглянуть на этот раз…
– Конрад, сынок, я тебе сто раз повторял: оставайся здесь с женщинами, слугами и монахами… – отозвался Рабель и продолжил, – но, если нам не посчастливится, как только заслышишь дурные вести, беги на холмы и спрячься.
– И такое может быть? Танкред и Рауль говорят, что все пройдет также, как раньше… Мы победим и положим в карманы порядочный куш.
– Правильно говорят… тревожиться не о чем. Ремесло у нас нелегкое, это верно, но биться мы умеем. А к тому же, не дай бог посеять среди солдат неверие в свои силы!
Так Рабель ободрил сына.
Наступил полдень, ожидание томило душу, и в лагере царила напряженность. Время от времени кто-то прибегал с поля боя сказать, как идет битва. Кое-какая из служанок плакала, видно воспылала чувством к какому-то солдату, и у них завязалась любовь. Потом к Конраду подошел войсковой священник – мальчик сидел на скамеечке на самом солнцепеке – и сказал:
– Сынок, отец твой раньше времени не вернется, не стоит сидеть тут разглядывать дорогу.
Конрад посмотрел на него снизу вверх.
– На-ко вот хлеба ломоть! – произнес священник.
Конрад взял краюшку и стал жевать.
– Если тебе надо чем-то развеяться, а не только голод утолить, то пойдем со мной.
Он повел мальчонку на безлесый холм, вершина которого золотилась под палящим солнцем. Но лежала на вершине не просто земля, а возвышалась большая серая потрескавшаяся скала, сверкавшая вкраплениями сланца. В тени от кроны единственного оливкового дерева, росшего у скалы, сгрудилось маленькое стадо коз, и сидел старый пастух, лицо пастуха изрезáли морщины, их было больше, чем прожитых лет. Священник обогнул скалу и вошел в расщелину. Конрад поразился, увидев, что пещера в скале довольно просторная, такая, что человек двадцать поместилось бы, а все стены расписаны яркими красками, сценами из библейских рассказов и жизнеописаний святых; роспись была в духе восточной иконописи. В месте, куда вставали для коленопреклонения, стояла небольшая скамейка, а на передней стене висел крест.
– Святой отец, вы не здешний, вы отправились с войском; откуда вы знаете про это место?
– Монахи греческого вероисповедания приходят сюда молиться многие века. Это они сказали мне. А теперь молись Господу и Святой Деве, чтобы твой отец вернулся живым и здоровым, – проговорил священник и вышел из пещеры.
Конрад остался один, он встал на колени, закрыл глаза, прижал к груди крест и стал молиться, чтобы Бог привел отца обратно.
Когда он вернулся в лагерь, вечерело. Он увидел, что несколько конных нормандцев уже вернулось из боя, и бросился бегом. И побежал еще быстрее, когда заметил, что один из конников – Рауль; с его датского топора и с кольчуги еще капала кровь.
– Конрад, ты где был? – бросился он к нему, едва мальчик подбежал.
– Меня один священник на холм водил… – объяснил Конрад, но не сказал зачем тот повел его в пещеру из страха, что над ним посмеются.
Но вдруг забеспокоился… если бы отец вернулся живым и невредимым, он, наверняка, прискакал бы в голове отряда. На лице Рауля читалась горесть, будто весь его пыл развеяло какое-то злосчастье. Лишь теперь Конрад начал догадываться, о чем не говорят вернувшиеся нормандские ратники под началом Рауля.
– Где отец? – спросил Конрад, но ответ он уже знал.
– Мы победили, сынок, – вышел вперед Танкред – он тоже был другом Рабеля, – попытавшись как-то облегчить Конраду горе; Танкред все еще сжимал свое копье, с плеч свисал красный плащ.
– Точно, а те, кто остался в живых, бросились врассыпную, – подключился к разговору еще один.
– Невиданная победа! – донеслось из отряда.
– Даже ветер был за нас нынче… но ураганную бурю опять принесли мы, нормандская дружина, – добавил Танкред.
Но пока Танкред все еще бахвалился, Конрад протолкался между солдатами.
Его отец лежал на земле. На горле алела глубокая рана; видимо, нанесли невероятно мощный удар, раз порвали даже кольчугу. Ветер шевелил светлые волосы: кто-то позаботился снять с него шлем и капюшон.
Конрад застыл на месте, он остекленело смотрел на отца, у него не было сил приблизиться. Ему никогда не приходило в голову, что такое может случиться на самом деле.
Подошел Рауль, положил руку мальчику на плечо и сказал:
– Дружина пустилась вдогонку… многие из нас все еще лежат на ратном поле и ждут, когда мы придем за ними… но мы… мы… нет, милый Конрад, мы не могли заняться грабежом или думать о других павших, когда сын нашего брата по оружию ждет отца и тревожится.
– Вы не принесли бы мне его в такой спешке, если бы он испустил последний вздох прямо на поле боя, – произнес Конрад, и слезы потекли у него по щекам.
Рауль склонился к нему и постарался успокоить:
– Нет, Конрад, нет… твой отец и правда умер в сражении!
Он лгал, чтобы сын не чувствовал себя виноватым, но Конрад был не глуп и не поверил ему. Предсмертный вздох Рабель испустил тут в лагере в надежде увидеть лицо сына в последний раз; пропитанная кровью тряпица, которую прижимали к ране на шее, говорила, что старались сделать так, чтобы Рабель не умер до прихода Конрада.
– Это ты должен закрыть ему глаза, – подтолкнул его вперед Рауль.
Конрад взглянул в голубые глаза отца и не смог сдержать слез отчаяния. Тем временем, вокруг тела собрались женщины, священники, солдаты, оставшиеся в резерве, которые защищали лагерь, и прислуга. Конрад уловил в отцовских глазах что-то похожее на укор, но, естественно, намекнул это лишь внутренний голос самого Конрада, его чувство вины оттого, что не успел прийти.
– Отец! – прокричал он и упал отцу на грудь.
– Ну, чего уставились! – гаркнул Рауль еще громче, обернувшись к толпе. – Проклятые греки, – произнес он вполголоса.
Этими словами Рауль вылил все свое презрение к местным жителям, то есть к христианам, которые из-за исповедания восточной ветви христианства считались «греками». Впрочем, такое выражение нетерпимости включало и Георгия Маниака со своими войсками, поскольку отношения генерала с бойцами дополнительных контингентов сложились из рук вон плохо.
Люди, забоявшись выпада Рауля, стали расходиться. Конрад же вскочил и бросился искать священника, который убедил его не сидеть и не ждать, как верный пес.
Рауль рванулся вслед за мальчиком, тот бегал среди палаток высматривая окаянного священника.
– Сынок, погоди! Да ты кого ищешь?
– Того священника, который увел меня на холм.
– Да что за священник?
– Он на нашем языке говорил.
Потом он подумал, что священник, наверное, там и остался, в церкви на холме. Конрад взбежал на холм, послышалось блеяние коз, но пастуха видно не было… Конрад вбежал в пещеру. Свет вечерней зари затухал, краски, которые поразили его в полдень своей живостью, поблекли, роспись на стенах из-за полумрака различалась едва-едва. Рауль с факелом в руке вошел вслед за ним, как только он вступил в пещеру, краски вновь засияли. Конрад, за неимением лучшего оружия против бездушных каменных стен, хватал пригоршни земли и швырял ими в написанные на стенах лики Христа и Богоматери. Он рыдал взахлеб, теперь гнев на священника с его благими намерениями обратился в гнев на Бога, против оставленной без внимания молитвы.