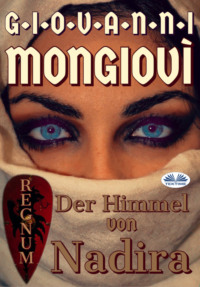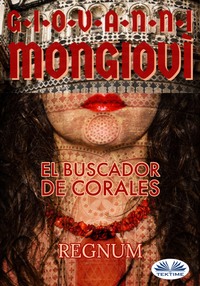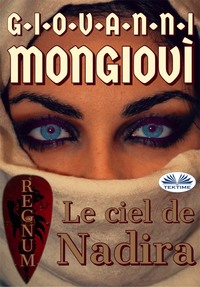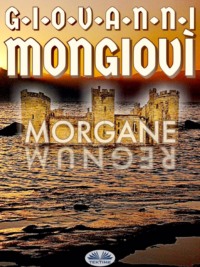Полная версия
Небосвод Надиры

Giovanni Mongiovì
Небосвод Надиры
Сицилия, XI век. Надира, простосердечная девушка из берберской семьи, живет в подчинении у своего брата; она подчиняется ему и тогда, когда ей говорят, что она станет одной из жен эмира города. Но глаза ее настольно необычны и притягательны, что на девушку обращает внимание много претендентов. Вскоре разносится слух, что над девушкой висит проклятие: мужчины, которые встречаются с ней взглядом, не могут не воспылать желанием, не могут не попытаться завладеть ею. Именно глаза Надиры и бескрайний небосвод, о котором они напоминают, станут причиной последней войны, которая вспыхнет на мусульманской Сицилии. Тем временем, грозные нормандские воители братья Готвиль, ждут любого удобного случая, чтобы пересечь пролив и двинуться крестовым походом на мавров.
Джованни Монджовѝ родился в 1986 году в Катании. Учился на техническом факультете и сейчас работает в технической отрасли, но больше всего он любит писать. В двадцать один год пишет свой первый роман «Лето Господне 1282», роман опубликован в 2011 году, а в 2017 году переиздан. Следуют романы «Последний муджахид – Истоки ненависти» и «Заговор донов», которые завершают трилогию под названием «Безвременные дни». Во всех романах ощущается его большая увлеченность историей и любовь к своей малой родине; к теме социально-исторической нравственности примешивается самый настоящий приключенческий рассказ, но самая широкая тема его романов – любовь. Роман «Меж тьмой и светом», законченный в 2017 году, стал первой книгой, опубликованной в самиздате. В 2018 году автор приступает в написанию ряда произведений под общим названием «Regnum» и публикуется «Небосвод Надиры» – первый роман этой серии.
Все права защищены.
Ни один из фрагментов данной книги в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав воспроизводиться не может.
© Джованни Монджови., 2020
© Т. Кузнецова (перевод), 2020
© Тектайм, 2020
На обложке: глаза Луаны (любезно предоставлено в пользование);
нормандский щит, Афины, Военный музей.
giovannimongiovi.com
Предисловие
Сколь бы не впадали в море тысячи рек, их никогда не станут называть именами вод, в которые они текут, по той разумной причине, что море не может быть причиной существования реки. Таким же образом, начало не может определять, где заложен конец, как не может превзойти его значимостью. Пусть же взглянут на исток реки, на высокие скалы, средь которых она берет начало, пусть изопьют ее вод и на основании того дадут ей название.
Не деяние творит человека, не рука описывает жест, а сердце; там, откуда проистекает первопричина, основание всего. Сутью первородного греха было не сорвать плод, а все прочее, что подтолкнуло на этот жест.
И так, алчность может крыться в чем угодно: в сочном куске мяса, в багровом вине, в очертаниях девичьей стати… или, по крайней мере, таким образом она оправдывает того, кто поддается ей. Но истинно то, что кроется она только лишь в глазах и в сердце человека, который чувствует это снедающее полыхание, то пожирающее пламя, которое есть вожделение.
Средь просвещенных умов тех людей из древнего греческого рода ходила одна легенда, одно из сказаний, которые остались в живых после принятия христианства и после исламского меча. Позвали на битву в защиту троян могущественную амазонку Пентесилею. Красоты она была несказанной, и, как частенько случается в греческих мифах, богини завидовали ей. Вот почему Афродита решила покарать ее самой страшной карой: всякий мужчина, который увидит ее, воспылает к ней таким неутолимым желанием, что наверняка попытается изнасиловать. Пентесилея скрывала свои очертания под доспехами сколько могла, но вот во время сражения Ахиллес убил ее и снял с нее оружие и доспехи. И лишь тогда в полную меру открылось, насколько кара Пентесилеи превосходит саму смерть… Ахиллес не сумел воздержаться…
И все же, миф мифом, а существует ли и впрямь что-нибудь настолько неодолимое и несущее проклятие, что порождает в человеке неисцелимое желание при одном лишь взгляде? Красота такой одержимости, что выносит на свет коварство сердца, но красота двойственная, поскольку она также в силах явить благородную добродетель в душах достойных людей.
Изложенное ниже сказание – первое из многих… первое из многих преданий о мужчинах и женщинах и о кровных узах, которые привязывают каждого из них к своему прошлому и грядущему будущему. Это сказание об одной земле, о ее народах, о ее войнах, о ее пороках и дремлющих достоинствах. И все же, следующее ниже сказание – именно первое, и поскольку оно первое, в нем говорится о первородном… а потому, раз говорится о первородном, в нем не может не повествоваться о том же желании, которое изначально привело человека к своему первому греху.
Часть I – Привязанный к столбу чужеродец
Глава I
Зима 1060 года (452 года хиджры), рабад Каср-ЙанныТам, в той долине, где нории1 никогда не прекращают свой круговорот… там, где раскинулись склоны горы Каср-Йанна… там, на плоскогорье, где рабад2…
Долина у подножия древней Энны тянулась к востоку и терялась за горизонтом; века арабского интеллекта сделали ее более плодородной, чем земля, которой она иначе так бы и осталась. При взгляде на запад возвышался на вершине горы город Каср-Йанна3, пуп Сицилии. Глядя на восток, вниз с плоскогорья, взгляд терялся среди десятков холмов, лесочков, лужаек, пастбищ и речушек… но и среди высоких гидравлических колес, которые могли поднимать воду из долины… и среди каналов, прокопанных, чтобы довести воду до полей. Домов в поселении было немного, штук может тридцать, и всего одна маленькая мечеть, словно свидетельство малой значимости местечка.
Только что перевалило за полдень, и по полю, предназначенному для выращивания тыкв для бутылей, двое слуг волокли под мышки молодого мужчину лет почти под тридцать. Ногами он будто намеревался бороздить поле, как обычно бороздят сохой, так он упирался пятками в землю и отбрыкивался от хватки. Он не поднимал головы, и тем, кто наблюдал за сценой, виднелся только затылок и коротко стриженные волосы.
На молодом человеке были штаны и разорванная туника. Слуги же были одеты совсем по-другому: в цветастые одежды свободного покроя. У одного на голове было что-то вроде тюрбана, и оба носили бороду и длинные волосы.
Когда они дотащили несчастного пленника до улиц рабада, собралась любопытствующая толпа. В селении все друг друга знали, и все знали обитателей последнего дома в конце дороги перед полями, дома христиан, единственных в рабаде.
Повсюду в окрестностях работали всеми силами и не покладая рук, чтобы земля была всегда пригодной для жизни; вся округа была предназначена для земледелия, и семьи организовывались общинами, разбросанными среди холмов. Дворян в рабаде не было, как не было и воинов, а жили одни лишь крестьяне, которые работали каждый сам на себя и на сборщика податей каида4 Каср-Йанны.
Именно его дом и стоял на другом конце деревни противоположно дому христиан, на самом высоком месте. Перед большим домом открывался просторный, частично огороженный двор, в него-то и вошла троица, прошагав по запутанным улочкам и характерным дворикам, присущим поселениям арабской планировки. Прямо там, где раскинулся рынок, точно посредине его, они привязали измученного молодого человека. Стянули ему запястья, а руки прикрутили к столбу. Натянули веревку кверху и закрепили ее в естественном разветвлении жерди, которую установили над головой пленника так, что он не мог ни сесть, ни нагнуться.
В ту же минуту появился во дворе подчиненный каида, человек даже слишком молодой для доверенной ему должности, некий Умар. Собой парень был красив: из племени берберов, кожа на лице немного смугловата, пара глубоко посаженных черных глаз и прямой, хорошо сложенный нос. Борода скрывала его возраст и делала еще больше похожим на отца, Фуада, тот тоже был сборщиком податей при каиде, отец умер почти два года назад.
Умар вышел из налоговой конторы, примыкавшей к дому сбоку, и ухватил пленника за белокурые, отливавшие медью волосы, заставив его поднять голову и посмотреть в глаза. По тому, насколько синюшным было лицо пленника, можно было догадаться, что те двое изощрились, избивая его.
И вот пленник и Умар смотрели друг другу глаза в глаза, и ничто не мешало этим гордым черным глазам пристально вглядываться в еще более гордые, но зеленые, глаза пленника.
– Ты что же, подумал, что можешь оскорблять меня, и тебе ничего не будет… – проговорил Умар.
Пленник не отвечал; не потому, что не понимал по-арабски, а потому, что любые слова были бы бесполезными.
– Не стоит стоять тут и зря тратить время, – договорил сборщик налогов.
Он кивнул головой одному из слуг, из тех, что притащили ему пленника и связали, тот вконец разорвал на пленнике тунику и захлестал по спине мокрым кнутом.
Все жители деревни сгрудились у ворот, но ни у кого не было храбрости вступить в ограду двора. Сдавленные стоны молодого человека впечатляли не больше, чем красные кровавые полосы, которыми покрывалась спина.
Все жители перешептывались со стоящими рядом, что никогда такого раньше не случалось в рабаде. Родичи же истязаемого прятались в толпе и, здраво рассудив и сгорая от стыда, стояли молча. Не было лишь членов дома сборщика налогов, его матери, жены и сестры, которые предпочитали не вмешиваться в дела главы семьи.
Когда же слуга, которому поручили наказать пленника, закончил дело и так и оставил молодого человека привязанным к столбу, люди вернулись к своим занятиям. Пленника там же и оставили стоять, на произвол вечернего холода и ночной стужи.
Лишь ближе к полуночи кто-то сжалился над ним и получил разрешение принести покрывало. Люди Умара позволили накинуть его на пленника, понимая, что провести ночь среди зимы под открытым небом в горах Каср-Йанны было бы слишком тяжело для всякого.
Многие видели, как почти всю ночь пленник дрожал и перепрыгивал с ноги на ногу, чтобы не стоять и не замерзнуть. Потом утром, когда по всему двору вновь раскинулся рынок, увидели, что он заснул, обмякнув на стягивавшей запястья веревке, будто подвешенный к стволу дерева тюк. Кое-кто даже подумал, что он умер и в придачу решил проверить, отвесив ему пощечину.
Опять наступил полдень; теперь осужденный стоял без питья и без еды целые сутки. Во дворе теснилось стадо коз, козы блеяли и пощипывали травинки. От монотонного блеяния пасущегося стада привязанный к столбу осужденный снова задремал, он подумал, что у него вот-вот подломятся колени и оторвутся кисти рук… Потом, в какой-то момент он почувствовал, что рядом кто-то стоит, и открыл глаза; и верно, кое-кто уже давно стоял неподалеку и смотрел на него. В трех шагах от столба стояла девушка, она не сводила с него широко распахнутых глаз. Глаз прекрасных, с чудесным разрезом, большинство людей таких глаз никогда не видело, но осужденному и жителям рабада эти глаза были знакомы. Глаза такой насыщенной бирюзовой голубизны, что можно затеряться в них и не найти себя никогда; глаза особого цвета, который ближе к зрачкам переходил в темно-синий как морская пучина. Глаза, которые могли затуманить умы и обречь на вечное проклятие сердца.
На девушке было красивое зеленое платье с желтой и синей отделкой характерного покроя народностей Северной Африки, перед лицом она держала край хиджаба, чтобы скрыть лик. Чужеземные очертания фигуры, настолько несхожей с наружностью коренных жителей острова, казались пьедесталом для ее глаз, этого несоизмеримого шедевра, который притягивал внимание, как ничто другое. Непослушный локон выбивался из-под красного хиджаба и выдавал черноту волос.
Когда пленник увидел девушку, он снова склонил голову, но вскоре поднял на нее взгляд и медленно продекламировал:
– «А ведом ли тебе, властитель мира, Надиры небосвод и бирюза очей ее…»
Взгляд девушки смутился, и она спросила:
– Откуда ты знаешь эти стихи?
– С тех пор как каид побывал здесь, слова стихов разнеслись по всей деревне и за ее пределы.
Потом, не сводя с девушки неспокойного взгляда, пленник взмолился:
– Отвяжи меня, Надира, госпожа моя, умоляю!
Но она стояла с виду невозмутимо, растерявшись от этой мольбы, исполнить которой не могла.
– Не знаю, насколько безбрежны твои глаза, Надира… но могу объяснить откуда они взялись, если хочешь… Но дай же мне хоть воды глотнуть…
При этих словах Надира ушла в дом, не оборачиваясь и не обратив внимания на просьбу; она продрогла оттого, что была одета лишь в легкое платье, не подходившее, чтобы долго стоять на улице; пока она бежала до двери, позвякивание колец на лодыжках отдавалось эхом по всему двору.
Воды осужденному не дали, но как только Надира переступила порог дома и увидела своего брата Умара, который сидел за столом и считал монеты, она спросила:
– Что плохого сделал христианин, что ты так с ним обращаешься?
Лица она уже не закрывала, и было видно, что ее полные губы и отточенный нос гармонично дополняют глаза.
– Какой христианин?
– Тот человек во дворе, привязанный к столбу.
– Его семья отказалась платить джизью5.
После чего Умар снова принялся считать деньги, все сидя за тем же столом и полагая, что одним предложением заставил сестру отстать от него.
– Он же замерзнет! Уже второй день стоит на привязи у столба.
– Ты когда начала радеть об участи неверных?
– Сегодня утром я видела, как твои дети играли около него. Ты поглядел бы, как на него смотрела младшая!
– Отвяжу я его, не кручинься… но постоять еще ночку на свежем воздухе ему не повредит.
– Да полно же, Умар, сегодня ночью, наверное, будет еще холоднее, чем вчера.
– Ему принесут еще одно покрывало. Ты разве не видела, что я не запретил сестре накрыть его?
– «Умар Великодушный»! Как тебе такое звание, – едко отозвалась Надира.
На что Умар хмыкнул и раздраженно хлопнул локтем по кучке серебряных дирхамов6, заработанных благодаря налогам и торговле.
– А что, я должен позволить этим людям оскорблять меня, – спросил он, несколько повысив голос.
– Ты сказал, что они отказались платить; а может им нечем платить, откуда ты знаешь? Та семья – самая бедная в рабаде. Я помню, что наш отец часто закрывал глаза на неуплату какого-нибудь налога или сбора, чтобы не слишком притеснять бедняков.
– Зимми7 всегда платили и при нашем отце.
– Тем лучше! Если люди Писания всегда платили, что такого, если один раз не заплатят?
– Этот Коррадо, рыжий, когда его отец явился без денег на уплату налога на покровительство неверных, которые веруют в других богов, вышел вперед, вперил в меня взгляд, будто на бой вызывал, и сказал: «Мы двадцать лет на вашу семью работаем… джизью, когда она будет, мы тебе отдадим, а когда нет, удовольствуйся просто тем, что работаем на тебя». И ушел к себе в поле, как ни в чем ни бывало. Как прикажешь с ним поступить?
– Но это после того, как ты дал его отцу пощечину, – вмешалась в разговор их мать Джаля, она услышала раздраженные голоса в соседней комнате и забеспокоилась, что спор между братом и сестрой перейдет в ссору.
Надира сильно походила на Джалю, если не считать глаз необычной голубизны и более светлого оттенка кожи. А кроме того, Надира было гораздо выше матери, которая любила повторять с гордостью, что дочь из-за высокого роста и слаженного стана стройна, как пальма.
На слова матери Умар вскочил, посчитав, что вину валят на него, и ответил:
– Ты, мать, в этих делах ничего не смыслишь! Как установить точно, что кто-то не может заплатить или не хочет платить? Наказывать надо, чтобы лжецам не повадно было.
– В нашей деревне всегда все в согласии жили, козней никогда не строили, не было ни зависти между разными родами и верами… ни стычек. С христианами в том доме у околицы, единственными в рабаде, всегда обращались с почтением. Твой отец знал в таких случаях, где справедливость. Может ты и прав… но не в рабаде Каср-Йанны; мы здесь всегда помогаем друг другу. Народ вчера ужаснулся тому, как ты обошелся с христианином. Ремесло нашей семьи уже само по себе ненавидят… и было бы лучше, если бы тебя уважали, а не боялись.
– Если сундуки окажутся пустыми, каид спросит со своего амиля8. А к тому же, с каких пор жогнуть неверного стало считаться преступлением? Мы разрешили им сидеть в присутствии мусульманина, мы разрешили им седлать ослов, мы разрешили их женщинам ходить в бани вместе с нашими… другие веры такого не допускают и за это они могут нас даже к ответу притянуть.
– Но христианин, которого ты ударил, бился с мечом в руках, когда солдатня Георгия Маниака грабила деревню, хотя зимми не обязаны сражаться, и им нельзя брать в руки оружие.
– Тогда знай, что я считаю такой устав неправильным и сам сделаю так, чтобы восстановился порядок. Пусть они тоже примут ислам, если не хотят, чтобы с ними обращались строже, как приняли многие христиане, которые жили в этих краях.
Тут вмешалась Надира:
– И с каких пор ты так думаешь? С тех пор как стал будущим зятем каида?
– А ты, девочка, когда научилась так отвечать своему вали9, своему опекуну и поручителю? С тех пор как каид положил на тебя глаз, и тебя пообещали отдать ему в жены? А я вот возьму, да и расскажу ему, что ты стояла и болтала с христианином, привязанным к столбу, подумай-ка.
– Мой господин Али сжалился бы над христианином.
– Ну и хорошо, пусть приходит выговаривать мне, когда ты ему расскажешь… если он тебе до этого язык не отрежет, раз ты опускаешься до такой фамильярности с чужаками.
Надира в гневе и разочаровании вышла из комнаты, пробежала в свои покои и заперлась там. Когда Надира проходила мимо, любопытные слуги шмыгнули в разные стороны. У себя в комнате она бросилась на кровать, обняла ворох подушек, разложенных по постели, и заплакала.
– Надира, доченька, – окликнула ее Джаля.
Надира подняла голову – тяжелые локоны предстали во всей красе – и обернулась к матери.
– Надира, дочка, может быть тяжело вдруг осознать, что будешь принадлежать кому-то, кого знаешь вскользь; а тебе всего лишь девятнадцать лет… цифра может и большая, но опыта у тебя никакого!
– Он и правда может отрезать мне язык?
– Да не слушай ты своего брата. Но уясни одно: я хочу, чтобы ты впредь никогда и еще раз никогда больше не разговаривала с тем человеком!
– Это не я заговорила с ним! Это он попросил воды.
– А еще что сказал?
– Да ничего.
– Ну ладно, но знай, что он человек опасный, хуже некуда, Надира. И твой брат прав, что наказал его.
– Ты только что совсем другое говорила.
– Я сказала Умару, как поступил бы его отец… а тебе говорю то, что думаю. А теперь, сходи-ка к нашей невестке, узнай, не нужна ли ей помощь; ты потому и не вышла еще замуж за каида… сноха беременна, и ее надо поддержать.
Так шли часы второго дня той зимой 1060 года – 452 года хиджры10, – христианин Коррадо стоял привязанным у позорного столба как непокорный осел.
Глава 2
Осень 1060 года (452 года хиджры), рабад Каср-ЙанныА пока шло начало октября, то есть за два месяца до того, как Умар наказал сына христиан за дерзость, привязав его к столбу во дворе, и до того, как Надира поссорилась с братом.
Под полуденным солнцем Халид, двенадцатилетний мальчонок, который состоял в очень близком окружении Умара и которому сборщик податей каида поручил пасти свои личные стада, бежал во весь дух к деревне. Он скоро добежал до дома Умара, промчался так быстро, что казалось будто порыв ноябрьского ветра просвистел. Добежал, дышал так тяжко, что ему пришлось опереться одной рукой на посох, а другой на коленко, и крикнул:
– Умар!
Вскоре вышло из дома несколько слуг, в этот час они занимались домашними делами. Позвали хозяина, он вышел на порог, волосе всклокочены, раз, по всей вероятности, он дремал, убаюканный сонной теплотой начала осени.
– Чего тебе? Чего орешь в такое время? Я спал вместе с детьми… а ты нас всех разбудил!
– Умар, прости! Козы… – он помолчал, чтобы перевести дух.
– Что стряслось с моими козами? Их у тебя украли? – тревожно спросил Умар.
– Нет, я запер их в загоне.
– Но они все равно без присмотра.
– Я мог послать тебе козу-фартазу11, но ты не понял бы ее блеяния.
Халид рассмеялся, явно подшучивал над своим хозяином.
Умах схватил его за ухо и пинком под зад швырнул оземь.
– Так что такого важного случилось, говори, а то я тебя самого в загоне запру.
Мальчик поднялся:
– Каид, государь… каид к рабаду едет, спрашивал о тебе.
– Али ибн12 аль-Хаввас едет ко мне домой? – изумленно переспросил Умар, приглаживая волосы, будто уже стоял перед властелином Гергента13 и Каср-Йанны.
– С ним едет свита, он попросил сказать тебе, что едет с добрыми намерениями.
Умар вгляделся вдаль и увидел, как по извилистой тропе с горы Каср-Йанна спускается вереница конных.
– Возвращайся к козам, – приказал он и скрылся в покоях.
В доме поднялся страшный переполох, все забегали, стали спешно наводить порядок, чтобы на любую мелочь каиду было приятно посмотреть. В деревне тоже засуетились: женщины выбежали на околицу рабада, а кое-кто из мужчин, которых оповестили о приезде каида, вернулся из близлежащих полей.
Микеле и Аполлония, брат и сестра Коррадо, присоединились к толпе и тоже с любопытством разглядывали подъезжавших. Они тоже, как все, собирались склониться в почтении каиду; неважно кто ими командует, ведь все равно речь идет о их повелителе. Впрочем, не будь одет Микеле в тряпье и не будь он обрит наголо, никто и не подумал бы, что они не веруют в учение Пророка. Аполлония же ничем не отличалась от женщин сарацин14, если не считать более европейских черт лица. В другой стороны, в рабаде с самого его основания жили одни берберы. Тем не менее, в других местах магометан с более европейским обликом – потому что родом из других краев или это местные жители, принявшие ислам – было очень много, и на лицо от христиан они вовсе не отличались. А кроме того, вот уже двести лет берберы, арабы и коренные племена часто заключали смешанные браки, и создавался единый народ с одинаковой внешностью; то есть в этом смысле рабад составлял исключение.
Жителей острова называли одним словом… не арабами, не берберами, не исконными жителями, или каких-то других национальностей, а звали сицилийцами. Сицилийцы-сарацины и сицилийцы-греки, то есть христиане – а еще были сицилийцы-иудеи, – но все равно все назывались сицилийцами. В это понятие не включались новоприбывшие, те, кто из Африки приплыл на Сицилию во времена вторжения династии зиридов и до того, как Абдулла вернулся на противоположный берег Средиземного моря. Они, как и прочие, исповедовали ислам, как многие, были выходцами из племен берберов, но называли их африканцами именно потому, что родом они были из тех мест, которые арабы называли Ифрикийёй15. Африканцы последнего поколения приехали всего лишь пару лет назад, они бежали от разграблений, которые творились в их родных землях. Объединить сицилийцев и африканцев в единый народ, хоть и те, и другие веровали в Аллаха, было гораздо сложнее – и в прошлом из-за этого даже возникали беспорядки среди населения, – совсем не то, что помочь вжиться в исламское общество христианам и иудеям16. И верно, в законах шарии17 о христианах и иудеях говорилось ясно, и ничего или мало что могло вызвать споры; они были зимми, то есть вассалами, вынужденными платить джизью, то есть, подушную подать, но все равно имели право жить в своей вере. Африканцы же были настоящими противниками, теми, у кого сицилийские сарацины вынуждены были оспаривать первенство на владение островом.
В рабаде же, где африканцев и не видели ни разу, в тот день тревожились больше всего о том, как бы не ударить лицом в грязь перед каидом Ибн аль-Хаввасом, эмиром Каср-Йанны, который неожиданно нагрянул к одному из своих сборщиков.
– Вот бы и Коррадо тут быть! – воскликнула Аполлония, едва завидела въезжавших в деревню всадников.
Аполлонии недавно исполнилось двадцать лет, она было хороша собой, с волнистыми каштановыми волосами и карими глазами. Белизна кожи делала ее еще красивее, так как у арабов девушки с европейскими чертами лица ценились больше. Не будь она христианкой, за ней наверняка ухаживали бы, и не будь рабад таким мелким предместьем, не будь обстановка там такой семейственной, кто-нибудь, несомненно, уже склонил бы ее принять ислам, пообещав выгодное замужество.