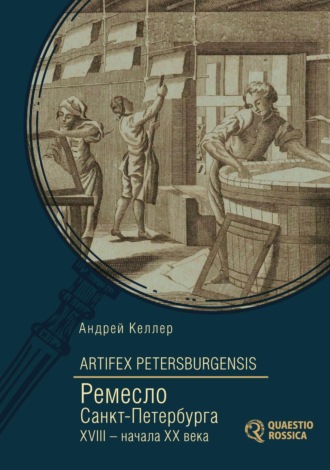
Полная версия
Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века
Критическую по интенции точку зрения на российские цехи высказал в свое время Регинальд Зельник, подчеркнувший их суть как, прежде всего, квазигосударственного института, являвшегося продолжением государственного бюрократического аппарата: «В дополнение к их руководящей роли в цехе, старшины выполняли роль административных и налоговых агентов правительства, что противоречит концепции цеха как самостоятельной ассоциации производителей. Кроме того, в отличие от цехов Западной Европы, цехи в России не были по–настоящему закрытой корпорацией. Мало того, что членство в них не ограничивалось количественно, они были открыты даже для таких неконкурентных категорий населения, как крепостные крестьяне, если помещик давал свое разрешение. В рамках определенных цеховых ограничений, вступление в цех не требовалось для всех местных ремесленников. Наконец, не было положено каких–либо ограничений в количестве производимых товаров, изготовленных в каждом цехе. Короче говоря, цех был не столько добровольной ассоциацией с целью протекционизма и монополии, сколько квазигосударственной административной единицей, направленной на обеспечение более рациональной организации, стимулирования производства и организации налогообложения городского населения»118.
Иными словами, мерилом для российского цехового ремесла для Е. В. Анисимова служит концепция развития капитализма в России, для Р. Зельника – история западноевропейских цехов, что неизбежно ведет к негативной оценке российских цехов или как архаичного института, «тормозящего» развитие капиталистических отношений, или как института запоздалого и «куриозного», поскольку отклоняющегося от воображаемого «магистрального исторического пути развития» и, следовательно, от западноевропейской нормы. Именно поэтому, введение цехов государством дало им шанс на осуществление их расширенной функции в российских условиях, т. е. по пути развития традиции корпоративного самоуправления. В этом смысле логично задаться вопросом по аналогии с А. Я. Гуревичем: «А был ли феодализм [в России. – А. К.]?» versus «А был ли капитализм в России XVIII в.?» и если да, могли ли, таким образом, цехи тормозить его развитие119?
С выводом Р. Зельника можно отчасти согласиться, если принять во внимание российский контекст возникновения цехов, но это не значит, что именно поэтому цехи были излишними или «неправильными». В данном случае это служило подтверждением российских реалий, когда даже в таких городах с давней традицией вечевого самоуправления, как Великий Новгород и Псков «1560 –1580–х годов, основная функция кончанской администрации состояла в разверстке и сборе налогов»120. Если российские цехи не являлись слепком с западноевропейских, что является общепризнанным фактом121, и если в России не было капитализма без множества развитых городов, буржуазии и свободных граждан подобно западноевропейским, то как можно утверждать, что, а) цехи были средневековыми, и б) антикапиталистическими? Тем более, что предполагаемой логике некоего исторического развития не противоречит ни отсутствие капиталистических отношений в их классической форме, ни введение цехов, способствовавших возникновению профессиональных корпораций как нововременного института профессий в России.
Капитализм в России не был ни безальтернативным, ни необходимым в той форме, в которой он существовал в Западной Европе, следовательно, нет надобности представлять капитализм в виде айсберга, в который неминуемо должен врезаться российский «Титаник». Как нам представляется, от такой телеологичности «исторического процесса», а значит и его «закономерностей» можно без особого труда отказаться в пользу исследования столь «архаичного» исторического феномена как российские цехи. Первым шагом на пути к решению этой задачи должно стать «вытягивание» концепции истории цехов из модернизационного западноевропейского контекста развития капитализма, чтобы избавить его от негативной телеологичности. Это даст шанс ремеслу, реализоваться, наконец, как полноценному историческому институту русской истории не только в прошлом, но и как профессиональной корпорации в настоящем и будущем, чтобы придать так нехватавшую ему динамику в контексте исторической событийности, «заглядывающей» в настоящее и будущее. Таким образом, история капитализма не должна противопоставляться истории цехов или ремесла, поскольку и индустриализация как следствие промышленной революции, и ремесленная промышленность имели свою отдельную богатую историю, особую событийность и темпоральность, которые необязательно подменять фазами или формациями122.
Данное исследование показывает, что необходима дальнейшая теоретическая и методологическая разработка истории русского ремесла, как самостоятельной и самодостаточной не капиталоемкой деятельности, обеспечивающей качество жизни на локальном уровне в «шаговой доступности». Необходим критический пересмотр двух дискурсов, определявших до недавнего времени угол зрения на ремесло: историзма и модернизма или современности. Зародившись в середине XIX века, они органично дополнили друг друга, создавая теоретическую надстройку для промышленной революции. Сегодня этого недостаточно. Традиционный взгляд на ход и «закономерности» исторического развития не оставлял, как правило, места ремеслу в картине будущего. Ведь ремесло являлось «отжившим» и «отсталым» институтом, который неизбежно должен был уступить место «прогрессивному» капиталистическому крупному промышленному производству. К. А. Пажитнов писал по этому поводу: «Русское […] цеховое устройство, оформлявшееся на гораздо более высокой ступени развития экономики, чем та, на которой оформлялись цехи на Западе, не ограничивая число подмастерьев и учеников, не только допускало, но и поощряло превращение ремесленной мастерской в мелкокапиталистическое предприятие»123.
Предлагаемый в данной книге радикальный ревизионизм, призывающий дать истории российского ремесла новое прошлое, не отрицает научный, технический и социальный прогресс. И все же голос скептика указывает на главный фактор риска – человеческий. С точки зрения «обычного» человека нет ни прогресса, ни регресса, ни верха, ни низа, ни спереди, ни сзади, ни отсталого, ни прогрессивного или регрессивного. С его точки зрения, все эти интеллектуальные игры существуют только для того, чтобы обеспечить социальным группам, называемым в различных социумах элитами, свое предполагаемое техническое и интеллектуальное превосходство. Свое предполагаемое лидерство. Но где «низы» и где «элиты»? Где ведущие, и где ведомые? Кто правит и кем или чем управляет? Нет больше, в узком смысле этих слов, ни стран отсталых, ни прогрессивных, ни капиталистических, ни социалистических, а есть только государства и общества с различными степенями несвободы и концепциями развития, которым придется обосновывать запрос на свое лидерство каждый день.
Об относительности таких понятий как «отсталый» и «развитый» существует всеобщий консенсус. Может ли данная дихотомия и аналитический термин «отсталости» помочь понять и объяснить историю России? Объяснить лишь то, насколько Россия была отсталой по сравнению с Европой? Но так ли важно это знать и что дает это знание? Вальтер Кирхнер писал в 1986 г. об относительности данного понятия, так как «все страны в определенный отрезок времени, по меньшей мере экономически, были "отсталыми" по сравнению с другими»124. Исходя из этого, нам видится важным уделить больше внимания новым малоизученным аспектам российской истории в иных контекстах. Но тогда само понятие «отсталости» теряет всякий смысл. В противном случае остается вероятность, что «преодоление отсталости» превратиться в вечное проклятие отсталости и банализацию модернизации в стиле: «Будущее – за мультифункциональными торгово–развлекательными комплексами»125. В этом смысле понятие «отсталости» подлежит утилизации как отработанный материал, так как кроме коммерциализации и уплощения смыслов оно больше ничего не производит.
Почему вообще возможно и допустимо оперировать понятиями «Запад» и «Восток» и становиться на аргументационные позиции 100 – 200–летней давности? Ведь анахронично само деление на культурные полушария «Запада» и «Востока», потерявших в ходе глобализации свой изначальный смысл, свой конструктивный потенциал как пространства смыслов, некие диффузные культурные ареалы, понятиями которых можно пользоваться лишь условно и в кавычках. Сегодня это тоже анахронизмы или конструкты, оставшиеся лишь сторонами горизонта126. Если же говорить об общеевропейской истории и истории России как ее неотъемлемой части, то можно только согласиться с предложением М. Хильдермайера, усиливать идентичность России с помощью репродуцирования ее истории в общеевропейском контексте127.
Посмотрим, какие альтернативные пути развития оставляет Ш. Эйзенштадт странам, отказавшимся вводить «современные политические и социальные институты» западной демократии: «Одним из возможных вариантов [государств, отказавшихся от западного формата модернизации. – А. К.] оказывалась институционализация относительно современной системы, не слишком, вероятно, дифференцированной, но все же способной абсорбировать новые веяния и тем самым обеспечивать какой–то экономический рост. Другой вариант предполагает развитие стагнирующих режимов, почти не способных реагировать на изменение внешней среды, которые, однако, могут существовать довольно долго. Иногда, впрочем, их уделом становится порочный круг недовольства, охранительства и насилия»128. Сценарии развития для стран, решивших развиваться по альтернативным западному вариантам, не особенно привлекательны. Презентованная ученым в 2000 г. теория множественных модерностей, представляет некий компромисс, предлагающий различные модификации модернизации в странах с отличным традиционным укладом129.
Для европейско–российского модернизационного дискурса представляется интересной попытка преодоления европоцентричности этой теории, предпринятая Шалини Рандерией, рассматривающей историю постколониальной Индии в контексте «переплетающихся и конфликтующих модернов»130. Характерно, что понятия совместной истории (geteilte Geschichte) и переплетенной модерности (verwobene Moderne) делают акцент на двусторонних интересах и взаимодействии, носящем двоякий характер, актуальный и для России. В этом контексте Е. В. Алексеева изящно уместила феномен диффузии европейских инноваций в России в один емкий образ: «История любого государства представляет собой причудливое и уникальное переплетение бесчисленных нитей, связывающих его культурную ткань с множеством стран света, где они были впервые "спрядены"»131. Феномены модернизации и европеизации (вестернизации) России в рассматриваемый период продолжают интенсивно исследоваться132, «и все же необходимо критическое переосмысление истории [России], написанной в рамках теории модернизации и по (западно)европейским лекалам»133. Особенно это касается истории ремесла, область которой колонизовали и трансформировали модернизационный и индустриализационный дискурсы, переписав ремесленный нарратив.
Одной из отличительных особенностей теории рефлексивной модернизации является признание якобы неизбежности негативных побочных эффектов, в лице индустриального развития и общества массового потребления, вследствие специфического понимания данной теорией технического прогресса и целеполагания модернизации. Поэтому теория рефлексивной модернизации, как правило, не пытается устранить риски, а принимает их в расчет как необходимые издержки, что ведет к возникновению «общества рисков» (нем. Risikogesellschaft) и экологическим катастрофам. Джейсон В. Мор расставляет иные акценты, связывая последние, не со временем антропоцена и всеобщей историей человечества, а с ее специфическим периодом, названным Мором капиталоцен, указав на главную причину экономического и экологического неблагополучия на планете134. Проблематизация ремесленной (рукотворной) деятельности в этом контексте как фундаментального антропологического признака приобретает особое значение. Развитие ремесленничества сегодня, принадлежащего к малым и средним формам предпринимательства, не является полным решением данной проблемы, но может значительно расширить положительные сценарии развития будущего, снижая социальное напряжение, трансформационные и экологические нагрузки, диверсифицируя рынок.
Аргументация историка Бенжамина Штайнера приобретает свою особенную оригинальность, благодаря сочетанию побочных последствий («коллатеральных потерь») теории рефлексивной модернизации, с одной стороны, и непоследовательностей и противоречий в истории, с другой135. При этом виден интегративный потенциал рефлексивной модернизации, критически рассматривающей ее результаты на протяжении последних двухсот лет и интегрирующую тему экологии в концепцию второй модерности. Возникающее, благодаря субверсивным динамикам прошлого, новое интегрируется в современные концепции развития, благодаря чему индустриализация первой модерности тормозится или останавливается136, а промышленные гиганты прошлого демонтируются, чтобы уступить место малым гибким, экологически чистым и технологичным формам производства. Критикуя теорию модернизации, автор не причисляет себя к ее непримиримым противникам, защищая ремесло, и не призывает вернуться в архаику. Скорее, это критическое переосмысление теории модернизации и ее роли в интерпретации ремесла и крупного промышленного производства137.
Как теория модерности, так и понятие «экономической отсталости» А. Гершенкрона рассматриваются большинством современных исследователей как требующие модификации и применяются с оговорками138. В последней своей монографии по истории России Манфред Хильдермайер в заключении с характерным названием «Отсталость под новым углом зрения: между трансфером и переплетением» предлагает оставить с некоторыми оговорками понятие «отсталости» как важную аналитическую категорию, без которой, по его убеждению, невозможно описать адекватно историю России139. Тем самым остаются основные понятия «догоняющего» и «догоняемого», без которых этот интеллектуальный конструкт не сможет работать. В этом смысле прослеживается единая историографическая традиция «отсталости» в контексте концепции модернизации, начиная с дореволюционной России и продолжая советской (когда место этого термина занимала «современность») и западной. Существует опасность того, что понятие «отсталости» будет закреплено множеством застывших стереотипов, от которых трудно будет избавиться, даже при условии массированной каталогизации и систематизации исторических кейсов140.
Остается вопрос, создает ли ясность конструирование некоего громоздкого методологического здания на фундаменте понятия «отсталости», на которое завязывается целый ряд таких уточняющих терминов в систематическом «каталоге» М. Хильдермайера, как «рецепция», «ассимиляция», «абсорбция», «субституция», «продуктивная интеграция» (выбор/отсеивание), «индигенизация», «гибридизация», «перекрещивание» (сосуществование), и не лучше ли расчистить площадку для работы с предложенными немецким исследователем терминами, уже нашедшими применение во многих областях исторической науки141. По сути, немецкий историк предлагает проделать ту же логическую операцию, что и Ш. Эйзенштадт с теорией модернизации (множественных модерностей), предлагая укрепить эпистемологический базис понятия отсталости с помощью дополнительных понятий.
Е. В. Тарле в своей работе к вопросу об отсталости екатерининской России обращает внимание на своего рода стигматизацию России признаком «отсталости» именно как аналитической категории, не позволяющей уже смотреть на социально–экономическое развитие России в иной парадигме142. Иными словами, необходимо различать аналитическую категорию «отсталости» от современного социокультурного концепта. С помощью аналитической категории «отсталости» возможно проанализировать представления, формировавшие мировоззрение современников XVIII–XX вв. и оказывавшие существенное влияние на принятие ими тех или иных решений, а значит и на развитие событий или ход истории. Но, так как реальность в представлениях людей и реальность историческая: обе являются предметом исследования историка, могут существенно различаться, необходимо разграничивать, используется ли понятие «отсталости» для описания представлений, как части реальности исторического прошлого, или как современный социокультурный концепт, служащий детерминирующим каркасом для структурирования и объяснения исторических событий. В зависимости от предпочтения этих двух вариантов зависит конкретное наполнение смыслом тех или иных событий143.
Данное концептуальное решение схоже с тем, что предлагает М. Хильдермайер, т. е. отделить понятие отсталости от системного понятия колониалистской модернизации с признаками телеологичного линеарного движения. Но этого недостаточно, так как в руках историка остается сам социокультурный концепт понятия отсталости, диктующий свою логику интерпретации исторических событий. Симптоматично, что через тринадцать страниц своего повествования М. Хильдермайер сам возвращается к понятию теперь уже «социально–экономической модернизации», от которой он предложил очистить понятие отсталости, указывая на тривиальность констатации данного факта модернизации, как само собой разумеющегося. Но социально–экономическое развитие может легко мыслиться вне смыслового поля понятия модернизации. В противном случае, последнее ассимилирует любое обновление или изменение, вновь помещая исторические события в «испанский сапог» модернизации и отсталости. Учитывая неопределенность и альтернативность интенциональных векторов событийной реальности, решением проблемы понятия отсталости и его телеологичности теперь уже в «очищенном» виде, не является и его секторальное и темпоральное расчленение144.
Проведем мысленный эксперимент, а именно, сделаем так, как в свое время сделали этнологи, применившие к европейцам методы изучения аборигенов, сделав прорыв в гуманитарных науках. Почему бы не повернуть термин «отсталости» вспять и не применить его ко всей европейской истории, если он настолько продуктивен, что от него никак нельзя отказаться? Тогда можно будет перестать глядеться в «зеркало Европы», в котором видят по большей части свои стереотипы, и начать писать аутентичную историю, не ограничиваясь лишь представлениями об отсталости, наличествующими у социальной группы «образованного общества», составлявшей в XIX в лучшем случае 2% российского населения145.
Безусловно, аспект «отсталости» как проблемы, которую российские элиты пытались решить на протяжении нескольких столетий, может вполне рассматриваться в рамках проблемного подхода, но представляется сомнительной попытка сделать это понятие полезным концептом исторической науки. Не получится ли в конечном итоге так, что освобождая перегруженное понятие «отсталости» от негативных оценочных коннотаций исторических агентов социальности, для которых Запад представлял некий эталон, на который нужно было обязательно равняться, мы не сможем заняться рассмотрением собственно существенных вопросов российской истории, так как окажемся в «ловушке отсталости» или «ловушке модернизации»146.
На наш взгляд, целесообразно пользоваться универсальными нейтральными понятиями, перечисленными выше, без «нейтральных» коннотаций «отсталости». Ведь эти понятия описывают характерные механизмы взаимодействия любых культур. В противном случае, необходимо рассматривать техническую отсталость в области машинного производства, к примеру, Германии, Австрии или Италии первой трети XIX века по сравнению с Великобританией.
В немецкой традиции слово «отсталый» (rückständig) в современном значении появилось сравнительно недавно. В 1900 г., одним из первых, кто применил это слово в немецком языке не в прежнем значении оставшегося долга, задержанной выплаты оклада или процентов, а в современном его значении «отсталости», оказался немецкий экономист Густав Шмоллер: «То, что раньше было единым и общим в экономической жизни семьи, общины, компании стало сегодня отдельной функцией двух или более [индивидов. – А. К.], и когда к этому разделению функций привыкают, там, где остался еще прежний порядок, он кажется неожиданно отсталым»147. Теперь это слово вместо нейтральной приобретает такую негативную коннотацию как «недоразвитый», устаревший148.
Предлагаю начать с испанской реконкисты (VIII–XV вв.), ставшей катализатором формирования европейской культуры и предпосылкой эпохи европейского Возрождения – времени зарождения будущей «современной» Европы, и проанализируем степень отсталости европейских стран от арабского Востока. На протяжении нескольких столетий с арабского, древнееврейского и латыни переводятся важнейшие научные труды Древнего мира. Европа получает с Востока бумагу, астролябию, медицину, физику, философию, математику и астрономию, чтобы перечислить лишь часть того, что было заимствовано, с помощью которых она на протяжении последующих 500 лет покорит весь мир149. Кто бы мог подумать о таком немыслимом развитии событий тысячу лет назад? Лишь во время и после эпохи Возрождения пришло понимание единого европейского культурного пространства и концепция европейской цивилизации. Первый федеральный президент Западной Германии Теодор Хойс (1884–1959) лапидарно обозначил «три холма» как главные символы, на которых стоит европейская цивилизация: Агора, Капитолий и Голгофа, символизирующие греческую демократию, римское право и христианство трех конфессий: католической, православной и протестантской, возникшее в религиозном контексте иудаизма времен Второго храма. Три столпа, три святыни, на которых стоит европейская культура и европейская цивилизация. Эти символы дополняются другими понятиями, составляющими основу европейской идеи: античный гуманизм, просвещение, либерализм, капитализм, коммунизм и социализм150.
Доминирующее политическое и экономическое положение Западной Европы привело и к доминированию дискурсов развития стран, входящих в зону ее влияния. России, воспринимавшейся периферией на восточной окраине европейского субконтинента, выпала на протяжении последних трехсот лет непростая роль, доказать свое право на достойное место в «европейском доме». Модернизация России, проводившаяся под знаком заимствования европейских институтов и технологий, невольно привела к такому положению в историографии, когда в большинстве исторических исследований основное внимание концентрировалось на дисбалансе сил в двусторонних отношениях между Россией и ведущими европейскими странами, сводя сложность культурного обмена к широкому понятию «Европы»151.
Это ни в коем случае не означает, что идеально–типический Запад или Европа не могут быть референтной величиной по отношению к России, но данное замечание не отменяет критических замечаний, высказанных ранее152. Главным аргументом не может быть лишь констатация декларированных, к примеру, Екатериной II в Наказе постулатов: «Россия есть Европейская держава» или «Петр I, вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе». При ближайшем рассмотрении становиться очевидным, насколько данные заявления были далеки от российской действительности, от представлений и ожиданий подавляющего большинства людей, живших тогда в России153. Данные утверждения ввиду своей декларативности не могут служить окончательным доказательством того, какие россияне видели и чувствовали себя европейцами, насколько они идентифицировали себя с европейскими ценностями и что понимали под «европейскостью», которой в первой половине XVIII в. соответствовали слова «людскость», «политичность», «цивилизованность»154.
Напрашивается вывод, что понятие «отсталости» в глобальном историческом контексте стало настолько относительным, что его применение редуцируется лишь до инструмента, с помощью которого Россия только и может быть «современной». Манипулятивный характер данного приема вызывает сомнения в его целесообразности. Подобное понимание «современности» или модерности корреспондирует с таковым не только у пропагандистов турбо–капитализма, но и с мейнстримом российского «прогрессивного» общества второй половины XIX в. О его ярком представителе П. В. Анненкове находим отзыв, типичный для большинства представителей «образованного» общества того времени: «В искреннем желании быть "с веком наравне", "не отстать", "ловить современность" Анненков жадно искал встреч с замечательными людьми своего времени, и в этом не было с его стороны ни лицемерия, ни расчета. Эту черту в Анненкове тонко подметил впоследствии Лев Толстой, который писал 21 октября (1 ноября) 1857 года Боткину и Тургеневу [с нескрываемой иронией. – А. К.]: "Анненков весел, здоров, все так же умен, уклончив и еще с большим жаром, чем прежде, ловит современность во всем, боясь отстать от нее. Действительно, плохо ему будет, ежели он отстанет от нее. Это одно, в непогрешимость чего он верует"»155. Быть современным любой ценой, не видя у себя под боком, в России идей, ставших сегодня мейнстримом в экономике? Та ли это современность, которой безусловно необходимо было следовать? В любом случае, понятие «отсталости» только в этом контексте и возможно – как один из критериев соответствия желаемой (европейской) «современности», в непогрешимость которой верит до сих пор большинство россиян со времен петровских реформ. В этом контексте не только желательно, но и необходимо написать историю понятия «отсталости» в лучших традициях истории понятий, чтобы разрешить, наконец, данный когнитивный диссонанс156.

