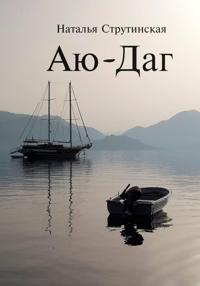Полная версия
Свод небес
Алексина Тимофеевна же нисколько не изменилась. Она была младше мужа на четыре года и всегда выглядела строго на свой возраст, со всех сторон ухоженный и старательно корректируемый. Невысокая, сухая, с пышной темной копной волос без единой проседи, собранных в объемную высокую прическу, она производила впечатление женщины энергичной и уверенной в себе, каковой, собственно, и являлась.
Сыновья Дербиных, младшему из которых было тридцать два года, а старшему – тридцать пять лет, были высоки ростом, статны, как отец, с упрямо выдвинутыми подбородками, высокими лбами и жестким изгибом бровей, который делал взгляд обоих твердым и решительным. Агриппина же была маленькой и худой, как мать, с тонкими темными волосами, собранными на затылке в небольшой пучок, бледными щеками и пышными ресницами. Личико ее, некогда бывшее утонченно-прелестным, с нежным розовым румянцем на щеках и веселым взглядом, потускнело, и Марфа видела в нем тщательно скрываемую усталость, лицемерием отзывавшуюся в ее улыбке.
Марфа же была как всегда сдержанна, но немногословность ее на сей раз была не следствием ее отстраненности или поиска нужных фраз, а плодом ее задумчивости.
Когда после несвойственной семье Дербиных суматошной встречи, громких поздравлений, самые красноречивые из которых принадлежали Филиппу, все сели за стол, наступило более привычное затишье, нарушаемое короткими фразами, исполненными высокомерной учтивости братьев Марфы, субтильно-любезной расположенности Алексины Тимофеевны и скромной заинтересованности Кирилла Георгиевича, отчасти разбавляемое остроумными оборотами громкой речи мужа Агриппины и ответами на эти обороты Филиппа, который говорил тихо, но которого слышали при этом все. А Марфа следила за этим казавшемся ей вымученным диалогом, потому как – это стало бы ясно не только для Марфы, но и для всех собравшихся за столом, если бы они задумались над этим, как задумалась она, – все, собравшись волей случая вместе, говорили о чем-то пустом и несущественном, но по собственной воле никогда бы не заговорили друг с другом даже об этом, потому как все были людьми разными, далекими друг от друга, даже полярно-противоположными. И единственной точкой соприкосновения их служила Алексина Тимофеевна, прямо или косвенно устроившая судьбу каждого сидящего за столом и упорно теперь поддерживавшая бессодержательную беседу в приторно-правильном направлении.
– Филипп, ты ведь ездил на этой неделе в Петербург? – обратилась Алексина Тимофеевна к Катричу, занятому приготовленной ею рыбой «по-гречески». – Твои проекты распространяются теперь и за пределами Москвы?
Филипп смущенно улыбнулся на последние слова Алексины Тимофеевны, которые были сказаны ею для того, чтобы подчеркнуть значимость и важность Катрича, а следовательно, значимость и важность самой Алексины Тимофеевны, его тещи.
– Мы строим в Петербурге галерею, в которой предполагается сдавать помещения под выставки зарубежного искусства, – сказал Филипп. – Строительство галереи началось около трех месяцев назад: уже заложен фундамент и началось возведение стен. Проект галереи принадлежит мне, но неожиданно появилась новость, что в него без моего участия внесены некоторые коррективы.
– Какая неудобная ситуация… – протянула Алексина Тимофеевна, со всем вниманием подавшись в сторону Филиппа и сощурив и без того мелкие глаза. – Как же так могло получиться?
– Такое случается, – отозвался Филипп. – В ходе работ заказчик обращается к исполнителю с просьбой изменить проект, например, касательно этажности здания или же конструктивных частей объекта, как в нашем случае. Если исполнитель отвечает отказом на подобную просьбу, проект не подлежит корректировке. Однако наш заказчик обратился к другой компании, которая разработала новый проект на основе первого. Хотя в нем и указаны оба проектировщика, авторские права были явно нарушены, и мы намерены обратиться в суд с требованием о защите таких прав.
– Очень неудобно… – вновь, растягивая слова, произнесла Алексина Тимофеевна, будто эта фраза являлась самым красноречивым определением того положения, в котором оказался Катрич.
– Думаю, все скоро решится в нашу пользу, – сказал Филипп, мягко при этом улыбнувшись обратившимся к нему лицам сидящих за столом.
Наступила пауза. Марфе пришло в голову сказать всем о проекте нового бизнес-центра, который, как рассказывал ей Зимин, планировался для продажи зарубежной строительной компании, но она промолчала, хотя уже открыла было рот, чтобы сказать об этом. Во-первых, сам Катрич ничего не рассказывал жене о проекте, и у него возник бы вопрос, откуда она знает о нем. Марфа могла бы сказать ему, что ей рассказал о проекте Зимин, но ей не хотелось говорить о Марке. Ей казалось, что она тут же выдаст свое смятение, когда произнесет его имя, хотя она считала, что ни в чем не виновата перед мужем, потому как не совершила ничего дурного и предосудительного.
Во-вторых, Марфа никогда не хвалила мужа в обществе. Она вообще никогда и ни с кем не обсуждала его, считая это самохвальством и признаком гордости за него, которую она отнюдь не испытывала.
Филипп, всегда внимательный к жене, заметил короткое движение головы Марфы, когда ту посетила мысль о проекте, и обернулся к ней, готовый выслушать любое ее замечание. Но Марфа вместо слов только вздохнула и слабо улыбнулась мужу. Она увидела, как взгляд Филиппа потеплел, как губы его в ответ растянулись в улыбке, и ей почему-то стало жаль его. Короткий миг – а Марфе показалось, будто кроется в этом миге что-то новое для нее, неуловимое и почти невозможное.
Внезапно сын Груши, сидевший на ее коленях, громко захныкал и тем самым привлек общее внимание. Груша попыталась успокоить его, сунув ему в выставленные пятерней маленькие пальчики большую виноградину. Но мальчик не успокаивался, а только еще больше начинал плакать. На его розовых круглых щеках мгновенно появились крупные блестящие слезы.
– Унеси его, – вдруг заглушил плач малыша грубый мужской голос.
Это обратился к Груше ее муж, несколько минут назад фонтанировавший хлесткими шутками, а теперь неожиданно посуровевший.
Агриппина крепко прижала к себе ребенка, поднялась из-за стола и вышла из комнаты.
Все, будто ничего не случилось, продолжили свой обед. Только Филипп и Марфа растерянно переглянулись, оба удивленные переменой, которая вдруг произошла в лице мужа Груши.
Из кухни, куда ушла Груша, несколько мгновений доносилось приглушенное хныканье ребенка, которое совсем скоро стихло. Марфа поднялась из-за стола и прошла на кухню.
Груша стояла у окна, качая на руках малыша, и приговаривала что-то. Войдя на кухню, Марфа плотно прикрыла за собой дверь. Агриппина не обернулась.
– Я бы оставила его дома, – сказала она, когда Марфа подошла к ней. – Только не с кем. – Агриппина вдруг вскинула голову и посмотрела на Марфу так, что той показалось, будто взгляд этот мог насквозь пронзить ее, точно копье. – Может, и хорошо, что у тебя нет детей, – вдруг отстраненным голосом произнесла она. – Ты свободна…
– Что ты такое говоришь? – отмахнулась Марфа, испытав от этих слов сестры озноб.
– Бессмыслицу, – покачала головой Груша. – Не слушай меня. Я немного устала.
– Давай я побуду с ним? – предложила Марфа. – А ты иди. Я послежу.
– Нет, – не раздумывая ответила Агриппина, – не надо. Я сама.
Марфа осталась с сестрой. Взгляд Груши был пустым, холодным, и только когда он обращался к мальчику, то немного теплел и появлялся в нем живой блеск, который почти совсем из него исчез. Марфа подумала, что ее сестра несчастлива, как и она. Быть может, Агриппина также замечала в Марфе эту несчастливость, но ни одна из сестер не говорила другой о своем несчастье, считая, что никто этого несчастья не поймет.
Только когда мальчик уснул, Марфа уговорила Агриппину вернуться домой – отец не обидится, если Груша уедет раньше. Алексина Тимофеевна, конечно, была недовольна ранним уходом дочери, но отговаривать ее не стала, окинув только осуждающим взглядом мирно спавшего внука.
Груша уехала; ее муж, лицо которого выражало суровое недовольство, последовал за ней. Марфе вспомнились ее мысли о ребенке. Ее сестре появление ребенка не принесло счастья. Быть может, действительно было к лучшему, что у нее не было детей.
Мужчины вышли на просторную лоджию, чтобы выкурить по сигарете (Марфа знала, что Филипп не курил ни под каким предлогом), а Марфа помогала матери убрать со стола.
– У Груши болезненный вид, – сказала Марфа, оставшись с матерью наедине. – Ты не заметила?
– С чего бы ему взяться? – откликнулась Алексина Тимофеевна. – Растить детей нелегко, – тоном превосходства сказала она. – Я подняла вас четверых, а у нее он один. Справится.
– Может быть, дело не в ребенке? – предположила Марфа, у которой несчастный вид сестры вызвал искреннее беспокойство.
– А в чем же еще? – вскинула тонкие дугообразные брови Алексина Тимофеевна.
Марфа ничего не ответила, вновь утвердившись в том, что ее мать никогда не поймет жалоб, которые не имеют под собой аргументированного основания.
Не услышав ответа, Алексина Тимофеевна, вытиравшая в это время посуду, замерла с тарелкой и полотенцем в руках и внимательно посмотрела на дочь, которая вспененной губкой полировала блюдце.
– Ты считаешь меня слишком требовательной, правда? – услышала Марфа на удивление мягкий голос, заставивший ее перестать мыть блюдце и поднять глаза на Алексину Тимофеевну, дабы убедиться в том, что голос действительно принадлежал ее матери.
– Нет, мама, – ответила Марфа, помедлив. – Просто с тобой трудно дать волю чувствам.
Алексина Тимофеевна поставила на столешницу тарелку, которую держала в руках, отложила полотенце и подошла к Марфе. Непривычно Марфе было стоять близко к матери так, что даже видно было каждую морщинку на ее лице, тонкие карандашные линии на верхних сморщенных веках, блеклые радужки на выцветших зрачках и брови, на которых виднелись комочки от карандаша. Губы у матери были тонкие, упрямо сомкнутые, как у ее сыновей.
– Я учила вас никогда не жаловаться, – сказала Алексина Тимофеевна все тем же мягким голосом, совсем не присущим ей. – Я учила вас трезво смотреть на жизнь, которая редко позволяет уступать воле своих чувств. Но все это вовсе не значит, что чувств ваших я не пойму. Вам не на что жаловаться, Марфа. Вы не знаете, как бывает…
Алексина Тимофеевна вдруг осеклась. Марфе даже показалось, что глаза матери увлажнились. Но та тут же отвела свой взгляд, отступив на два шага от дочери и вернувшись к тарелке, которая уже была сухой.
– Филипп создал проект для продажи какой-то иностранной компании, – зачем-то сказала Марфа, скорее для того, чтобы перевести тему разговора. Мысль о проекте мужа была единственной, которая посетила Марфу в тот момент, и наиболее подходящей, чтобы хоть как-то заинтересовать мать.
– У вас с Грушей хорошие мужья, – заключила Алексина Тимофеевна.
Этот короткий разговор с матерью не изменил убежденности Марфы в том, что ее мать была сухой, бесстрастной, властной женщиной, которая жизнь всех окружающих ее людей выстроила для блага себе, но не для их собственного. Быть может, это их «добропорядочное» воспитание благоприятно сказалось на судьбе сыновей, но дочерям трудно было жить под гнетом воспитанного в них чувства долга перед кем угодно, но только не перед собой.
Вернувшись домой, Марфа ощутила облегчение. Давно уже семейство Дербиных не собиралось вместе, и теперь, после короткого путешествия в ту жизнь, где формировалось ее сознание, и возвращения в ту, где она была предоставлена самой себе, Марфа испытала чувство освобождения.
Вечером того дня Марфа решила спуститься в подвальное помещение, где находилась мастерская Катрича.
Здесь стояли бумажные макеты зданий, на полу лежали свернутые листы, чуть дальше темнел гончарный круг; на деревянных стеллажах стояли глиняные горшки и небольшие гипсовые скульптурки. Несколько незавершенных скульптур стояло в углу. Здесь же был массивный деревянный стол с разложенными на нем инструментами для лепки из глины и гипса, альбомами, чертежами и настольной лампой.
Горел тусклый светильник над входом. Марфа не стала включать верхний свет. Она осмотрелась. Несколько месяцев Марфа не заходила сюда. Быть может, даже около года. Мастерская всегда напоминала ей о муже и о тоске, которая неотступно следовала за ней. Но теперь тоски как будто не было, а воспоминание о муже больше не угнетало ее. Напротив, Марфа испытывала в тот вечер к Катричу чувство, похожее на интерес, который смешивался с сожалением. Кого именно было жаль ей – Филиппа, с которым она всегда была резка, или время, которое она потратила на порицание своей судьбы, или себя, заблудившуюся среди осколков предрассудков, – она не знала, но чувство это все больше наполняло ее. И сожаленье это достигло такого значения, что больше не могло уместиться в ней.
Фигурки, стоявшие на стеллажах, показались ей уродливыми. Марфе тут же вспомнился обед, стол, за которым все сидели с самым скучающим видом и добросовестно вели принужденные беседы, лица, такие же ненастоящие, искусственные, с застывшими на них масками предрассуждений. Марфа взяла с полки одну из фигурок. Девица была вылеплена из глины – она замерла в неестественной позе, которая раздражала Марфу, так что Марфа запустила ее в угол. Ударившись о стену, фигурка разбилась.
Этот острый звук принес Марфе неожиданное успокоение. Но не прошло и нескольких секунд, как исступленное беспокойство вновь овладело ею.
В порыве отчаяния, почти безотчетно, Марфа стала сбрасывать со стеллажей стоявшие на них фигурки, кувшины, вазы, горшки, вслед за которыми полетели и пласты с гипсовой лепниной, служившие образцами отделки фасадов и потолков. Скульптуры бились о бетонные стены, и шум этот, гудящий, осколками отлетающий от стен, отзывался в Марфе звонким эхом.
Филипп, услышав шум, не сразу понял, откуда он доносится. Острый звук, похожий на стук маленького молоточка, не прекращался. Катрич поднялся из-за рабочего стола и, перейдя широким шагом кабинет, распахнул дверь и вышел в коридор. Подойдя к лестнице, он оперся на перила и запрокинул голову, прислушиваясь. Звук шел снизу, будто кто-то пытался забить гвоздь в бетонную стену подвала. Филипп неспешно спустился на первый этаж. Вход в мастерскую находился под лестницей. Дверь, ведущая в подвальное помещение, была открыта, и Филипп понял, что звук доносится из мастерской.
Когда Филипп спустился по слабо освещенной лестнице в мастерскую, то в первое мгновение он не смог оценить масштаба того, что предстало его глазам.
Резкий, пронизывающий звук издавали разбивающиеся скульптуры и гипсовые макеты, которые Марфа в порыве отчаяния с силой, что уже едва теплилась в ее ослабевшем от приступа истерики теле, сваливала с полок и опрокидывала на бетонный пол. Мастерская была разгромлена, а Марфа, раскрасневшаяся, жалкая и одинокая на фоне развороченных скульптур, будто уменьшилась вдвое и выглядела отнюдь не как склонная к истерикам женщина, а как несчастный, оставленный всеми ребенок, который потерял что-то ценное, значимое для него и теперь никак не мог этого найти.
Филипп быстро пересек мастерскую и подбежал к жене, остановив ее занесенную над головой руку, в которой она держала вылепленную когда-то ею самой тонкую, нескладную вазу. Марфа поддалась воле руки мужа и, словно не замечая его самого, будто не Катрич, а невидимая сила заставила ее остановиться, опустила свою руку, нащупала ею стол и, положив на него вазу, закрыла лицо руками.
Филипп обхватил ладонями содрогающиеся плечи жены и увлек ее к столу. Марфа прислонилась к краю стола и продолжала крепко прижимать ладони к своему лицу. Она вдруг притихла, и только грудь ее вздрагивала от прерывистого дыхания. Мастерская погрузилась в безмолвие, казавшееся неестественным после того крушения, которому она подверглась.
Катрич крепко обнял жену, прижав ее к себе. Пальцы его чувствовали под собой твердую, вздрагивающую спину Марфы, которая через несколько минут отняла от лица руки и обвила ими шею Филиппа. Катрич почувствовал подбородком мокрую от слез щеку жены.
Они стояли так, крепко обнявшись, на протяжении нескольких минут, пока дыхание Марфы вновь не стало ровным, а слезы не высохли на ее щеках. Только когда Марфа поняла, что вновь может говорить, она едва слышно произнесла:
– Прости меня…
В ответ Филипп только крепче прижал ее к себе.
– И ты прости меня, – откликнулся он.
Марфа отняла голову от его щеки и заглянула в темные глаза мужа. Взгляд ее, влажный, утомленный, проникнутый глубокой печалью, осветился недоумением.
– За что? – прошептала она.
Катрич обвел взглядом лицо Марфы, нежно коснулся пальцами ее лба, проведя ими вниз, к самой ее щеке, и сказал, с раскаянием, как говорят о том, о чем долго сожалели, молчали, но много размышляли:
– За то, что ты несчастлива со мной.
Эти слова мужа, преисполненные горечи, заставили Марфу испытать удушающее чувство благодарности, которое неожиданно родилось в ней и удивило ее.
– Зачем ты женился на мне? – спросила Марфа, вложив в эти свои слова весь пыл прожитых в этом вопросе дней, но не придав им оттенка осуждения, – напротив, вопрос этот таил в себе только благоговейный трепет перед наполненным нежностью взглядом Катрича.
– Я хотел любить тебя, – ответил Филипп, произнеся эти слова тихо, со всей своей смиренной, потаенной страстностью.
– Ты любишь меня?
– Я люблю тебя, – сразу же отозвался Филипп.
– За что ты любишь меня? – Марфа нахмурилась, как хмурятся тогда, когда пытаются разобраться в головоломке, которая никак не поддается разгадке.
– За то, что встретил тебя, – сказал Филипп, – за то, что заговорил с тобой, за то, что ты доверилась мне…
– Разве за это можно любить? – удивилась Марфа.
– Любить можно только за одно то, что человек просто рядом.
– Но я ничего не даю тебе… – покачала головой Марфа.
На эти слова жены Катрич обхватил ее лицо руками и притянул к себе, заглянув в глубокие янтарные глаза.
– Позволь только любить тебя, – сказал он. – Только позволь…
Марфа вдохнула эти слова – при этом губы ее дрогнули, раскрылись и втянули пыльный воздух мастерской. Она положила свои ладони поверх пальцев Филиппа, касавшихся ее волос, и обвела взглядом загорелое лицо своего мужа, – лицо, которое единственное казалось ей свободным от застывшей маски потаенных чувств и сокрытых стремлений, внушенных другими. Оно было живым, подвижным, одухотворенным, а темные горящие глаза – преисполненными света, что представлялся Марфе единственным источником жизни в ее царстве восковых фигур.
Марфа приподняла голову и прикоснулась своими губами к горячим губам Филиппа, с все возрастающей страстностью впиваясь в них поцелуем. Она опустила руки и обхватила пальцами пояс мужа, привлекая его ближе к себе. Филипп провел ладонями вниз по шее Марфы, коснулся ее ключиц, плеч, рук, потом прижал ее к себе, обхватив ее своими сильными руками, приподнял и посадил на стол, смахнув с него осколки разбитых скульптур и макетов.
Никогда еще Марфа не испытывала этого лишенного всякого отчаяния самозабвения, наводненного только свободной, утратившей всяческие предрассуждения и сомнения любовью. В тот вечер она испытывала неистощимую благодарность, граничившую со страстью. Но страсть не являлась только плодом желания, удовлетворить которое было главной потребностью всего ее существа, принимавшего и впитывавшего в себя все пылкие ласки мужчины, – страсть эту породило стремление узнать, почувствовать, испытать то, что она никогда не находила в себе и что рваными клочками все же теплилось в ее душе, скрываясь под толстым слоем пепла выжженных безвольностью чувств. В один короткий, фантастичный миг этого упоенного, пламенеющего порыва, развернувшегося на обломках разбитых фигур прошлого, Марфе показалось, что она чувствует в себе это жгучее, благодарное, не просящее и жертвенное чувство – любовь…
4
Филипп, озабоченный беспокойным состоянием жены, предложил ей съездить на несколько недель в пансионат, который находился в горах Алтая и был известен Катричу потому, что его владельцем был давний друг его отца.
Марфа, которую возможность уехать на время из Москвы искренне обрадовала, согласилась с предложением мужа, но поставила условие: она не поедет в пансионат без него. Однако состояние дел Катрича, продиктованное сложностями в строительстве петербургской галереи и требовавшее скорейшего разрешения, не позволяло ему поехать в пансионат вместе с Марфой: в то время он не мог оставить дела без личного контроля и уехать на Алтай. Разрешение же спора об авторстве проекта могло растянуться на неопределенное время, и откладывать поездку Филиппу представлялось бессмысленным. Он говорил жене, что ей было бы лучше поехать без него, но, если дело все же разрешится до ее возвращения, он приедет к ней, и вместе они проведут в пансионате еще некоторое время.
Марфа, которую вдруг прекратили раздражать уступчивость и мягкость мужа и в которой открылась благодарность к нему и зародилось признание безраздельности его положения в ее сердце, хотела еще раз испытать тот миг упоенного самозабвения, когда развернулось в ней всеобъемлющее чувство любви, и как можно дольше продлить его, и чтоб основанием ему служили не осколки разбитых ею в порыве отчаяния глиняных фигурок и гипсовых скульптур, а безмятежность окружающей их обстановки, удаленность от чуждых ее сердцу, сокрытых масками лиц и стен, напоминавших ей медленно уходящие в небытие, но все еще холодными обломками жившие в ее душе дни тоски, слепоты и немоты ее сердца, что теперь слабо трепетало в груди, лениво вдыхая пламенные проявления любви человека. Нежная печаль охватывала Марфу при мысли о расставании с мужем, но в то же время светлая радость наполняла ее, когда она представляла себе, как уедет из этого города, как будет недосягаема для сухих звонков матери и несчастного вида сестры, как избежит встречи с Зиминым, который наверняка на неделе заедет к ним, и как будет совсем одна, но не одинока, как была она все эти долгие годы, но в уединении, потому что теперь в ней жила любовь человека, осознание этой любви и принятие ее.
Марфа улетела на Алтай утренним рейсом в понедельник. Катрич отвез ее в аэропорт, где они долго прощались, будто хотели вложить в последние минуты перед разлукой всю накопившуюся в них за прожитые годы нежность, которой оба в разной степени были раньше лишены.
Они мало говорили – обоим казалось, что сказано было довольно, но сделано очень мало, и все, что было сделано, не то; что есть что-то, что очень хочется показать, донести до другого, но не находились ни слова, ни действия для этого проявления, и Катричи только крепко держались за руки, будто одно лишь это прикосновение могло донести до другого всю сущность испытываемых чувств.
Потом Марфа ушла. Сидя в самолете и глядя в иллюминатор на взлетную полосу, здание аэропорта, его служащих, которые никуда не летели, а оставались здесь, в Москве, она испытывала только скользящую отстраненность, будто уже сейчас, ступив на борт самолета, она не была в этом городе, не принадлежала событиям, которые были связаны с ним, не знала его людей, и никто не знал о ней, словно ее никогда не было. И жизнь ее, пустая, безликая, едва различимая среди сотен, тысяч других, представлялась только мифом, который совсем скоро развеется среди густой пелены облаков. Самолет наберет высоту, сокроется город за толстым слоем дыма, исчезнет сплетение улиц и беспорядочное движение машин, затеряется лабиринт дворов, сгладится вся рельефность привычного мира, и все превратится в округлую плоскость. И не будет тогда никаких разделений, и у мира, маленького, уязвимого шарика, лежащего на ладони Вселенной, будет только два лица: рыхлая почва земли, пестрым взыскательным глазом смотрящая снизу, и прозрачный, безграничный небосвод – убежище воззваний и воздаяний…
Пансионат «Яшма» располагался на берегу зеркально чистого, голубого озера, в котором отражалась купель горных склонов, со всех сторон окружавших его. На склонах зеленели кедрово-пихтовые леса, а заснеженные неприступные вершины были укрыты опустившимися на них облаками. Пансионат считался одним из самых комфортабельных и благоустроенных пансионатов Алтая. Уединенность его, виды, открывавшиеся из всех окон пятиэтажного деревянного особняка, построенного среди живописных долин и горных хребтов, большая территория с собственной конюшней и пирсом с пришвартованными белоснежными катерами, террасы, где по вечерам играли на шооре, икиле, топшуре и других этнических инструментах, а также сами номера пансионата, с гостиными, спальнями и большими балконами, на которых особенно чудесен был поздний завтрак и травяной чай перед сном, делали пансионат привлекательным для тех, кто устал от городской суеты и мог позволить себе провести несколько недель в гармонии с природой и с самим собой, а главное – со своим кошельком, потому как в пансионате отсутствовали номера класса «стандарт».