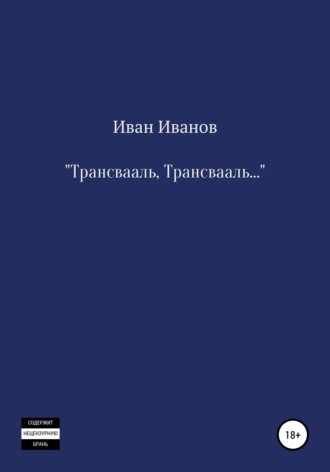 полная версия
полная версияТрансвааль, Трансвааль
– Ужо я щас покажу, как воскрешать частную собственность!
И вот, весь ощерившись, он разъяренно врывается на подворье злоумышленника, хватает подвернувшийся под руку хозяйский колун и опрометью бежит дальше на повети, где в темном закутке, у слухового оконца, стоят на деревянной подставе дедовские жернова. С ходу замахивается и со всего плеча – хряп колуном по верхнему жернову, а потом, раз за разом, еще бухает и по исподнему. И камни-кормильцы, служившие людям, может, не один век, повержены в прах: ни нам и ни вам!
Обомлевшая хозяйка, пятясь в угол, крестится как от привидевшегося оборотня, шепча заплетающимся языком:
– Господи Иисусе, образуми разорителя…
К первому колхозному лету новоявленный ретивый реформатор до того замордовал деревню с помолом, что хозяйки стали ставить на стол вместо хлеба горшки с распаренным зерном. И в Новинах уже больше не сказывали «пора обедать», а говорили «пора клевать».
Новинские мужики чесали в затылках и никак не могли взять себе в толк: как это могло случиться, что они, вроде бы и не чурбаны трухлявые и вовсе не безмозглые, принявшие революцию как освобождение от «вековой тьмы», сами позволили сесть себе на холку никчемному мужичонке. А колхозный счетовод Иван Ларионович Анашкин, бывший церковный староста Новинского прихода, знай каркал:
– Это только цветики – ягодки-то все еще впереди…
Но вернемся в то зимнее утро, когда учиненный Арсей-Бедой дикий шабаш на мельнице, как разбушевавшийся пожар, перекинулся на подворье деревенского столяра. Арсины сподручные, желторотая новинская «косомолия», не подоспев вовремя родиться, чтобы стать краснозвездными богатырями Революции, старались друг перед дружкой поскорее отряхнуться от навоза и наверстать упущенное: крушили все, что можно сокрушить. И они «струмент аглицкой стали», которым мастер дорожил пуще своей жизни, пустили на шарап: поштучно расхватали – кому что досталось.
Выстуженный и перевернутый вверх дном «храм струментов» Ионыча тут же определили под водогрейку для обобществленного крестьянского скота, для чего Арся-Беда собственноручно забил большими гвоздями дверь из сеней. А его хваткие архаровцы по его указке тут же прорубили новый дверной проем в боковой стене прямо на улицу (потом долго не дойдут ни у кого руки, чтобы поставить косяки и навесить дверь). И этот кособокий, будто выгрызенный проем селяне окрестят как нельзя точнее: «Арсина прореха в новую жисть».
Из подклети жилой избы свезли в холодный амбар и ульи – гордость мастера. И как только новинские сорвиголовы прознали про то, что в ульях есть мед для зимнего прокорма пчелиных семей, тут же начисто разорили их, благо в эту пору пчелы были некусачие, полуснулые. Вечером пили чай с медом и похвалялись перед домашними дармовщиной:
– Во, какая настала жисть в Новинах, меду вволю – ешь не хочу!
А когда деревня отошла ко сну, закоперщик новой «жисти» Арся-Беда, не будь дураком, проявил хозяйскую сметку. Среди ночи он не поленился запрячь мельникова жеребца Буяна (на бывшей-то своей мослатой и лягливой кобыле, по деревенской насмехательской кличке Зануда, уже не хотелось ездить), подогнал дровни с широкими сенными креслинами к разграбленной столярной Ионыча и через вновь прорубленный проем погрузил в них весь «матерьял» мастера, высохший до колокольного звона. Привез его к себе на заулок и не утерпел, чтобы не постучать в раму жене:
– Марья, проснись да поглядь, каких дров звонких тебе привез!
Так в Новинах в два приема было покончено с «частной собственностью». Исконные, жизненно необходимые промыслы были порушены, а селянских мастеров – шерстобитов, кузнецов, мельника выслали из деревни, как прокаженную тунеядь.
Со столяром же планида обошлась милостивее. Хотя завистники и ободрали его как липку, однако оставили в деревне, объявив изгоем общества, «лишенцем-обложенцем». По этому черному вердикту столяр из вольных селянских мастеровых попал в полную зависимость от местных властей. Как бесправный крепостной, он должен был безропотно сносить все выпавшие на его долю лишения. Высочайшей руки мастер по дереву, уважаемый округой человек стал по принуждению валить лес на самых дальних делянах. И почти задарма. Как-то, ропча, он признался перед селянами:
– Ломлю, как лошадь, – за овес, что заработал за день, то и съел разом.
И чуть было не поплатился за свое откровение, как только оно дошло до оттопыренного Арсиного уха.
– Што, к своим дружкам-кузнецам, шерстобитам и мельнику просишься, контра? – с придыхом рыкнул Беда на мастера и пригрозил ему: – Гляди у меня… быстро загремишь туда, где Макар коров не пас!
Создавая колхоз, Арся-Беда метил в председатели. Как же, будучи предкомом Новино-Выселковской коммуны, уже обвыкся ходить в начальниках и помыкать себе подобными, поэтому старался, как для себя. А на деле вышло, как для дяди: новинские, не сговариваясь, дали дружный отлуп ретивому экспроприатору и выбрали председателем рассудительного и молодого мужика Сима Пантелеевича Грачева. Арся, понятное дело, кровно разобиделся. Мало того, даже не пожелал вступить в им же созданный колхоз, а в его произношении – «колькоз», хотя лежебоке и предлагали посильный ему пост ночного сторожа на конюшне.
Пошел уже второй год со дня создания колхозов, а Арся Тараканов по-прежнему не пахал, не сеял. Это словно про него исстари в народе говорится: рыбка да грибки – потеряешь красные деньки (река и лес стали приложением его сил себе на потребу). В то время как колхозников сурово карали за опоздание вовремя прибыть к пожарному билу (утром оно созывало людей на работу), за прогулы даже по уважительной причине (например, хозяйка затеяла большую стирку – бучить белье, или хозяин собрался в лес за дровами), Арся же целыми днями бил баклуши и жил в ладу с властями, как с местными, так и с районными. Он всегда был под рукой у начальства как общественный распространитель всевозможных повесток, обязывающих селян являться куда-либо под расписку. Он же был в Новинах и как осведомитель-бессребренник, и как понятой-доброволец при арестах людей. Без него не обходились и уполномоченные по вербовке переселенцев, будущих «перекати-поле», на которых он давал устные характеристики. О работящем, совестливом мужике говорил: подкулачник, контра; о верующем – кадило недобитое; о тунеядце, таком, как сам, – наш, мол, брат, советский! Ему было доверено разносить по дворам и налоговые «соцобязательства» на сдачу колхозниками сельхозпродуктов «за так» – картошки полтонны с надбавкой на будущую гниль; молока триста литров с накидкой на жирность, которую обязательно будет занижать пройдошистая колхозная приемщица; мяса два с половиной пуда, или хорошего барана; яиц две сотни штук; шерсти два с половиной фунта, то есть всего лишь один килограмм; две первично обработанные, пересыпанные солью, шкуры, про которые однодеревенцы еще шутковали промежду собой, с глазу на глаз: одну, хозяин, сдери, мол, с себя, а другую – с женки своей. Такой оброчной податью облагались все частные подворья, независимо от того, имел ли хозяин у себя в натуре, кроме кошки и собаки, другую какую-то животину, которую можно было бы доить, стричь, забить на мясо и содрать шкуру. Купи, где знаешь, и с «честью» (и никак по-иному!) рассчитайся с родным государством, которое и спустило милостиво к своим селянским кормильцам такую «первосвященную заповедь». Ну, а кто оставался в недоимщиках, к нему приходил опять-таки Арся-Беда с понятыми, чтобы очень преспокойно описа́ть самовар.
Новинский Беда так вошел в свою роль посредника между властью и народом, что ему самому начинало казаться: как бы обходились Советы, не будь на свете его, Арсентия Тараканова?
На одном из сельских сходов в Новинах, на излете первой колхозной осени, был обнародован сельсоветский декрет далеко не местного значения, так как об этом было сообщено областной газетой в заметке «Новинская новь»:
«…Первое. Чубарого жеребенка от бывшей поповской кобылы Сорока (и тут же приметливый автор сделал ремарку: «Ныне – Коммунарка, она же в местном просторечье и Пегая Попадья») наречь Ударником и определить в производители (и снова авторское замечание, исполненное удовлетворения: «Новинским мужикам не терпится поскорее вывести особую колхозную породу лошадей».).
Второе. Уцелевший от пожара в Новино-Выселках пятистенок с мезонином бывшего кулака-кузнеца Ивана Раскина перевезти в деревню и поставить на Певчем кряжу по-над рекой под избу-читальню…».
Изба-читальня – затея благая, поэтому новинские мужики взялись за дело рьяно. И вот в одно из воскресений, после копки картошки на огородах, в Новинах была объявлена осенняя толока. Мужики с утра пораньше скопом двинулись в Заречье, где топорами пролокчили римской цифирью звонкие венцы разграбленной вдрыз домины Ивана-Кузнеца и к вечеру раскатали ее в штабеля.
А как только встала река от морозов, по первому же зимнику перевезли бревна к себе в деревню на Певчий кряж. В доколхозное время селяне любили собираться здесь по воскресеньям, и на вечерней заре размашистыми волнами укатывались отсюда раздольные многоголосые песни, как бы сгорая в пылающем закате.
– Да, место тут, обченаш, красное! – сказал довольный председатель Сим Грач-Отченаш, поднявшийся по вздыму с реки на кряж на зимних роспусках с последней кладью бревен.
– Здесь только, маткин берег – батькин край, и стоять очагу культуры! – ладно вставил в масть новинскому председателю колхозный конюх Матвей Сидоркин.
Но довершить задуманное дело помешала спущенная сверху на деревню лесозаготовительная повинность под названием «твердое задание», от которой никому не было отступа и спуску. Новинских мужиков без разбору, огуречным счетом, всех как бы зачислили в лишенцы-обложенцы, поэтому возведение избы-читальни отложили до весны. Не до того было. Страна все больше и больше втягивалась в индустриализацию, требуя от деревни безропотного жертвоприношения.
И лишь после этой долгой зимней лесной кары вспомнили в Новинах об «очаге культуры». Уже перед самой посевной новинские мужики с наточенными топорами собрались на воскресную толоку на Певчем кряжу. Не мешкая сделали разметку под избу-читальню, потом подошли к кладням, смотрят – и глазам своим не верят: все колобашки, вяжущие углы на концах бревен, были сколоты кем-то. Не видно было и бревешек от межоконных простенков.
– Да ведь это ж, обченаш, явное вредительство! – вознегодовал новинский председатель, чем вызвал дружный хохот у односельчан.
– Ай-да, Арся! Ай-да, Беда! – покатывались новинские мужики, дивясь проворству прохиндея.
– Это надо ж было дотумкаться до такого зловредства?!
И все стали сожалеть, что «не дотумкались» сами заранее заложить в бревешки простенков потаенные пороховые заряды.
И вот покурили новинские мужики на кладневых бревнах, с горечью поплевались себе в ноги, да с тем и разошлись, обескураженные донельзя, по домам. И только один столяр Ионыч потопал не в свой край.
Он остановился у низкого подокония Арсиной избы и нетерпеливо постучал своим ореховым костыльком по никогда не крашенной раме. На дребезжащий стук в треснутых и мутных стеклах переплета замаячила, как колдовское видение во ржавом бочаге под еловым выворотном, огненно-багряная образина хозяина, который недружелюбно спросил:
– Чего тебе надоть, контра?
– Рушитель ты земли русской, вот ты кто, Арся! – гневливо выпалил столяр-лишенец. – Не страшишься, что по тебе, волкодлак несчастный, плачет осиновый кол… Будь ты неладен, мянда ты болотная! – И бросив презрительный взгляд на Арсину избу, Ионыч развернулся и пошел прочь.
Сейчас новинский столяр, лишенец-обложенец, готов был пойти и на плаху за святую правду!
Он шел по улице, и встречные односельчане снимали перед ним шапки, как верующие перед архиереем.
Да он, Ионыч, и был для новинских селян тем заглавным корнем, на котором стоит жизнь. Сломается у хозяйки, например, коромысло, расколется корыто, рассыплется кадушка для солений-мочений – к кому бежать заказывать так необходимый в хозяйстве обиход? Ясное дело, к своему Мастаку! Еще не явился на свет младенец, а заботливые родители уже загодя заказывают своему столяру колыбель-качалку. Да чтоб непременно была непохожей на соседскую.
А на чем бы новинский мужик привез зимой дрова из леса, а летом снял урожай с поля, не умей Ионыч делать сани и телеги?
Или взять ту же дугу для упряги лошади. Охлупень-то из кривого корня, как выйдет, всяк сладит. А ты согни выездную с росписями, «мечту цыгана», чтобы тот позарился украсть ее с заулка, дугу-радугу, к которой было бы не зазорно приладить свадебный бубенец!
Да что там свадебная дуга-радуга! Бери ниже – простую кухонную табуретку. Изделие, прямо скажем, немудрящее. Это тебе не улей для пчел, не тележное колесо… Ан нет, далеко не каждый возьмется смастерить ее. А он, новинский столяр, столько их произвел на своем веку, что ни в какой один парный воз не укладешь, не увяжешь. И любую кидай хоть с колокольни – не хрястнет ни в одном шипу, как говаривали новинские не без гордости за своего мастера. И каждый народившийся житель деревни сделал свой первый шажок, а потом и потопал в большую жизнь от его, Ионычевой, простой табуретки. Вот потому-то новинские и снимали шапку перед своим Мастаком, как верующие перед архиереем. Что из того, что он был теперь в опале?!
Как вошел к себе в дом, после свидания с Арсей-Бедой, столяр не помнил. У крыльца перед ним вдруг начала опруживаться земля, он сделал несколько шагов и брякнулся навзничь. Сыновья внесли его в горницу почти бездыханного.
Очнулся столяр уже в кровати, в которой потом провалялся всю весну. Жена Груня в те дни печаловалась соседкам:
– Видно, не жилец наш мастер. Не знаю, дотянет ли до своих именин?
Однажды под вечер, накануне Федора летнего, Ионыча увидели с его ореховым костыльком на Певчем кряжу. Выбрел глянуть на реку. Исхудал и выбелел, как лунь, старик стариком стал.
Бревен с порушенными угловыми концами уже не было на кряжу. Не стояла тут и изба-читальня. После того как обнаружилось Арсино зловредство, разваленный пятистенок новино-выселковского новоземельца сразу сделался ничейным. Бревнышко по бревнышку – мало ли у каждого разных прорех в хозяйстве – начисто растащили все кладни. И от именитого Ивана-Кузнеца не осталось в Новинах ну никакой-то памяти, будто такой человек вовсе и не жил на свете.
На кряжу, у вздыма, лежала в разбросе лишь гвоздатая опалубка из-под дранки.
– Растащили б и опалубку, да кому, обченаш, охота тупить пилу об гвоздье. Дороже самому обойдется на напильниках точить пилу, – с горечью пояснил случившийся здесь предколхоза Сим Грач-Отченаш. Шел мимо, увидел на кряжу соседа и завернул к нему, чтобы справиться о здоровье.
– Вели хоть сжечь это хламье, чтобы не мозолило глаз, – посоветовал столяр. – А то ведь, надо думать, обуркаетесь да и почнете ладить домовины для жмуриков. Ведь другого-то матерьяла у вас, хозяев туровых, нету.
– Верно, Ионыч, говоришь, нету у нас другого матерьяла, нету, обченаш! – сознался председатель, с надсадом крякнув.
– А коль так, выходит, Сим Палыч, при ваших новых порядках не только жить – и умереть страшно.
– Умри, Ионыч, метче не скажешь! Опять, обченаш, попал в самое яблочко, – согласился председатель и подумал: «Ох, как тяжко тоскует мастер по своему делу».
А Ионыч, смело вперившись в усталое лицо председателя укорительным взглядом глубоко запавших глаз, продолжал выговаривать:
– Мне теперь, Палыч, чувствую, не много осталось гостевать на этом свете. Потому и говорить все можно. Да и переиначить меня никому уж не в мочь. Это равно как бы хмель заставить виться противу солнца… И вот скажу тебе, что думаю, как сусед суседу. Попомни мои слова, ничего путного не выйдет из вашей обчественной колготни. Не с того конца взялись за переделку жизни. Надо б с добрых деяний да по-хорошему, а вы поступили по-басурмански – с разору. Вот побаламутите этак, помыкаетесь, разведете страшенную татьбу, а затем приметесь сводить со света друг дружку, как пауки, запертые в банку. Да тем и сыты будете! – При этих словах Ионыч пристукнул костыльком. – А ежель и не случится этого, разбежитесь по чужим краям, куда гляделки глядят.
– Так уже и побежали люди-то из деревни, Ионыч, – вздохнул председатель. – Как от чумы побежали, говорю, люди из деревни. И похозяйствовали-то по-новому с гулькин нос, а уже сколько мужиков лишились коров за недоимки по сельхозобязательствам. Да это ж, обченаш, все та же проклятая продразверстка на манер оброчной барщины! А у того, кто свел за рога в общее стадо последнюю корову на зачин колхоза и не имеет денег, чтобы прикупить на стороне этакую прорву всякой всячины и сдать потом по соцобязательству-оброку государству за здорово живешь, – опишут самовар. И русское «чудо» – тю-тю! И изба осиротела. Потом тот самовар Арся-Беда поставит себе в темные сени, а из них он перекочует за «чекушку» в телегу проезжему тряпичнику. Вот и вся недолга селянской недоимки крестьянина-бескоровника. Вот и побежали люди из деревни, как говоришь, куда гляделки глядят.
– А что прикажешь, председатель, делать в деревне мужику-бескоровнику, тем паче бессамоварнику? Остается одно: схватиться за голову и скорее завербоваться куда-нибудь на стройку. В новом-то году опять будут трясти за недоимку. Потрясут-потрясут, да и упекут куда-нибудь не по своей волюшке.
– Все может быть, Ионыч, все может быть, обченаш, и упекут!
Два соседа с пониманием вздохнули как бы одной грудью и разошлись.
Вечером того же дня Сим Грач-Отченаш пошел по дворам, требуя у сельчан своей председательской властью вернуть столяру его разграбленное добро.
– Негоже, чтоб разобщенный струмент ржавел под чужими кониками, а мастер, обченаш, умер бы от тоски по делу.
Не все, разумеется, удалось собрать председателю, многое из инструментов селяне уже растеряли или загубили, а затем и выбросили за ненадобностю на задворки.
Столяр, глянув на свой «струмент аглицкий стали», разложенный на лавке председателем, аж простонал от боли:
– Это надо ж было так иззубрить! Как только ни у кого руки не отсохли от такой бесшабашной работы?
– Да, Ионыч, и никто, обченаш, не сдох от стыдобы, – переминаясь с ноги на ногу, повинился председатель и поспешил на улицу, хватая воздух открытым ртом, как задохнувшийся налим в непроточном бочаге.
Столяр, наверное, так и не притронулся бы к своему иззубренному «струменту», не направь его на точиле старший сын Гавря. Да и нечаянная мысль, наехавшая на него груженой телегой при разговоре с председателем на Певчем кряжу, видно. не давала покоя. «Ей-ей, положат в гвоздатую домовину», – стращал он себя.
И вот по мере выздоровления в Ионыче проходило и внутреннее отчуждение к своему ремеслу. И он задумал смастерить себе гроб и крест, чтобы не быть никому обузой при своей кончине. Благо и из «матерьяла» кое-что осталось на дворовых поветях, куда не посмел или не догадался сунуться Арся-Беда. Теперь каждое утро, как только домашние расходились по своим делам (сыновья плотничать – строили конюшню, старшая невестка и жена Груня – на прополку колхозного огорода), столяр взбирался к себе на чердак.
– На потолок слазаю, доча, – предупредил он лишь невестку, жену младшего сына. – Помаленьку матерьял буду готовить, может, потом надумаю поделать что-то, – схитрил он перед молодухой на сносях, чтобы ненароком не напугать ее своим замыслом.
В один из тех дней мимо дома столяра проходила бывшая вековуха, набожная Феня, которую в деревне теперь, после ее неожиданных родов заглазно звали тетушкой Копейкой. И вот, заслышав лившиеся с чердака столяра чистые без задору всплески направленного фуганка, она аж вся просветлела: узнала руку мастера.
– Слате осподи, оклемался-таки наш Ионыч! – Феня перекрестилась и засеменила легкой походкой вечной девы в правление колхоза, чтобы поделиться радостью со своим духовным братом, бывшим церковным старостой Иваном Ларионовичем Анашкиным, ныне – колхозным счетоводом.
А в это время в правлении бил баклуши Арся-Беда: играл в шашки со счетоводом, окуривая его едучим самосадом.
Иван Ларионович, отмахиваясь ладонями от дьявольского фимиама, на правах наставника (это он научил Арсю игре в шашки себе на потеху) смело трунил над ним:
– Эхе-хе-хе, Арся, Арся… Вот вы все, как вас величают, «проклятьем заклейменные», пыжитесь, то да се, а на деле-то только и умеете зорить жизнь. Норовите сразу в дамки, а попадаете в нужник. – И известный новинский книгочей не утерпел, чтобы не козырнуть своей образованностью: – Лесков-то правильно писал: мол, Русь-то хоть и давно окрещена, но она еще не просвещена.
– Контра недобитая твой Лесков! – отмахнулся Арся, нещадно теребя растопыренной пятерней свою огненно-багряную волосню на голове и колючую щетину на широких скулах.
Иван Ларионович отер ладонью жиденькие, изжелтевшие волосенки, густо напомаженные гарным маслом, и той же сальной рукой, подобно коту, намывающему гостей, провел по своему и без того лоснившемуся гладкому лицу. И дальше продолжал в том же елейно-шутливом тоне, явно намереваясь устроить подвох своему сопернику как на шашечной доске, так и в разговоре:
– Эхе-хе-хе… подумать только, почти тысячу лет наша православная церковь ухлопала на то, чтобы ты, Арся, стал человеком. А ведь ты по своим деяниям от этого, ох, далече!
– Дак, кто жи я, по-твоему, кадило ты недобитое? – незлобливо буркнул Арся, обдумывая очередной ход.
– Ты лучше спроси не «кто я такой?», а «откуда я такой взялся?» – поправил счетовод, пырская мелким смешочком.
– А мы, Иван Ларионович, да будет тебе известно, из тех же ворот, откуда вышел весь народ! – шало парировал бездельник. – А то ишь навыдумывали твои попы, наподобие нашего расстриги – батюшки Ксенофонта, кубыть мы все изначала были настроганы из Адамового ребра, а сам Адам слеплен из глины.
– Так, Арся, так, – снисходительно согласился Иван Ларионович. – Все верно, Арся! Только такие, как ты, и пошли живьем от нее… волосатой. – И он резко сделал ход шашкой. – Ешь да садись в «нужник», облезьяна ты нечесаная!
Иван Ларионович, оставляя соперника в глубоком размышлении над клеточной доской, поднялся с табуретки и пошел к распахнутому окну, за которым разгорался летний день. Глянул на деревенскую улицу, и ему вдруг вспомнилось прошлое лето, когда отец Ксенофонт брел по ней, воротясь из дальних странствий.
* * *…После сокрушения Новино-Выселковского ТОЗа, раскулачивания мельника и столяра, пала в Новинах и церковь Николы-чудотворца на-Иван-пороге, с которой сбросили колокола, а бесценные ее иконы начисто сожгли в подгорье у реки, как хлам.
Доморощенные, еще желторотые «иконоборцы», которыми коноводил уполномоченный Арся-Беда, потом перевернули вверх дном и поповский дом. Искали серебро с золотишком, а удовлетворились медяками и кухонной утварью – чугунами и горшками да чупизником с ложками. И этому были рады, всё не с пустыми руками идти домой. А заодно свели с батюшкиного подворья и его жеребую кобылу Сороку для разжития колхоза.
Матушка всю ночь в слезах простояла на коленях при зажженной лампаде перед иконой Тихвинской богородицы, а под утро, не раздеваясь, легла в кровать и больше не проснулась.
В своей заупокойной молитве во время свершения последнего христианского обряда новинский батюшка сказал о своей жене:
– Тихо отошла любящая душа… Земля тебе пухом, великомученица Анастасия.
Придя с погоста к себе в дом, отец Ксенофонт взял подвернувшиеся под руку овечьи ножни и спокойно отмахнул свою никудышную козлиную бороду.
– Аминь, – сказал новинский расстрига-батюшка и вышел из собственного дома, даже не заперев за собой дверь. А дойдя до калитки, воротился назад, разулся у порога, аккуратно поставил на ступеньки крыльца сапоги – авось, и сгодятся кому-то. И пошел по земле босиком. В руках у него был, будто архиерейский посох с жезлом, перевернутый сковородник.
Где обретался, по каким городам и весям бродил новинский батюшка, в деревне никто не ведал. Прошла весна, а о нем никаких вестей не было слышно. За сенокосной колхозной запаркой новинские и вовсе забыли о своем духовном пастухе. Богомольные старушки уже внесли имя батюшки в свои поминальники и, молясь об упокоении его души, говорили:
– Хороший был у нас батюшка: наставлял крещеных уму-разуму, увещал заблудших в мирских пагубах…
И вдруг накануне престольного Спаса отец Ксенофонт – жив-здоров – объявился в деревне со сковородником в руке. И опять со своей, так знакомой никудышной бороденкой, только, правда, как бы припорошенной мукой. Словно бы новинский батюшка все это время провел в мирских трудах на мельнице.
– Постарел-то как, святой отец, – жалеючи зашлась тетушка Копейка, которая первой встретила его на новинской улице.
– Старость – венец мудрости, раба божья Фекла, – кротко ответствовал батюшка.
И вот, прежде чем поселиться у себя в церковной сторожке, разоренной и загаженной (добротный его дом, построенный мирянами прихода, был уже разобран и поревезен в соседнюю деревню под сельсовет), отец Ксенофонт прямо с дороги – усталым и запыленным – заявился в правление колхоза.

