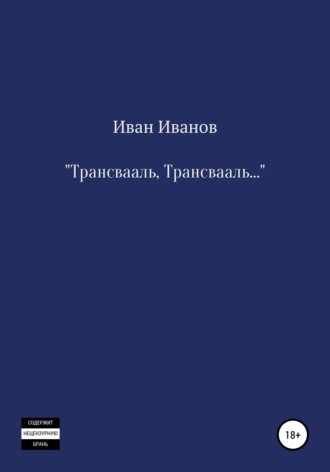 полная версия
полная версияТрансвааль, Трансвааль
По домам косари расходились обязательно с вязанками свежей кошенины. Стоящий мужик ничего не делает ради блажи. Если он и потешит душу чем-то, то чтобы от этого непременно вышла и польза. А как же иначе?
Праздничные столы ставились в подоконии, под вековыми развесистыми березами. На случай непогоды столяр прибирал и свою просторную мастерскую – вторую избу, соединенную с жилой одним водосточным деревянным желобом и теплыми сенями. То был, как говаривал не без гордости сам мастер, «храм аглицкой стали», где все стены от пола и до потолка были увешаны станковыми пилами, продольными и поперечными ножовками, узкими и широкими, коловоротами, буравами и буравчиками и разными шаблонами для резьбы и выпилки по дереву.
Справа у стены, упираясь в массивную, напитанную вареным маслом подоконную подушку, стоял ухоженный ясеневый верстак с разложенными на нем по ранжиру точеными деревянными молотками – киянками. Над верстаком высилась большая полка, где в нижнюю ее доску были просунуты стамески и долота с яблоневыми и вишневыми ручками (они не колются от ударов киянки и мягки для рук в работе). Доской выше были разложены в косой рядок светлые рубанки с ореховыми держачками, – будто улеглись на бережку молочные поросята, а к ним как бы подплыли с гордо выгнутыми шеями навощенные фуганки-лебеди. А еще выше располагалось заносчивое бюргерство, где всяк себе господин, – шпунтубели, фальцгобели, зензубили, отборники, калевки, ярунки, ресмусы, галтели и много других и разных, так нужных в столярном ремесле штуковин, названия которых знал только сам мастер.
И до чего ж «струмент» столяра был соблазнительным своей ухоженностью, – так сам и просился в руки, чтобы сделать что-то для души. Потому и сиявший на дубовой подставе у печного отдушника начищенный ведерный самовар при его бессчетных медалях на выгнутой груди не чувствовал себя здесь генералом. И русская печь не выглядела сановитой владычицей четырех углов, рубленных «в лапу». Она скорее походила на добрую выносливую вьючную лошадь: была обложена сверху и с боков «матерьялом» – досками и брусками, высохшими до колокольного звона. Потому-то тут, когда переступал порог, и не шибало крестьянским кондовым дурманом – лоханью, пойлом, овчинами и луком…
К столяру в его «храм струментов» всегда любили захаживать новинские мужики. Особенно в длинные зимние вечера. И не обязательно с заказами, а просто так – полюбоваться, как работает мастер, поделиться деревенскими новостями.
Но близилась пора, когда отлаженный временем уклад селянского бытия в Новинах – деревне русской, деревянной – был махом порушен. В начале коллективизации, видимо, для сговорчивости мужиков, чтобы охотнее вступали в сельхозартель «Новая жизнь», были раскулачены мельник Кузьма Криня и столяр Ионыч. И почему именно на них, становых селянских разночинцев, пал черный жребий? Да потому что кулаков, как таковых, не только в Новинах, но и во всей их лесной, болотно-подзолистой округе просто не было. Если кто-то и жил исправнее других, так он уже смолоду становился горбатым, а не богатым.
Из-за малоземелья многие новинские мужики издавна занимались отходничеством. Погонят по большой вешней воде плоты в большую Деревню – Питер да и застрянут там на целое лето, подрядившись в артель плотничать. Домой добытчики возвращались на Покров с обновами для семьи и родни и с немалыми деньжатами, для надежности зашитыми в опушку исподников.
Так и жили новинские в ладу с собой – не особо богато, но и не бедствовали. А главное – чувствовали себя вольными людьми. У всех были как на каждый день, так и на выход, катанки и полушубки; имелись и запахистые тулупы ездить на пожни за сеном. И это будет последней овчинной одеждой и валяной обувью, что издавна нашивалась в Новинах. Колхозы с первых же дней подрубят под корень исконную романовскую плодовитую овцу-шубницу. Чьим-то волевым решением сверху попытаются заменить ее южной курдючной породой, которая никак не пожелает прижиться в сыром северном краю. Потом селяне на многие годы оденутся в ватные «арестантские» стеганки (на местном наречии – «куфайки»), обуются в охломонистые резиновые чёботы и будут в них мыкаться – зимой и летом, в будни и праздники.
Впрочем, много всего несуразного будет потом в Новинах… А пока у северян еще имелись и катанки, и шубы с тулупами; по праздникам пеклись в печах и пироги. Однако ж вернемся к новинской истории.
На фоне опрятной деревни и размеренной жизни ее сельчан резко выделялся своей беспросветной расхлыстанностью Арся Тараканов, лютый недруг столяра и мельника. Одного невзлюбил за «золотые» руки, другого, как сам в открытую признавался, за его «хлебное рыло».
Видно, во все времена в каждой деревне выискивался такой упырь, но в Новинах он был на особицу, с какой-то своей причудью и придурью. Ну, взять хотя бы такой факт: Арся никогда не имел заботы, как все его однодеревенцы, ездить в лес за дровами. Зимними ночами он втихаря к весне начисто растаскивал все соседские изгороди и заплоты. Покушался он и на звонкие поленницы соседей. Но тут, как ни ловчил, как ни осторожничал он, его подстерегал подвох, кончавшийся большим конфузом перед всем честным народом. Соседи, чтобы не оставаться в долгу перед прохиндеем, тайно закладывали в поленья пороховые заряды. Потому-то в самую зимнюю стужу нет-нет да и раздавался в его спотыченной избе громовой грохот летевших из закопченного чела печи через окно на улицу щербатых чугунов, где они потом еще долго шипели в снегу, исходя белыми клубами пара. Только чудом оставалась в живых Марья Тараканиха, хотя в те черные для нее дни она ходила по деревне хухрей, вся залубеневшая от сажи. В престолы новинские мужики не раз пускали прохиндею юшку из его курносой заносчивой сопатки. И как об стенку горох: эти «припарки», как шутили новинские, ему не шли впрок.
Жил Арся хуже самого распоследнего стрюцкого – бедно и тесно, ютясь со своей горластой оравой на одной половине избы. Вторая половина, которой не суждено было стать горницей, так и стояла «слепой» – с непрорубленными окнами и без пола и потолка.
Если и умел Арся что-то делать, как сказал бы новинский столяр Ионыч, «на ять», то это строгать со своей плодовитой Марьей себе подобных огненно-багряных курносиков. И все они удавались у них на удивление – на один копыл, будто строгали их из одного полена. Потому-то и прозывались они в деревне безымянно: Арсины Пестыши. В отличие от зародышей полевых хвощей-пестышей, которые во все лихолетья, чтобы не умереть с голоду, ела новинская ребятня, Арсины же Пестыши всегда сами хотели есть.
Так и жил бы Арся в своей беспросветности, не объявись однажды в Новинах в предзимье 1929 года трое в потертых кожанках из района. Среди них была одна бедовая краснощекая девица в лоснившихся от долгой носки бриджах. Они прошлись по улице из конца в конец и остановились напротив Арсиной избы, решив, что беднее хозяина нет в деревне.
Когда они вошли в избу, хозяин лежал на печи в глубоком раздумье: «Што ли встать да подшить катанки, а то ить совсем подошвы прохудились. Да и мороз пятки кусает, оттого что задники уже давно каши просят».
Но вставать лежебоке никак не хотелось, а тем более взять да засесть сапожничать. К тому ж в хозяйстве не водилось ни дратвы, ни шила, надо было бежать к соседу на поклон. Да и не умел Арся, как все его соседи, рукомеслить по дому, а главное – лень-матушка разламывала его неизработанное гладкое тело.
– Видали?.. Кругом бурлит жизнь, а он, кот замурзанный, лежит на печи и ловит себе рыжих прусаков! – обращаясь к своим спутникам, рассмеялась девица в бриджах. И тут же прикрикнула на хозяина дома, ошалевшего от столь неожиданного визита гостей в кожанках, туго перепоясанных широкими ремнями с прицеленными к ним кобурами на боку: – А ну, вставай, проклятьем заклейменный, да собирайся в Новино-Выселки. Живо! Поедем делать коммунию!
…В разгар нэпа из Новин выделились четыре двора, образовав в Заречье, в трех верстах ниже деревни, выселок под названием Новино-Выселки. Это две семьи братьев Неверовых – потомственных шерстобитов, которые зимами ездили по деревням со своей самодельной машиной, где чесали шерсть и катали валенки. И две семьи братьев Раскиных – тоже потомственных деревенских кузнецов. Старший Иван был мастером заводской выучки. Его судьба была чем-то схожа с судьбой столяра Ионыча, только сдвинута во времени. До революции он работал на одном из петроградских заводов, на который подростком нанялся молотобойцем в конце четырнадцатого года, когда рабочие руки кадровых мастеров сменили молоты на винтовки.
Во время гражданской войны Иван, уже как участник ее, был тяжело ранен в бедро на польском фронте. После госпиталя, когда он вернулся в Петроград к себе в семью, жить в неотапливаемом каменном бараке-казарме было холодно и голодно. И тогда-то питерские Раскины, Иван да Марья, решили возвратиться в родную деревню к младшему брату Семену, чтобы подлечиться и переждать лихолетье послереволюционной разрухи.
И вот, на деревенском приволье и парном молоке, по мере выздоровления Иваном-Кузнецом, как прозвали новинские своего земляка-петроградца, стала овладевать идея товарищества по совместной обработке земли, про что он время от времени читал в газетах. В своих разговорах он стал исподволь подбивать на товарищество и своего младшего, уже семейного, брата Семена, а также братьев Неверовых, гордых и мастеровитых мужиков, с которыми Раскины издавна водили дружбу. Братья двух родовых корней из четырех семейств долго спорили да рядили и в конце концов порешили: быть Новино-Выселковскому товариществу по совместной обработке земли.
Первые три лета у новоземельцев ушли на раскорчевку угодий под пашню и сенокосы. Зимой женщины хлопотали по хозяйству, ухаживали за скотом; мужчины с топорами в руках от зари до зари с неистовством обустраивались.
На четвертый Покров братья-новоземельцы въехали в добротные пятистенки с мезонинами, повернутые окнами на реку. Новино-Выселковские «хоромы» (так новинскне не без зависти окрестили дома братьев-новоземельцев) не жались, как в деревне, друг к другу тынами надворных построек. Даже было как-то непривычно для глаза на новых подворьях, где просторно расположились на задах хлевов и конюшен такие же добротные амбары, сенники и каретники: ничего не валялось под открытым небом, все было прибрано под крышу.
После новоселья, как только пошабашили с молотьбой на новом гумне, новоземельцы приступили к главному делу, ради чего, собственно, они и решились на товарищество. Братья Неверовы с подросшими сыновьями стали чесать шерсть на своей самодельной машине да катать валенки на потребу всей округи. Попробовали овчинничать, и это пошло. А братья Раскины развели горн опять-таки в нововыстроенной кузнице, и округа огласилась веселым наковальным перезвоном.
На другую зиму в пайщики товарищества попросился и новинский столяр. Мастеровитый Ионыч стал поставлять братьям-кузнецам свои поделки: дровни, сани-возки, телеги и таратайки, те оковывали их и уже готовыми продавали округе.
Так у Новино-Выселковского ТОЗа появились живые деньги, которые предприимчивые новоземельцы тут же пускали в оборот. Сперва к весне прикупили парные плуги. К лету обзавелись тремя сенокосилками и парой жнеек-лобогреек. А осенью на гумне голосисто загудела молотилка от конного привода. Он-то, привод, и подтолкнул Ивана-Кузнеца засесть за чертеж.
Вскоре новинский столяр получил от товарищества очень ответственный заказ.
– Ионыч, предстоит сделать деревянную машину на восемь персон для трепки льна, – важно заявил Иван-Кузнец, кладя на верстак перед столяром не очень совершенный эскиз своего изобретения. – Не скрою, дело мудроватое, но нужное. Эта машина во много крат облегчит новинским бабам их льняные хлопоты. Да и наш конный привод не будет гулять зимой после молотьбы. – И довольный собой, он по-доброму посмеялся. – Жизнь, Ионыч, это постоянный загляд в завтра.
– Башка, Иван, башка! – похвально отозвался столяр, как только вникнул в замысел деревянной чудо-машины о восьми маховых колеса на шестьдесят четыре трепала.
Бывшие новинские питерцы-умельцы несколько вечеров провели в жарких спорах, во время которых столяр внес немало и своих дельных поправок, с чем кузнец не мог не согласиться. Потом, как водится в таких случаях, головастые мужики ударили по рукам, затем отведали ионычевой забористой медовухи, а песня сама пришла к ним. Любимая песня Ионыча:
«Трансвааль, Трансвааль, страна моя,Ты вся горишь в огне…»Эту песню «Трансвалию» он и привез во мстинское приречье из Большой Деревни – Питера, где долечивался в военном госпитале Его Величества, после русско-японской войны 1904–1905 гг.
К наковальнему перезвону из Заречья мужики в Новинах прислушивались чутко.
– Маткин берег – батькин край, а у братанов-новоземельцев дело-то пошло ходко! – не без зависти рассуждал Матвей Сидоркин – мужик средней руки.
Ему вторил и молодой рассудительный мужик Сим Грачев, прозванный в деревне за комканье слов «вообще-знаешь» Грачем-Отченаш:
– Однако ж, обченаш, разворачиваются мужики на Новино-Выселках.
Мужики чесали в затылках и что-то соображали:
– Да-а, сама жисть заставляет кумекать…
Пройдут годы, десятилетия, и немногие новинские старожилы, кои останутся в деревне, все будут помнить то интересное время, когда всплеск жизни исходил как бы из самой жизни.
И только один Арся Тараканов матерился, как только бывало заслышит долетевшие по ветру из Заречья перезвоны молотов:
– Ух, богатеют буржуи недобитые… Ужо доберемся и до них, гадов ползучих! – грозился он кулаком в сторону Заречья.
И этот, роковой для Новино-Выселок, час пробил. А его «оракула», новинского предкомбеда Арсю, застал почивавшим на печи, когда к нему в спотыченную избу вошли трое районных ухарей, перепоясанных широкими кожаными ремнями с прицепленными к ним кобурами на боку, позвав его, Закоперщика Новой Жисти, «делать Заморскую Отчебучу», как потом назовут новинские аборигены сотворенную в однодневье в Заречье на справных тозовских подворьях Новино-Выселковскую коммуну.
А сотворить ее оказалось проще простого. Даже и лоб ни у кого не взопрел от крутого кружа, не говоря уже того, чтобы у кого-то с надсаду защемило в межножье. Только-то и всего, что ретивая троица в порыжевших кожанках с чужого плеча для острастки помахала наганами над головами. А девица в лоснившихся от долгой носки бриджах (и тоже ясно, что не в своих) пальнула в воздух. Так это ж с перепуга, когда старший из братьев-шерстобитов во гневе схватил закладку от ворот…
Потом новоземельцев с немногими узлишками, какие им позволили наспех собрать перед дальней дорогой, усадили в их же розвальни и повезли в Никуда. А пока – до ближайшей станции на сборный пункт под охрану все тех же «огепеушников»-коммунаров, как сказывали тогда в деревне.
В те же розвальни к бывшим гордым тозовцам, обреченным на гибельную неизвестность, подсадили еще и возниц, таких же, как и Арся-Беда расхристанных мужиков из окрестных деревень. Им надлежало пригнать со станции обратно подводы и осесть в Новино-Выселках на постоянное жительство вместо «Товарищества». Правда, на возвратном пути стряслось непредвиденное: не досчитались двоих будущих новоселов. Один беспутный мужик в радостном предвкушении новой «жисти» опился на дармовщину и захлебнулся в собственной блевотине. Другой шалопут с пьяного угара решил прокатиться с ветерком: настегал кнутом сытую хозяйскую лошадь, и та, ошалев от стрюцкой наглости (ведь настоящий хозяин погоняет коня – не кнутом, а овсом), во весь опор прянула в глубокий придорожный овраг, убив и себя, и горе-ездока. Такая вот вышла неприглядная история на зачин Новино-Выселковской коммуны, то есть «Заморской Отчебучи», которая родилась в однодневье на крутых берегах Бегучей Реки, родилась на готовенькое, вызывая в деревне Новины – праматери Новино-Выселок ревнивое осуждение: «Из лаптей да – в сапожок!»
И вот, со дня рождения коммуны на Новино-Выселках в деревне Новины не стало слышно заречных наковальных перезвонов. Зато вместо них часто доносились по ветру на вечерней заре забористые переливы гармони и пьяные разухабистые голоса, певшие про попов-дармоедов, буржуев-кровопийц. И бахвалисто про свое неприкаянное коммунарское житье-бытье:
Все мы – комиссары,Все мы – председатели,никого мы не боимся —Па-ашли к я. ни матери!Новоявленные соседи часто околачивались в деревне перед сельповской лавкой, не вызывая к себе доверия. Все они были, как мартовские коты, какие-то взъерошенные и с перецарапанными похмельными обличьями. Ими новинские матери пугали своих еще несмышленых неслухов: «Вот отдам в коммунию, тогда будешь знать…» Или: «Счас заберет тебя коммунар себе в котомку!»
Всего лишь зиму и продержались новоиспеченные хозяева. Пришла весна, надо было пахать да сеять, а на поверку вышло – не на чем и нечем: тягло, инвентарь, семена – все куда-то подевалось, как в тартарары провалилось. В просторных хлевах, недавно переполненных живностью, стояла глухая немота. Ни ржания, ни мычания, ни блеяния, ни хрюкания, ни кукареканья не было слышно на бывших новоземельских подворьях. Но особенно было больно видеть, как в распахнутых настежь каретниках лежали на «брюхах» телеги и таратайки, – куда раскатились от них колеса, никто не ведал. Нажитое в трудах и заботах домовитыми братьями-новоземельцами, все пошло прахом через новых размашистых хозяев.
И только пожар выручил новино-выселковских коммунаров от их неминучего позора. Беда случилась в сухую ветреную ночь великого пьяного шабаша: праздновали день «труждущих» всего мира – Первое мая. Начисто выгорели из четырех три подворья.
Если родилась коммуна в однодневье, то закончила свое бесславное существование в одночасье, на что новинские девки не замедлили откликнуться язвительными припевками: «Ели, пили, веселились, а проспались – прослезились».
Оставшемуся не у дел предкому с семейством горластых пестышей пришлось перебраться с вольного «коммунячьего» житья обратно в деревню, в свою спотыченную избу с худым скрипучим крыльцом. А так как он по-прежнему оставался в деревне беднее всех, то его, вместо того чтобы отдать под суд за разор Новино-Выселковского ТОЗа и коммуны, районное начальство назначило уполномоченным и велело подпоясаться широким ремнем с кожаной кобурой. А что бы это значило, Арся не знал, лишь нутром догадывался, что в деревне грядут большие перемены.
– Надеемся на вас, товарищ Тараканов, – сказал детинушка с простоватым широким лицом – из бывших станционных «помазков» (смазчиков букс), сменивший замасленную куртку на кожанку. – Что ж… первый блин у нас вышел комом. А за свою ретивость с этого дня считай себя коммунистом. Я уже об этом распорядился. А в деревне пока до поры до времени называйся по старинке: предкомбедом.
– Слухаюсь! – гаркнул Арся, часто взмаргивая своими сообразительными хорьковыми глазками.
Из района Арся-уполномоченный заявился в Новины – орлом! И в первый же пьяный кураж после возвышения он навестил своего заклятого недруга – мельника, на котором не терпелось ему испытать дьявольскую силу «ржавой пукалки», как потом новинские нарекут его наган.
Мельника он застал у себя на подворье – шел усталый с дневного помола, весь запыленный мукой.
– Ну што? – сбычившись пьяно, спросил трудягу новоявленный новинский предкомбед-уполномоченный. – Наел свое кулацкое рыло и – ша! Теперь другие будут лопать, а тебя, контру недобитую, втопчу в грязь! – И Арся картинно выхватил из кобуры наган, наставив его в упор на опешившего мельника. И тот струхнул, хотя кулаки у него были с Арсину голову, но, оказывается, не в них дело.
– Арсентий Митрич, благодетель ты наш… пощади ради деток моих, пятеро их у меня, – взмолился мельник, рухнув на колени.
Столь неожиданный оборот поставил насильника в тупик: никак не думал, что его порожняя «пукалка» так грозна. И ох, как пожалел, что ему не выдали патронов, а то еще не так бы пугнул, выстрелил хотя бы в воздух. И вот, скользнув глазами по ровной березовой поленнице, он глумливо приказал:
– А ну, разваливай дрова! Ишь завел тут барские порядки, штоб все было по линейке да по шнурку!
И тишайший трудяга-мельник, который за свою жизнь и мышь, наверное, не прогнал с мельницы, как провинившийся издольщик, угождая прихоти хозяина-лиходея, стал собственными руками рушить отлаженный годами порядок у себя на подворье, валить поленницу.
И надо было случиться такому – в этот недобрый для мельника час на мельницу заглянул по какому-то делу Сим Грач-Отченаш. Увидев Арсю, размахивающего наганом перед мельником, он схватил с изгороди ограненную березовую заготовку для дышла телеги и разъяренным медведем, раскорячась, пошел на обидчика. Сейчас Грач-Отченаш не только на ржавую «пукалку», на пулемет бы пошел. И это, видно, хорошо понял Арся. Пьяный-пьяный, а так сиганул с мельницы, что перепрыгнул изгородь в маховую сажень. И только эта прыть уберегла его от березовой орясины, которая следом за ним проломила до самой земли жердяное прясло.
Как ни странно, этот факт не вышел за пределы мельницы. И тому была причина. Жаловаться на «местное начальство» в лице Арси было не в пользу мельника. После разгрома в Заречье ТОЗа и падения там коммуны мельнику, с его «хлебным рылом», хорошего нечего было ждать. Неспроста ж новинского трутня подпоясали широким ремнем, прицепив к нему кобуру с ржавой «пукалкой». И у Арси было рыльце в пушку: ведь наган выдали ему не для пьяного глумления над селянами. Да и раздувать это «кадило» перед ними, как он решил тогда, было ему явно не с руки. Засмеют. С «пукалкой» и испугался, мол, Грача-Отченаша с дрыном. Симу же Грачеву и вовсе было ни к чему заваривать кашу: ну, было и было. Если о чем и сожалел мужик, то только о том, что не задел, хотя бы вскользь, хребтины новинского оборотня…
Сельчане к Арсиному возвышению отнеслись безо всякой радости. Мало того, трехзвенное слово его почитания «предкомбед» донельзя укоротили и как довесок заглазно добавляли к его имени Арся-Беда или просто говорили – Беда. Он же в новой роли повел себя перед односельчанами и вовсе заносчиво, что не осталось в деревне непримеченным.
– Только погляди, как наш Беда-то в гордыне задрал свой унюхчивый на чужое пятачок-от! Поди, теперича и шестом не достать, – насмешливо судачили новинские кумушки у колодцев.
Арся же Беда, вышагивая по деревенской улице на своих коротких толстопятых ногах, воровато зыркал быстрыми хорьковыми глазками. Как только заприметит хозяина, ладившего прохудившуюся половицу в крыльце или красившего облупившиеся наличники на окнах, тут же с придыхом рыкнет:
– Пошто пузо-то свое кулацкое выкатываешь напоказ? На Соловки захотел, контра?
Революции Великое Равенство трудового человека новинский предкомбед воспринял как обязательное равнение всех и всях на него, Арсю Тараканова. С такой вот меркой он подошел и к мельнику со столяром во время раскулачивания их на зачин коллективизации. Не посмотрел, что мельник в будние дни ходил в домотканых портах. Но как ни крути, а «рыло»-то у него все-таки хлебное: на то он и мельником был, чтобы работать от души и есть вволю. Да и его широкогрудый избуро-красный жеребец Буян бросался в глаза своей гладкостью – тоже вволю хрумкал овес. А вот этого-то Арся-Беда, войдя уже в раж властолюбия и низкого мщения за свою нескладную стрюцкую долю, никак не мог простить ни человеку, ни лошади.
– Под ноготь таких надоть – и весь сказ! – изголялся перед селянами новинский предкомбед-уполномоченный в догон отъезжающей на извозной санной подводе семье мельника.
Так, без сострадания, был выдворен из родной деревни новинский мельник, а осиротевшая мельница на речке Протока в первую же колхозную весну вспотык завалилась на донное каменье. И вот тогда-то на размытой запруде первый председатель новинского колхоза Грач-Отченаш горько изрек:
– Обченаш, знамо, что мельница без мельника не мелет, а вот, поди ж ты, не заступились за трудягу. – И, помолчав, горестно добавил: – Вот уж воистину в народе говорится: много хлеба – заводи свиней, много денег – строй мельницу. У нас же вышло все шиворот-навыворот. В кармане – вошь на аркане, а мы начали с того, что стали крушить жернова.
В Новинах промысел молоть зерно, как и в далекую старину, от мужиков опять перешел к бабам. От одних отняли радость (мужик никогда не тяготился работой на мельнице: тут и разговоры по душам и небольшая выпивка с песнями), к другим, к бабам, пришло настоящее бедствие. Тот, кто не молол вручную, тот и не знает, что это такое. Надо одной рукой, держась за отполированный ладонями вересковый мелен, ворочать вкруговую тяжелый каменный жернов, а другой все время успевать подсыпать в жерло-вечею жернова горсть за горстью сухие зерна. И вот провернет бедная баба лукошко жита – лоб мокрый, в глазах – ноченька темная. Тут и хлеба не захочешь.
Да еще и молоть-то надо было исхитряться украдкой. Не дай бог, если Арся-Беда заслышит, как у кого-то на повети кычет улетающим журавлем жерновой мелен, курлыкая в проушине деревянной полицы. Аж весь затрясется от ярости:

