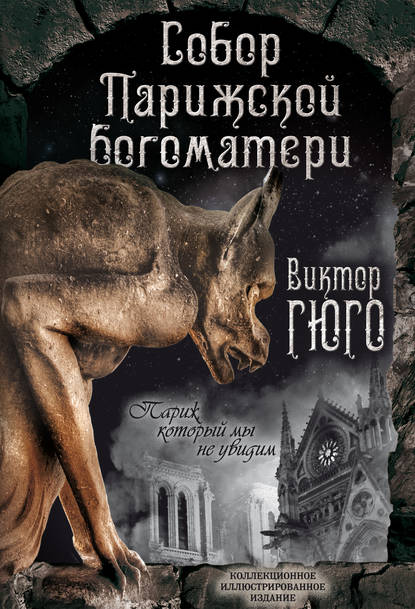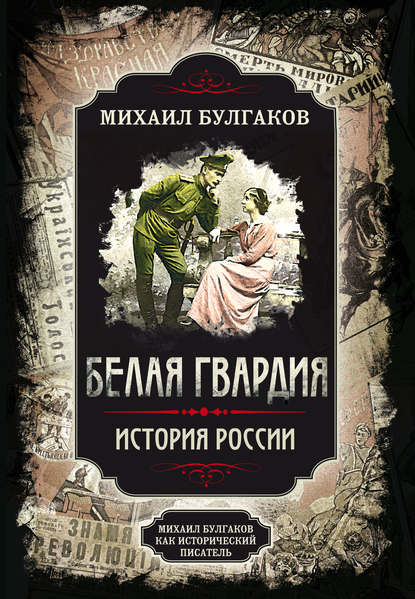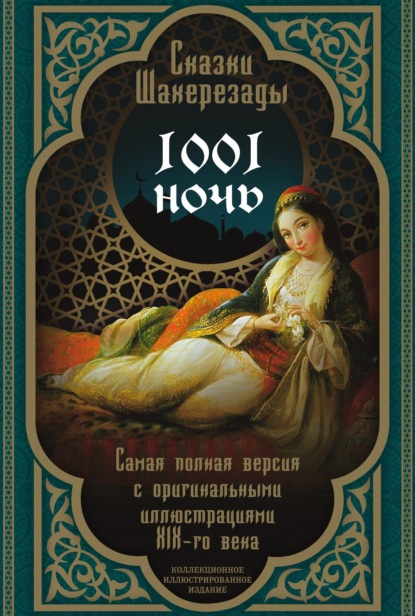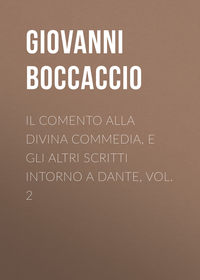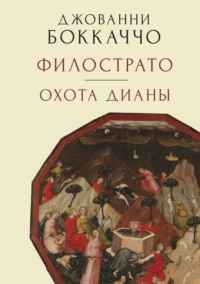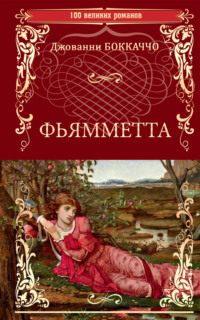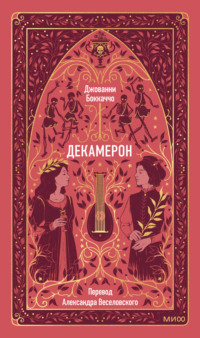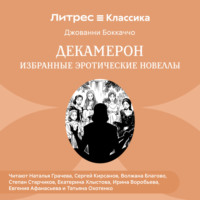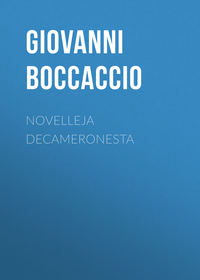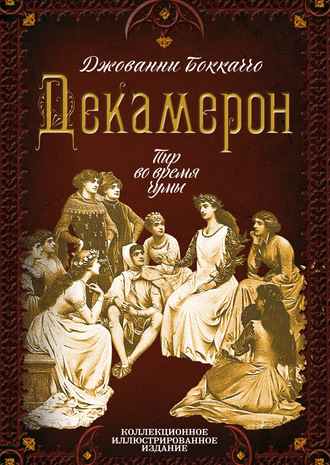 полная версия
полная версияДекамерон. Пир во время чумы
Фьямметта «Декамерона» получает значение лишь на почве биографии поэта, в отношении к его представителям: Дионео, Филострато, Памфило. Первого она видимо балует, снисходит к его повесничанъю и поет с ним о мессере Гвильельмо и о даме дель Верджьу, песню о трагической любви, навеянную хорошенькой французской поэмой о «Chatelaine de Vergi»; либо об Арчите и Палемоне. Печальный Филострасто вызывает ее первую на грустную новеллу о Гисмонде; он же венчает ее на царство, ибо она вознаградит общество за горестные впечатления возбужденных им рассказов, – и она велит рассказывать о любви, полной препятствий, но увенчанной счастьем, и первому на очереди бесед быть – Памфило. Все эти сочетания показались бы нам случайными, если бы биография и сочинения Боккаччо не вносили в них живой смысл. В той и в других находят себе объяснения и некоторые другие подробности: как в «Филоколо» Фьямметта решала, что из двух женщин, одинаково нравящихся мужчине, следует предпочесть ту, которая выше его по роду и состоянию45, так и в «Декамероне» большим благоразумием является в мужчине «всегда искать любви женщины более родовитой, чем он»46. Рассказывая потешную новеллу о Каландрино, Фьямметта откровенно входит в интересы общества, собравшегося с тем, чтоб веселиться, и вместе с тем она любит пораздуматься и поразобраться в вопросах, но в меру. Прекрасные дамы, – говорит она, приступая к одному рассказу, – я всегда была того мнения, что в таких обществах, как наше, следует рассказывать пространно, дабы излишняя краткость не подавала другим повода к спорам о значении рассказанного. Это дело более приличное в школах, среди учащихся, чем между нами, которых едва хватает на прядку и веретено». Мы встретили ту же точку зрения в «Филоколо», где Фьямметта обещает вершать любовные вопросы легко, не углубляясь в их суть и прося избегать тонкостей, потому что, утруждая ум, они не приносят удовольствия.
Другие собеседницы Фьямметты характеризованы двумя-тремя случайными чертами, но более обще; правда, биография поэта не подсказывает здесь ничего реального, что бы наполнило кровью их бледные образы; случайное указание на одну из собеседниц, как гибеллинку, равнодушно отнесшуюся к содержанию новеллы X, 6 (сл. введение в X, 7), не дает нам никаких откровений. Пампинея старше всех и рассудительнее; ей принадлежит замысел удалиться из чумного города, приобщив себе в спутники Дионео, Филострато и Памфило, и проводить время не в игре и других забавах, а в беседах, в которых се, очевидно, привлекает элемент учительности и размышления: она охотно впадает в общие места, часто увлекается в сторону, наставляет. – Филомена – красивая, разумная девушка: она первая догадывается, что им без сопутствия мужчин не обойтись, и когда Неифила выражает опасение, как бы о том не заговорили криво, смело отвечает: «Лишь бы жить честно, и не было у меня угрызений совести, а там пусть говорят противное. Господь и правда возьмут за меня оружие». Тем не менее она смущена, когда ее выбрали королевой, но тотчас же входит в роль, припомнив рассказ Пампинеи о добродетельных проститутках, не умеющих связать слова52: она не хочет показаться простушкой и станет вести дело, следуя не только своему мнению, но и мнению всего общества53. – В сравнении с ними Неифила – девочка, робкая и вместе бойкая на словах, может быть, потому, что не знает всей их силы и бодрится. Узнав, кто из мужчин будет им сопутствовать, она зарделась: она боится нареканий, потому что в числе тех юношей есть влюбленные в одну из них54. Избранная королевой, она стоит, покраснев, окруженная хвалебным ропотом; ее лицо, что свежая роза в апреле или мае, на рассвете дня, прелестные, несколько опущенные, глазки блестят, как утренняя звезда55. И вместе с тем вольная выходка Филострато по поводу новеллы об Алибек вызывает у нее отповедь не по летам, показывающую, что она сумела разобраться и в нескромных похождениях Мазетто56. – Имя Эмилии возвращает нас к биографическим воспоминаниям прежнего типа. Эмилия «Тезеиды» создана для любви, ей нравится быть любимой; характерна для нее именно эта потребность сердца, не случайный выбор любимого человека. В сущности, это настроение Эмилии «Декамерона»; пока она очарована лишь своей красотой:
Я от красоты моей в таком очарованье,Что мне другой любви не нужно никогда,И вряд ли явится найти ее желанье.Но это лишь самообольщение, она чает чего-то другого, потому что, продолжает она, чем более я покою взгляды на благе моей красоты, тем более
Я отдаюсь ему душою всей моей,Вкушая уж теперь высокие услады,Что мне сулит оно – и в будущем отрадыЕще я большей жду.Вот почему, быть может, она иногда задумывается, уносясь в мыслях куда-то: Филострато кончил новеллу, все смеются, велят продолжать Эмилии, и она начинает, глубоко переводя дух, точно недавно проснулась: продолжительное раздумье усиленно и долго держало ее вдали отсюда; она не была здесь духом. Но затем она рассказывает смело и охотно, ободряя других своим примеромб0: Боккаччо дважды подчеркнул эту черту, психический противовес сосредоточенности.
Элиза, названная так «не без причины» (Вступление), несколько насмешливая, резкая, не по злорадству, а по старой привычке, и довольно неопределенная Лауретга завершают собою кружок «Декамерона»; грациозные фигурки, слегка брошенные на фон игривого, но культурного тосканского пейзажа; кто захочет теней и красок и ярких пятен – найдет их там, где они у места – в рассказах «Декамерона».
II
Кто хоть немного начитан в средневековой повествовательной и вообще сказочной литературе, тот встретит в них множество знакомых мотивов, черты международного бродячего предания и – группу местных или исторических повестей, лишенных традиционного значения, рассказов об остроумных выходках и шутках, одним словом – «новостей дня»; это и могло быть основным значением провансальских novas, итальянской новеллы. В неаполитанских рассказах Фьямметты о приключениях Андреуччио и хитрости, которой Риччьярдо добился обладания любимой женщиной, в новелле Дионео о салернском враче Маццео делла Монтанья нет ничего, что бы говорило за вымысел, хотя иные подробности и могли быть навеяны мотивами сходных повестей. На уголовный факт, легший в основу первой новеллы, уже было указано; местные анекдоты и предания дали материал для рассказов о короле Карле и несколько загадочном Нери дельи Уберти, о короле Петре и влюбленной Лизе, для которой Мико из Сиены сложил канцону: Боккаччо приводит ее, она встретилась в одной рукописи отдельно и в более архаистической форме; о Фридрихе Сицилийском, о красавце Джербино и известном разбойнике Гино ди Такко; содержание одной новеллы взято из старой летописи Фаенцы. Особенно разнообразен областной элемент в том, что приурочено к Флоренции и Тоскане. Перед нами целый ряд имен, еще теперь уследимых по памятникам и близким по времени упоминаниям: Чаппеллетго и флорентийский инквизитор, Гвильельмо Борсьера и буффоны Стекки и Мартеллино, Риччьярдо Манарди и Лицио да Вальбона, Джери Спина и его жена Оретта, действующие лица новеллы VI, 3, Форезе да Рабатта и Джотто, Гвидо Кавальканти, поэт Чекко Анджольери и его товарищ Чекко ди Фортарриго, Чакко и Филиппо Ардженти; может быть, Цеппа ди Мино. – Рядом с этими более или менее известными именами другие, может быть, не выходившие в черту казовой истории: святоша Пуччо да Риньери и простофиля Джьянни Лоттеринги, влюбленный священник и Варлунго и судья в Пизе, великий учетчик праздничных дней на супружеском ложе, – и сентиментальная парочка Симоны и Пасквино, Джироламо и Сальвестра, – Сильвия Альфреда де Мюссэ[120]. – В сущности рассказы о них не менее историчны, чем являющиеся под прикрытием известных фамилий, ибо исторические фамилии не всегда страхуют достоверность рассказа, порой они просто показатели времени, не смущаются в обстановке невероятной легенды, когда, напр., о флорентийце Алессандро ди мессер Тедальдо деи Ламберта или дельи Аголанти рассказывается, что он стал королем Шотландии. Иной раз известное имя могло подсказаться Боккаччо просто потому, что подходило по смыслу и звуку, как, напр., имя нотариуса Bonaccorri di Geri da Ginistreto, или в новелле о брате Чиполла, имя его потешно веселого спутника Гуччо: в 1324–1325 г. упоминается, в должности больничника при госпитале св. Филиппа во Флоренции, брат Guccius Aghinette, vocatus frater Porcellana. Боккаччо втайне намекнул на это прозвище, назвав своего монаха Guccio Рогсо и заставив брата Чиполлу искать привилегий del Parcellana, Поросяти.
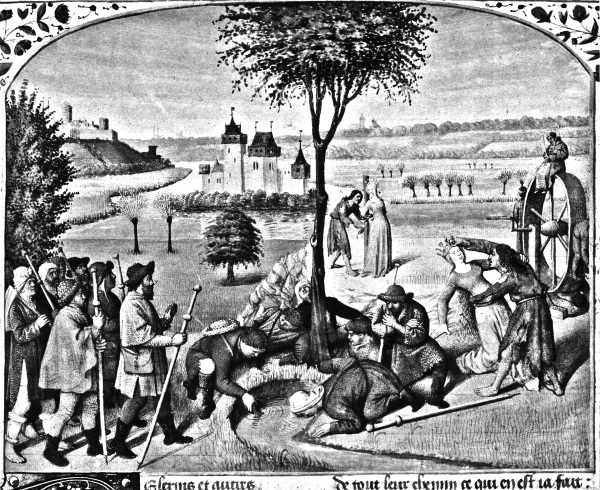
Паломники. Иллюстрация к «Декамерону».
Художник – Жан Фуке. 1460-е гг.
Весь шестой день посвящен острым словам и находчивым ответам, и герои дня, по преимуществу, флорентийцы, между ними Джотто и Гвидо Кавалькани; Петрарка, называющий вместо последнего какого-то Дино из Флоренции, отвел в своих «De rebus memorabilibus» место остротам и метким изречениям, этим признакам культурного, бойкого на слово итальянца. Разумеется, многие из этих летучих слов далеко не новы, вроде предложения рыцаря мадонне Оретте – повезти ее на коне (она шла пешком), т. е. скоротать ей путь рассказом; или того, например, что у журавля всего одна нога98, или рассказанной в другом месте ловкой увертки маркизы Монферраттской: что все женщины так же сходны между собой, как кушанья, с виду разные, но оказавшиеся изготовленными из одних кур. В русских легендах о Февронии и Ольге это выражено поэтичнее: Феврония велит человеку, посмотревшему на нее с греховной мыслью, почерпнуть воды с той и другой стороны лодки и отведать; она оказалась одинакового вкуса: так одинаково и естество женское.
Среди исторических, унаследованных острот иные отличаются колоритом среды, ароматом почвы; такова отповедь Гвильельмо Борсьере, маэстро Альберто из Болоньи и Гвидо Кавальканти, который привел в смущение веселую компанию, приставшую к нему у гробниц Сан-Джованни, сказав, что у себя дома они вольны говорить, что им угодно. Вы чувствуете себя в среде, где умственное развитие дало лишек производства и, вместе, сознание силы, которая требует упражнения, исхода, и находит выражение в культе блестящей шутки, виртуозного слова, забавной проделки; в них мерка – превосходство над тем, что отстало; есть что-то лихорадочное, юное, бесцельное в этой потребности расправить мускулы, расходиться. Поминаются старые потешные люди, тонкие, благовоспитанные, как Примас, Бергамино, флорентиец Гвильельмо Борсьере, как те cavalieri di corte, иначе гистрионы, которых обязанностей было честным образом развеселять усталых от дела синьоров-правителей, не те грубоватые и неразборчивые, которые побираются у жалких и безнравственных вельмож, кормясь своим злословьем, как флорентийцы Чакко и Бьонделло; у них шутка обратилась в ремесло, как у Дольчибене, Гонеллы и боккаччевского буффона Риби; в обществе она возделывается свободно, как естественный избыток умственного и телесного здоровья. Был в нашем городе юноша, «по имени Микеле Скальца, самый приятный и потешный человек в свете, у которого наготове были самые невероятные рассказы, почему молодым флорентинцам было очень приятно залучать его к себе, когда они собирались обществом; был «о ту пору во Флоренции молодой человек, удивительный забавник во всем, за что бы ни принялся, находчивый и приятный, по имени Мазо дель Саджио: действительное лицо, по профессии маклер, лавка которого была обычным притоном веселых художников, как в лице другого, столь же исторического типа, ростовщика и откупщика Чалпеллетто (Чеппарелло[121]) из Прато, Боккаччо казнил тех итальянцев или, как их называли, ломбардцев, которые по всей Европе занимались лихвой, навлекая на себя общую ненависть.
Главными носителями шутки, часто непереводимой в своем местном колорите, и шумного, несколько животного веселья, являются художники. Изобилие юмора – признак талантливости: новеллы Саккетги, потешный рассказ о дровянике Грассо, приписываемый Манегги, биографии Вазари полны художнических анекдотов; Джотто пишет мистических мадонн и отпускает не совсем благочестивую остроту насчет изображения св. Иосифа; король Роберт, потешавшийся проделками шута Гоннеллы, любил беседовать с Джотто за его работой, ибо у него всегда бывало припасено какое-нибудь словцо или остроумный ответ. У Боккаччо потешниками являются живописцы Буффальмакко, Бруно и Нелло ди Дино. О школьничествах Буффальмакко рассказывает Саккетти, позднее – Вазари, между прочим, что однажды он написал по заказу мадонну с Спасителем на руках, и когда заказчик не захотел платить, принудил его к тому тем, что заменил Спасителя – медвежонком. В «Декамероне» похождения его и его товарищей слагаются в целый цикл; предметом острот и издевок – два оригинала: художник Каландрино, недалекий, живущий в страхе своей жены, способный поверить всякой небылице, – и болонский доктор Симоне, такой же, как и он, простак, только ученый. Что у них общее – это легко воспламеняющееся самомнение; потешники любуются ими, бережно подходят к объекту анализа, поставят вопрос, поддакнут, где надо, и тайные помыслы Каландрино и Симоне расцветают перед ними во всей их откровенности: Каландрино считает себя неотразимым для женщин, Симоне млеет в сознании своей учености, обаяния и привлекательности. В старые годы авторы фаблио и еще во второй половине XIV века итальянец Матазоне потешались над бесправным вилланом, грубым и придурковатым, грязным и себе на уме; такова точка зрения на обездоленные классы общества и в итальянских Sacre Rappresentazioni[122]; у Боккаччо еще остались следы этого понимания в типах Ферондо, Бентивенья дель Маццо; Пьетро ди Тресанти; в простаках-крестьянах, разевающих рты, слушая о чудесных хождениях брата Чиполлы; но в общем требования поднялись: смех и сатиру вызывает уже не бесправная простота, а бесправное самомнение. Культурного флорентийца коробит самозванный судья-баран, которого привез с собою по дешевой цене подеста, и они в общем присутствии стаскивают с него штаны; в докторе Симоне они, не школьные, но развитые люди, потешаются над патентованным в Болонье ученым худоумием. Потешаются жестоко, как герои фаблио; умственное развитие не обуздало животных инстинктов, а сделало их только ценнее, смех дешев, вызывается балаганной выходкой, как, например, часто в новеллах Саккетги; сознание превосходства не знает меры, шутка получает нередко характер истязания, бесцельного злорадства: это Ренар, издевающийся над глупым волком. Бедный маэстро Симоне угодил в помойную яму, проделка мадонны Беатриче кажется «крайне злохитростной» даже собеседницам «Декамерона», издевки Лидии над мужем, извиняемые страстью, столь же жестоки. Правда, содержание двух последних новелл принадлежит международной бродячей сказке, но их настроение то же, что и в шутках местного происхождения. Еще хуже, когда проказа задумана с целью отместки: удары сыплются на бедняка Бьонделло, а злостный школяр Риньери тешится местью, заманив обманувшую его красавицу на башню, где она день-деньской стоит голая, на солнце, искусанная мухами и слепнями, а он методически отчитывает ее в стиле нареканий на злых жен. Если в новелле о Риньери отразилось действительное озлобление автора против вдовы, которую он казнил в своем «Корбаччио», то перед нами интересный образчик рассказа, в котором биографические, местные элементы выразились в мотивах пришлой повести: именно такая повесть известна; каким бы путем ни зашла она в Италию и до Боккаччо, она встретила здесь сходный уровень общественного чувства и личного настроения и в том и другом отношении дает материал для анализа, независимо от своей захожей схемы.
Рядом с расходившейся животной личностью Симоне – тонкий культ сердца у «благовоспитанного» мессера Федериго Альбериги, жертвующего на угощение своей непреклонной дамы единственным сокровищем, любимым соколом. В этом сюжете, который не раз пересказывали по Боккаччо, и в котором Гете хотел выразить свои отношения к Лили и Карлотте фон Штейн, едва ли есть что-либо буддийское, много средневекового рыцарского, и вместе с тем нечто более изящное и культурное. Те же люди, которые способны были к плотскому смеху и мальчишески-зверской шалости, понимали и поэзию самоотречения; там и здесь самосознание личности находило цели наслаждения. Федериго Альбериги был флорентиец, анекдот о нем идет от почтенного Коппо ди Боргезе Доменики, одного из немногих, к сожалению, исторически засвидетельствованных лиц, которые были живыми источниками Боккаччо. В Неаполе старики Марин Булгаро и Константин Рокка рассказывали ему о Филиппе Катанской; от первого идет, быть может, драматическая повесть об Иоанне из Прочиды, но всего милее был Боккаччо старик Коппо, человек древнего дантовского пошиба, знаток флорентийской старины, живой носитель городских памятей, любивший «рассказывать своим соседям и другим о прошлых делах; а делал он это лучше и связнее и с большой памятью и красноречием, чем то удавалось кому другому», говорит Боккаччо, записавший с его слов новеллу об Альбериги и анекдот о Гвальдраде. Он дорожил дружбой к нему человека, которого зовет в своей записной книжке ревностнейшим гражданином и блюстителем нравов. Рассказанная им легенда о Гвальдраде его характеризует, еще более – новелла Саккетги: будто бы Копло читал однажды Тита Ливия и дочитался до того места, как римские женщины бросились на Капитолий, требуя отмены закона, ограничивавшего их моды. Коппо, хотя человек и мудрый, но вспыльчивый и со странностями, вышел из себя, точно все это случилось у него на глазах; бьет книгой по столу, плещет руками: «Как-то потерпите это вы, римляне, вы, которые не выносили ни царей, ни императоров?» В это время пришли за расчетом работавшие в его доме каменщики. «Убирайтесь вы с богом, во имя дьявола! кричит он, лучше бы мне не родиться, чем знать, что эти бесстыжие распутницы, негодницы побежали на Капитолий отстаивать свои наряды! Что будет с римлянами, когда вот я, Коппо, не могу с этим примириться!» – Рабочие дались диву: что это с ним сталось? Слышат они что-то про Капитолий и забавно коверкают это название, чтобы выжать из него какой-нибудь смысл. Уже не пошалила ли его жена? Он что-то все говорит о распутницах. – На другой день пыл у Коппо прошел, и он рассчитался, как следует.
Интересно в этом анекдоте тесное сплетение классических воспоминаний с злобой дня: оно возможно было лишь в Италии.
III
Мы старались обособить в «Декамероне» новеллы местного, итальянского происхождения, те, достоверность которых автор счел нужным защитить от нападок лиц, тщившихся доказать, что все, им рассказанное, было не так, как сообщил он. Их он и вызывает представить «подлинные рассказы»: «если бы они разногласили с тем, что я пишу, я признал бы их упрек справедливым и постарался бы исправиться; но пока ничто не предъявляется, кроме слов, я оставлю их при их мнении и буду следовать своему». Ту же заботу о достоверности обнаруживает и Фьямметта: приступая к новелле о Каландрино, она спешит оговориться: «если бы я захотела и прежде и теперь отдалиться от действительного факта, я сумела бы и смогла сочинить и рассказать (его) под другими именами».

Все это может относиться лишь к новеллам-анекдотам, новелламбылям, которые рассказывались о действительном лице, хотя бы самые элементы рассказа и принадлежали к числу бродячих. С такими чертами международной сказки нам уже приходилось считаться, но ей же принадлежат и схемы особой группы повестей «Декамерона»: параллели к ним нетрудно указать, несмотря на итальянское приурочение многих из них: из ста новелл восемьдесят семь помещены в Италии, в итальянские исторические отношения. Это первая степень народного усвоения, и виновником его не всегда был Боккаччо. Таким образом, притча о женщинах-гусынях, восходящая, в своем первоисточнике, к повести о Варлааме и Иосафате, рассказана у него о сыне флорентинца Филиппо Бальдуччи, удалившегося для созерцательной жизни на гору Азинайо; сюжет, знакомый по «Цимбелину» Шекспира, разработанный в старофранцузском романе «De la Violette», существующий и в других литературных и сказочных отражениях, – очутился приуроченным к Генуе; повесть о Торелло – сплетение старых легенд о Саладине с схемой о нежданном возвращении мужа – приводит нас в Павию; новелла о Джилетге из Нарбонны (Дек. III, 9) восходит к какому-то утраченному французскому источнику, который знаком был автору Magus saga[123]; Сиена и Флоренция введены в ее кругозор, вероятно, автором «Декамерона»; рассказ о настоятеле в Фьезоле напоминает фаблио о священнике и Alison, другой, с местом действия в Тоскане, фаблио о мельнике и двух клерках, тогда как новелла о Ламбертуччио принадлежит международной сказочной схеме, известной во французской переделке и итальянском пересказе одного анонимного сиенца XIII века, приурочившего его содержание к Ферраре. Мы переведем последнюю повесть дословно, чтобы дать понятие о стиле итальянской добоккаччиевской новеллы.
«Был в Ферраре благородный рыцарь, и была у него очень красивая и родовитая жена, в которую влюбился некий именитый юноша того города. Не находя никакого предлога поговорить с дамой, он залучил к себе одного умного человека, краснобая, пообещав ему много денег, если он сумеет устроить это дело. Предлог он показал такой, что его коню не было места в конюшне, ибо он велел ее перестроить; он и попросил рыцаря поставить коня в свою. Тот краснобай был конюшим; так как он был из других мест, и его здесь не знали, он прикинулся большим простаком. Когда он хорошо освоился в доме у рыцаря, и его считали столь простым, что он получил возможность всюду ходить и бывать с дамой, без всякого подозрения, он, улучив время, стал говорить с ней серьезно, устраивая дело; и так много наговорил он ей в разное время, что уладил все то, для чего там и проживал. Долгое время общаясь с юношей, дама влюбилась одинаково и в слугу за его красные речи, так что однажды, будучи с ним в своей комнате, открыла ему свое желание, и они наслаждались друг с другом, когда молодой человек, проведав, что рыцарь уехал в город, сам отправился к даме и постучался в дверь. Услышав его, дама спрятала слугу за занавес, а сама осталась с молодым человеком. Пока они пребывали таким образом, внезапно вернулся и рыцарь, подошел к комнате и постучался в дверь. Дама мигом сказала молодому человеку: «Обнажи свой нож, отвори комнату будто насильно, и, ни с кем ни говоря ни слова, обнаружь гнев и говори, угрожая: “Пусть меня убьют, если я не убью тебя!” – Как она сказала, так молодой человек и сделал: вышел из комнаты, рыцарь перепугался, а он, все время угрожая, удалился по своим делам, ничего не ответив на вопросы рыцаря. Когда тот вступил в горницу, жена кликнула слугу, бывшего за занавесом, и говорит рыцарю, что тот молодой человек, найдя свою лошадь стреноженной, хотел было за это убить слугу, а он спрятался в ее комнате, и она с трудом его защитила. Так-то она выручила себя по отношению к молодому человеку и слуге и не направила молодого человека за занавес, ибо не желала, чтобы он застал там слугу, так что молодой человек ничего не узнал о слуге, а слуга выгородил молодого человека».

«Изабелла и горшок с базиликом».
Художник – Уильям Хант. 1868 г.
Новелла Боккаччо перенесла все это действие во Флоренцию, обставила его именами и лишь несущественно изменила отношения действующих лиц: Леонетто, отвечающий краснобаюконюшему старого рассказа, любит самостоятельно и не играет роли посредника; рыцарь назван Ламбертуччио, он человек влиятельный, и Изабелла отдается ему против воли, когда он пригрозил ей, что иначе учинит ей позор. Таким образом, казалось бы, удалена непривлекательная подробность, что красавица одновременно дозволяет двоим любить себя, а вместе с тем, в конце новеллы именно эта черта подчеркнута еще резче: когда Леонетто спасся, как конюший старой повести, он «следуя наставлению дамы», в тот же вечер тайно переговорил со своим соперником и так с ним уладился, «что, хотя впоследствии много о том говорили, рыцарь никогда не догадался о шутке, которую сыграла с ним жена».
Принадлежат ли эти изменения Боккаччо, или он уже нашел их в своем источнике, какой-нибудь повести, сходной с новеллой безымянного сиенца? Вот вопрос, который поневоле обобщается, потому что и художественное значение Боккаччо и его нравственная ответственность могут быть вполне оценены лишь при условии точного сравнения того, что им сделано, с тем, что он застал и чем воспользовался. Вопрос об источниках «Декамерона» представляется настоятельным, не праздным любопытством ученого, ибо дело не в повторении готовых повествовательных схем, а в их комбинациях, если они отвечают эстетическим целям, в новом освещении, в материалах анализа, в том почине, который заставляет нас говорить о Боккаччо, как об одном из родоначальников художественного реализма.