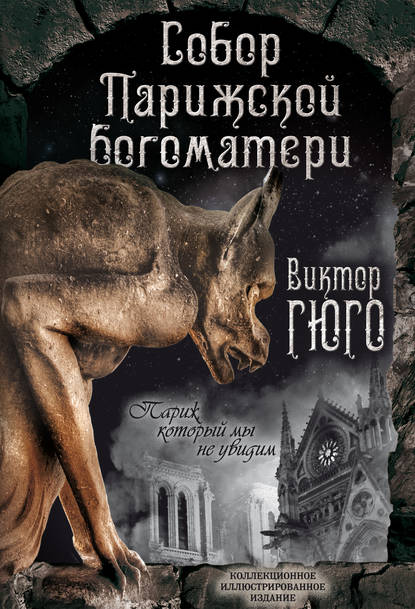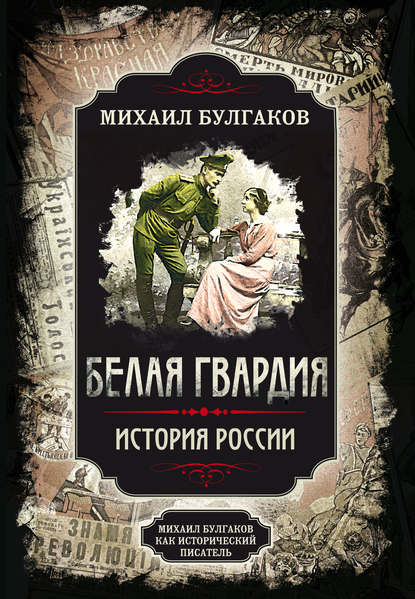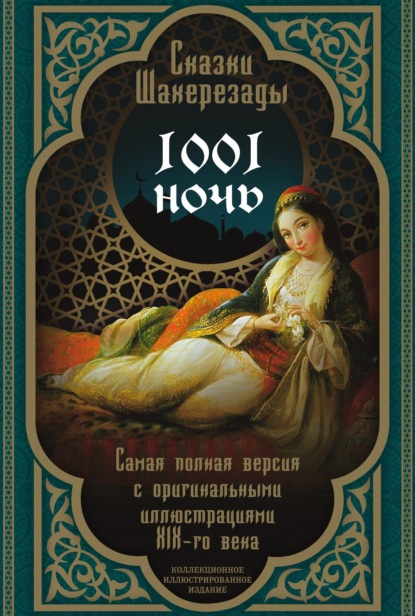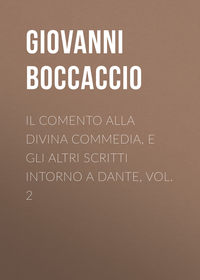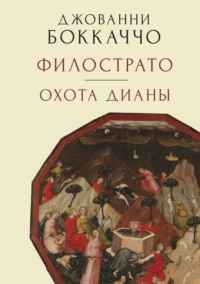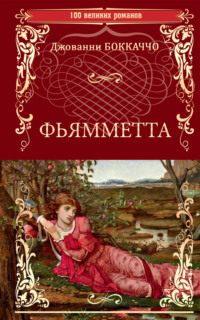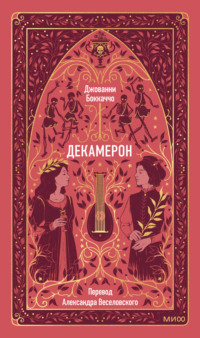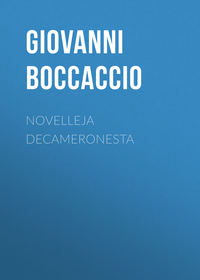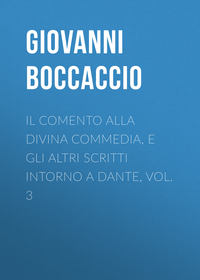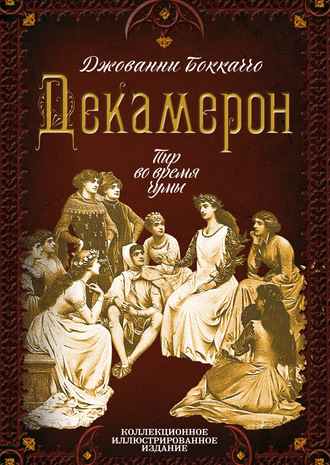 полная версия
полная версияДекамерон. Пир во время чумы
Таков Пульчинелла Черлоне, живым выхваченный из жизни, весельчак и материалист до мельчайшей черты, без тени какого бы то ни было идеалистического освещения, чуждого вообще комедии dell’ arte. Но это Пульчинелла XVIII в.; в XVII его характер понимался иначе: Pier Maria Cecchini (1628) так наставляет актера, который взялся бы за его роль: он должен стараться переходить границы естественности, представлять простака (goffo), недалекого от дурня, и дурака, не в меру желающего показаться умным (Scherillo, с. 9). Иначе у Cortese (1626): о придурковатости нет и речи. Пульчинелла – просто умный, веселый комик. Тип, стало быть, изменялся; если бы мы имели возможность, при помощи фактов, возойти и ранее, мы встретили бы постепенно и другие его эволюции и пришли бы к более грубым очертаниям одного из тех простейших драматических характеров, какие легко представить себе в начале развития всякого народного театра. Едва ли может быть сомнение в том, что этих начал следует искать в латинском элементе итальянского населения, как бы мы ни представляли себе их ближайшие отношения к традиции, например, ателлан. Это построение указало бы нам в истории светской народной драмы перспективу более глухую – ибо она не освещена историей, – но вместе и более далекую, чем та, в которой совершилось в Италии развитие народно-христианской драмы.
Я говорю не о литургической драме, сложившейся внутри церкви в связи с обиходом и латинским языком мессы, а о той народно-религиозной драме, которая является в Италии как непосредственный результат грандиозного покаянного движения XIII в. В 1258 г. Raniero Fasani, одетый в рубище, подпоясанный вервием, с бичом в руке, обходил умбрийские веси, проповедуя словом и делом покаяние. Проповедь подействовала: образовались общества бичующихся (Disciplinati), ходившие по городам и деревням, бичуя себя до крови в воспоминание страстей христовых и призывая господне милосердие. Движение было глубокое, страстно охватившее массу, перешедшее, как известно, и за границы Италии, отразившееся, далеким отголоском, и в новгородском движении стригольников. Все мирское было забыто и оставлено; не слышно было ни музыки, ни любовных песен, пишет падуанский монах, только жалобные песни кающихся. Последние, певшиеся во время процессий, либо в пору «страды» самобичевания, характерны вообще для явления флагеллантства; в Италии они получили название laude, славословий, и только здесь они стали ячейкой, из которой вышла народно-религиозная драма. Вначале, вероятно, laude пелись антифонно: одна группа страдников подхватывала песню, начатую другой, и та продолжала ее в свою очередь и свое время. Эта антифония могла совпадать с чередованием лиц в ходе того евангельского или легендарного воспоминания, которое легло в основу laude. Богородице говорят, что ее сына схватили и подвергают истязаниям; она сообщает о том Магдалине, умоляет Пилата о пощаде, но тот отказывает; она обращается к Христу, который указывает ей на распятие, уже уготованное для него; следуют ее мольбы к кресту, беседа с распятым Спасителем, ее сетования. Таково содержание лауды, озаглавленной «Плач богородицы» (Топаса, см. р. 8–12) и естественно распадающейся на диалогические части. Стоило только разобрать их отдельным лицам, участвовавшим в флагеллантской страде, придать действию более вероятия соответствующим костюмом, указания на которые встречаются в старых инвентариях покаянных братств, и мы придем к той форме, посредствующей между хоровой lauda и развитой религиозной драмой, которая получила название divozione. Оторванная от среды, создавшей ее в беспредельном увлечении религиозной идеей, перенесенная во Флоренцию, в обстановке ее искусства и декоративного блеска, она обратилась в драматическое представление (rappresentazione), отвечавшее более мирным художественным, чем церковным целям. Драма Лоренцо Медичи о святых Иоанне и Павле забыла о своем происхождении из недр того христианско-драматического движения, которым папство успело овладеть лишь отчасти в явлении францисканства и которое выразилось в явлении бичующихся, протестовало в проповедях Савонаролы, в видениях и в вещаниях блаженного Брандана в пору борьбы Сиены с Cosimo de’ Medici. Эти народно-религиозные порывы, нередкие в Италии, повторились и на наших глазах – в истории Лаццаретти и его последователей, которую с таким вниманием к фактам и их психическим посылкам изучил недавно Барцеллотги (там же, с. 31–297). Точно Италия не страна языческого Возрождения, – так всецело переносимся мы к образам и мировоззрению – по ту сторону Данте.
Место действия – глухой, гористый уголок Тосканы, в провинции Гроссето; население – крестьянское, небогатое, но работящее, набожно настроенное, со склонностью к религиозной психопатии. Среди него вырос и пророк новой веры, Давид Лаццаретти, по ремеслу извозчик, родом из Arcidosso: высокий, стройный мужчина, с открытым, широким лбом, живыми, проницательными глазами и черной бородой, спускавшейся на грудь. Необычайно сильный и ловкий, обыкновенно смирный, но становившийся страшным, когда, бывало, расходится, невоздержный в божбе – он по природе был мистик, увлекавшийся и увлекавший других своими видениями; мистик с художественным и практическим пошибом итальянца. В 1848 г., когда ему было всего 13 лет, какой-то таинственный незнакомец предстал ему, предрекая все, что впоследствии с ним приключилось, и запрещая поведать о том кому бы то ни было. Прошло двадцать лет; Давид успел обзавестись семьей; видение, не остановившее его до тех пор на пути житейских соблазнов, повторилось снова, на этот раз с наказом – отправиться в Рим и обо всем рассказать папе, что он и сделал. С тех пор он стал другим человеком. Повинуясь новому откровению свыше, посетившему его во сне, он удалился в Сабинские горы, в пещеру блаженного Амедея, служившую когда-то пристанищем и другому святому, блаженному Леонарду из Porto Maurizio. Здесь он прожил некоторое время, общаясь лишь с соседним пустынником, пруссаком Игнатием Микусом, поселившимся там лет пятнадцать назад, и здесь было ему новое видение, определившее его посланничество. О нем он не раз рассказывал своим: тень закованного в доспехи рыцаря явилась ему, умоляя его вырыть в том месте пещеры, где Давид стоял коленопреклоненный, его кости и предать священной земле. Давид принялся за дело при помощи одного римского священника, свидетеля события, и действительно отрыл кости. После того тот же воин явился ему еще раз, в сообществе богородицы, апостола Петра, архангела Михаила и таинственного незнакомца первого видения, и открыл ему, что он – его предок, Lazzaro Pallavicino из Милана, сорок пять лет каявшийся в этом месте и здесь погребенный. При дворе Льва X в Риме он полюбил дочь графа di Pitigliano, убил, по ее наущению, ее отца и прижил с ней ребенка. Сражаясь за церковь и папу против какого-то французского короля, он попал к нему в плен, но был им пощажен, ибо оказался его прижитым вне брака сыном. К этим романтическим откровениям воина другие лица видения присоединили наставления и пророчества, а апостол Петр наложил на Давида печать ожидающего его подвига, которую с тех пор он всегда носил на лбу: два С, обращенные в разные стороны, с крестом посредине.
Я обращу внимание на внешнюю, декоративную обстановку видения: она отзывается стилем средневековой легенды. Давид знал Данте, читал житие св. Брандана; повлияло на него и сожительство с пустынником Микусом и местная память о другом странном анахорете, Балдазаре Одибере, будто бы бывшем члене конвента, явившемся в 40-х годах на родину Давида и там, среди покаяний и молитв, снискавшем в народе репутацию святого. Но рядом с образами аскетической легенды являются и другие: рыцари, закованные в латы, блестящий двор папы, любовь и тайна происхождения – от «Reali di Francia». Эта торжественная часть обстановки не деланная: она позволяет нам заглянуть в художественные, чисто итальянские вкусы толпы, увлеченной мистическим учением Давида и несомненно увлекшейся фантастическими нарядами и именами его избранников и избранниц в торжественной процессии 1878 г.: тут были и князья-легионарии, начальники крестоносного войска св. Духа, апостолы, священники-пустынножители и «дщери песнопения», все одетые в яркие цвета, с целым лесом белых, желтых, голубых хоругвей, веявших над толпой, когда она спускалась с гор под пение священных песен, сложенных Давидом.
Когда в 1868 г. он вернулся на родину, слава «божьего человека» уже предупредила его; позднее его называли не иначе, как святым. Народ слушал его наставления и чудесные рассказы; нашлись и в местном священстве люди далеко не безграмотные, уверовавшие, что Давид в самом деле сосуд избрания, vas electionis. По его почину и при общем содействии крестьяне построили ему на соседнем Monte Labbro башню и недалеко от нее церковь со скитом: все это вместе слыло под названием нового Сиона, a Monte Labbro перекрестили в Monte Labaro, ибо отсюда должно было явиться знамение («labarum») нового религиозного возрождения. В церкви совершали требы два преданных Давиду священника, и он сам проповедовал народу; в скит собирались к ночи, иногда издалека, проводили время в благочестивой беседе, а с рассветом снова уходили на работу, не чувствуя усталости, точно обновленные. Заметим, что в числе сторонников Давида не было, собственно говоря, пролетариев, а, напротив того, много мелких собственников. Это бросает свет на затеянное и осуществленное им «общество христианских семей», статут которого напечатан в числе других сочинений Давида. Целью общества было способствовать не только духовному и нравственному воспитанию сочленов, но и развить в них привычку к общему труду, как средству поднять состояние земледелия и ремесленного дела. Достояние всех членов считалось общим, и доход распределялся согласно с количеством капитала и труда, внесенным каждым из участвующих. Эти «коммунистические» идеи любопытны в религиозном новаторе. Давид живал во Франции, в Лионе, и можно допустить для этой части его учения влияние посторонних, навеянных идей, но не следует забывать, что уже древнейшие народно-религиозные движения в Италии отличались сходной «социалистической» подкладкой и что в XIV в. папы должны были открыто выступить против крайних учений, объявившихся в среде францисканских «братчиков» (fraticelli), будто Христос и апостолы не имели собственности и обязывают своим примером.
Ту же долю своего и подсказанного необходимо признать и в религиозных воззрениях Давида. Его успех в народе должен был обратить на него внимание клерикальной партии в Италии и Франции, которая готова была воспользоваться случайным орудием для достижения своих целей. Несомненно, что в последних писаниях Лаццаретти чувствуется помощь какой-то посторонней руки, известная богословская рутина, нежданно вторгающаяся в мир видений. Этот мир всецело принадлежит Лаццаретти; он связывает его со средневековыми визионариями и объясняет его влияние на народную массу, еще жившую в их преданиях. Нравственное обновление церкви и церковно-духовной жизни в лоне католичества и под верховным водительством папы – таков идеал Давида. В деле этого обновления и ему суждена видная роль, но грядущим обновителем, дантовским Veltro будет другой: он выйдет из Италии, освободит и объединит латинские, католические народы и, предоставив царское право и достоинство папе, станет править заодно с ним. Италии будет принадлежать почин не только религиозного, но и народно-латинского возрождения: древняя, специально-итальянская идея, которая не раз сказывалась в попытках политических и церковных новшеств. Давид пошел и далее: Греция – такая же классическая страна, как Италия, также вошла в его кругозор и также обновится в союзе с романскими народностями. В видении, бывшем Давиду в 1868 г., какой-то монах взял его за руку и сказал: «Пойдем в Лаций, в страну великих людей».
Но Давид был слишком большой фантаст, чтобы стать послушным орудием в руках какой бы то ни было партии. Клерикалы убедились в его непригодности. Рим, дотоле допускавший его, не только отнял у него поддержку, но и подверг его отлучению, и его церковь на Monte Labbro была закрыта. Давид остался один с толпой, которая продолжала в него веровать и ждать; и то, и другое питало в нем то, что он сам им передал, – уверенность в своем призвании. В этой последней стадии развития он совершенно переходит на точку зрения средневековых «милленариев» и иоахимитов XII-XIII вв.: за ним нет ни Рима, ни папы; он сам тот монах-избавитель, о котором он так долго говорил; период «благодати» кончился на земле; он водворит период «закона и правды»; преемственность пап прекратилась; вместо клика «Да здравствует Римская Церковь», с которым должен был явиться, по прежним пророчествам Давида, ожидаемый избавитель, раздастся другой: «Да здравствует республика, царство Господне!» В заключение «символа», составленного им в эту пору, стоят знаменательные слова: «Веруем твердо, что наставник наш, Давид Лаццаретти, помазанник Божий, осужденный римской курией, есть воистину Христос, вождь и судья, в настоящем образе Господа нашего Иисуса Христа во втором его пришествии на землю».
Далее идти было некуда, оставалось «объявить» себя миру. Как и чем? Лаццаретти едва ли отдавал себе в том отчет, а толпа жаждала откровения, и оно совершилось в той фантастической, бесцельной процессии нового Мессии, о которой сказано было выше. Когда представитель общественной безопасности и синдик в сопровождении нескольких жандармов остановили ее на пути именем закона, Давид отвечал: «Я иду во имя закона правды и судии Христа; если желаете мира, я приношу вам мир, если милость, то милость; если хотите моей крови, то я – перед вами!» И он раскрыл при этом руки. «Да здравствует республика!» – раздалось в народе, когда взволнованный Лаццаретти обратился к нему с какой-то речью; но тут жандармы дали залп, и Давид упал, пораженный в голову. Безоружную толпу обуял ужас, последовали сцены невообразимого смятения; когда дым рассеялся, Давид лежая на земле, окруженный близкими. Они не верили, что он умер, как и до сих пор верят, что он вернется. Барцеллотти посетил, пять лет спустя после события, окрестности Monte Labbro и всюду нашел в кружках, близко стоявших к пророку, и спокойную веру в его посланничество, и надежду на его возврат. «Времена созрели, исполнилась чаша греха, – говорил один старый крестьянин, устремляя глаза куда-то в даль, точно ему одному открытую. – Наказание близко. Он вернется, и мы еще увидим его до смерти».
IV
Я не сравниваю народно-религиозное движение лаццареттистов, ни другие подобные, бывшие и, может быть, возможные в Италии, с тем языческим течением XV–XVI вв., которое вызвало, например, нарекания Эразма Роттердамского на Понтано и защиту последнего Флоридом Сабином. Этому противоречию легко подыскать объяснение: язычество ученого Renaissance, как оно водворилось с половины XIV столетия, держалось на верхах общества, определяя его вкусы и религиозный индифферентизм, который не трудно было принять за безверие; толпа могла жить своими собственными, средневековыми и христианскими интересами. Именно на ученое Возрождение падает вина той литературной и культурной розни, которая сделала литературу и поэзию достоянием немногих, обособив их из общей связи интересов и предоставив народу побираться остатками прошлого и крохами, случайно упавшими со стола богатых.

Декамерон. Художник – Джон Уильям Уотерхаус. 1916 г.
Другое сравнение раскрывает нам действительное противоречие. Религиозное миросозерцание простого итальянца, особливо южного, не раз представляли как шаманизм или фетишизм на почве древних языческих верований, слегка подернутых христианством[106]. Таково, говорят нам, по существу простонародное итальянское, да и вообще романское католичество, тогда как протестантизм – религия преимущественно германская. «Итальянцу не известно с такой полнотой, как жителю севера, чувство крайней зависимости человека от божественного существа, этот главный источник всякого глубокого религиозного движения. Смена времен года, их влияния на горе и радости человека не имеет здесь такого значения, как на севере. То, что мы, немцы, зовем Gemüt[107], – понятие, для которого у романцев недостает соответствующего выражения, – коренится, главным образом, в тесной связи нашей духовной жизни, религиозной, равно как и художественной, с жизнью окружающей нас природы. Итальянец живет в ней более чем мы, но менее с нею. Почти постоянно сея и пожиная в одно и то же время, встречая на том же дереве наливающийся плод и душистый цвет, он не ощущает гнета зимы, погружающей в мертвый сон всю природу, побуждающей человека задуматься над своей бессильной ограниченностью, не знает и чувства радости при появлении весны и лета, все оживляющих и вызывающих чувство благодарности к создателю. Христианские праздники, совпадающие на севере с важными для населения отделами его природной жизни, не имеют для итальянца того же значения; у него нет повода видеть в празднике пасхи символ природы, воскресающей к новой жизни… В христианстве он видит более всего форму, притом по возможности изящную, ибо набожное настроение немыслимо у него без эстетического возбуждения».
Итак, рядом с мистическими увлечениями францисканцев, бичующихся, лаццареттистов – другая народно-религиозная струя, более языческого пошиба, с культом изящного и древних героев и богов, обратившихся в христианские фетиши. На этот раз мы имеем дело с двумя соизмеримыми величинами, ибо там и здесь дело идет о проявлениях народно-религиозного сознания. Откуда их противоречие? Объяснить ли его неровной залежью культурно-латинского элемента, более сильного и устойчивого в известных областях, более слабого и уступчивого в других? Или дозволено говорить о разнообразном влиянии местных условий природы, дающих известный тон и окраску проявлениям религиозной мысли? Мистические порывы св. Франциска и целомудренно строгий колорит умбрийской школы живописи не раз ставили в связь с очертаниями окружавшей природы, вызывавшей те, а не другие настроения. Движение лаццареттистов произошло в таких же условиях пейзажа.
Я поставил эти вопросы, решение которых никогда не выйдет из пределов некоторой вероятности, ввиду книги Тролле, обещающей доказать влияние природы на физику и психику итальянского народа. Именно на эти два отдела распадается книга, приложившая к исследованию итальянской народности антропогеографический метод Ратцеля. Первым поставлен вопрос о влиянии природы на физические свойства народного организма, и собрано множество статистических данных под рубриками: болезни (кретинизм, малярия и т. п.), рост, красота, цвет кожи и глаз, период половой зрелости, число рождений и смертность. В отделе, посвященном психике, автор объясняет веселый характер итальянца теплым климатом, приветливой и разнообразной природой, без особого труда дающей необходимое ограниченному в своих потребностях человеку. К этому объяснению присоединяется и другое, не связанное с вопросом о влиянии природы: древнее преобладание в Италии городских центров над деревней и развитую вследствие того склонность к общественности. Мы, таким образом, зашли в область истории, но снова спускаемся к одному из естественных источников итальянской веселости: употребление преимущественно растительной пищи и вина делает человека остроумнее, подвижнее, богаче фантазией, приятнее в обращении. В этой характеристике итальянца, в его зависимости от овощей и вина, разнообразящейся по провинциям, выдающейся чертой является его развитой субъективизм, самосознание личности и ярко очерченный характер со всеми вытекающими отсюда следствиями: любовью к жизни и малым, относительно, количеством самоубийств, преобладанием преступлений против личности над преступлениями против имущества и т. п. При этом забыто одно обстоятельство: исторический рост личности в Италии, который отмечали друг за другом все, занимавшиеся в последнее время периодом ее Возрождения; обстоятельство, не исключающее воздействия природы, но во всяком случае ограничивающее ее влияние в пользу других, более сложных факторов. То же самое замечание приходится сделать по поводу всего, далее сказанного автором, о религиозном миросозерцании итальянцев, об их искусстве, науке и народной поэзии: всюду раскрывается воздействие природных условий на характер психической производительности народа и не принимается в расчет накопление культурного предания, сделавшего итальянца Возрождения иным человеком, чем его предок два-три столетия назад.
Эта постановка вопроса определяет как точку зрения автора, так и сомнения в приложимости его метода вообще. Сомнения эти он предвидел и довольно ясно формулировал, но не опровергнул, полагая, вероятно, что этой цели ответит сама книга. Автор хочет объяснить нам особенности итальянской психики из влияния природы и географического положения страны, – но ведь та же страна населена была когда-то каннибалами, впоследствии римлянами, столь отличными от итальянцев, что они производят впечатление как бы другой народности: высокоразвитое художественное чутье, политическая неустойчивость, склонность к интриге, хитрость и коварство, способность быстро схватывать и восторгаться, все эти черты скорее сближают итальянцев эпохи Возрождения с эллинами, чем с римлянами[108]. К этому присоединяется еще и следующее: с первых начал римского всемирного владычества и глубоко в Средние века в Италии происходило смешение народностей, приведшее к окончательному изменению ее этнического состава, так что, с точки зрения Ратцеля, мог бы подняться вопрос о влиянии не одной почвы, а многих почв, откуда взялись составные части итальянской национальности. Да и позволено ли вообще говорить о таковой, забывая разнообразие этнологических и географических особенностей?
Отвечая на эти возражения, автор заявляет, что антропогеография имеет дело с проявлениями свободной человеческой воли и необходимо должна отказаться от постановки точных законов, ограничиваясь вероятиями. Задачи, которые история ставит народам, побуждения и способности, которые она им дарует, имеют различное значение, смотря по степени народного развития. К чему служило Англии, четыреста лет тому назад, ее морское положение и неисчерпаемые запасы каменного угля? Теперь, благодаря именно этим двум обстоятельствам, она заняла в истории культуры место, когда-то принадлежавшее Италии, и уже объявился на далеком западе народ, которому суждено со временем, когда история человечества сделается мировой, лишить и Англию ее настоящего положения. Сама природа изменяется под рукой человека и, измененная, различно воздействует на него. В начале римской истории Италия была во многих, важных для народа отношениях не та, что ныне. Исчезли волки, являющиеся в легенде о происхождении Рима; климат был суровее и сырее, атмосферические осадки если не обильнее, то в более ровном распределении в течение года, например на лето; растительность отличалась более северным характером, приближаясь к среднеевропейской. Густые зеленые леса не только покрывали возвышенности, но и спускались к морю, лишь туго уступая перед пахотным полем, и то более на севере, в долине По. Эта область, ныне отличающаяся шелководством и чрезвычайно развитым земледелием, занималась во II в. до Р. X., подобно современной Сербии, разведением свиней, которыми снабжала европейские рынки, а залитая солнцем Лигурия ввозила, по словам Страбона, елей и вино и покрыта была пастбищами и мачтовым лесом. С уменьшением лесов изменился и климат: культура полбы, проса и ячменя сменилась возделыванием пшеницы, которую вытесняют теперь, по крайней мере в северной Италии, маис и рис. Огородничество, разведение плодов и овощей, столь важное для устроения народного быта, развилось лишь во времена Римской империи и далее усовершенствовалось в средние века. Прелестнейшие из плодов, agrumi[109], без которых мы не в состоянии себе представить роскоши южного ландшафта, принесены были из Китая лишь в 1548 г., сто лет спустя после водворения шелковицы. Не во всех отношениях это воздействие человека на природу было плодотворным. Вследствие неразумного уничтожения лесов усилились разливы рек и затопление ими долин и прибрежья при устьях, что умножило центры малярии, издавна существовавшие на широких пространствах, обращенных в пустыню системой римских латифундий и варварством первых веков по падении империи. Одним словом, страна, отвоеванная для культуры римлянами времен республики, должна была воздействовать на них иначе, чем на нынешних ее обитателей, пользующихся приобретениями своих предков и платящихся за их грехи.
Так формулирует автор одно из возражений против своего метода, основанное на необходимости различного влияния природы на последовательность поколений, ее последовательно изменявших. Что касается до изменений, происшедших в этническом составе итальянского населения, то, соглашаясь, что современные итальянцы так же мало потомки римлян, как нынешние немцы – потомки Арминия, Тролле утверждает, что не следует приписывать иноземцам, смешивавшимся с итальянцами, слишком большого влияния на психический тип последних. Всего менее можно допустить его для многочисленных провинциалов, наводнивших Италию в пору империи: волшебные слова: «Civis romanus sum»[110] – преображали их так же быстро в римлян, как нынешние переселенцы по ту сторону океана становятся янки. Большее значение имели позднее лангобарды: если Лео приписывает им коренное обновление итальянского характера, то вернее будет ограничить их влияние физическим обновлением туземного типа, тогда как в других отношениях они сами поддались окружавшей их южной обстановке и через несколько столетий очутились итальянцами.