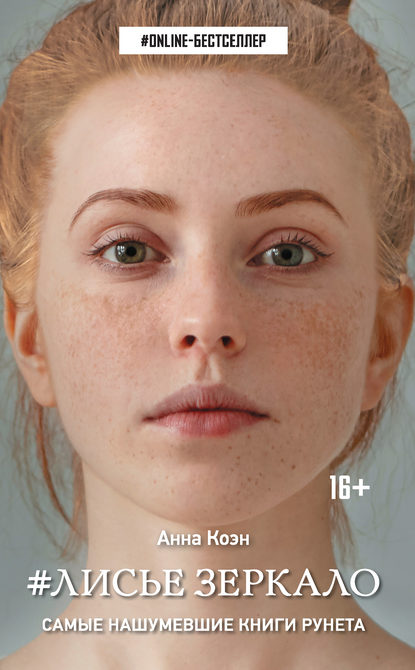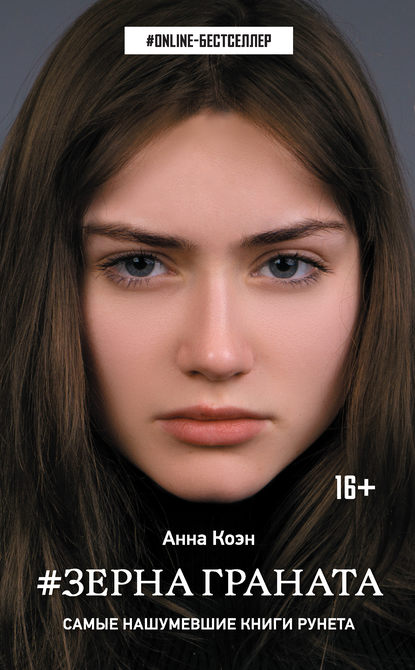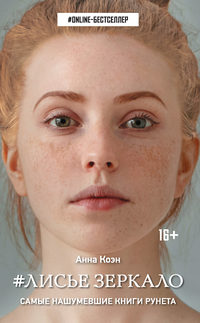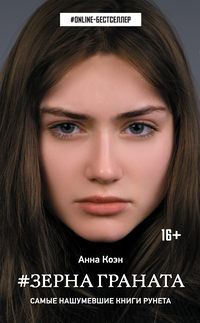Полная версия
Маковый венец
– Я больше не хочу принимать участие в твоих планах, у меня теперь свои. Ребенок останется со мной, я попрошу Агнесс объявить наш с Жоакином союз законным постфактум, как она поступила с его должностью в парламенте.
Эрих кивал каждому ее слову, но Гуннива не позволила себя одурачить.
– А теперь прикажите принести моего сына, Амадея Амберхольда!
– Мейера.
– Что?..
– Доктор предупреждал, что могут пострадать целые отделы мозга, отвечающие за логику. Но месяц-другой при дворе вернут тебя в форму, – Эрих с кряхтением наклонился в сторону, чтобы достать из кармана золотой хронометр. – Ее Величество отпустила меня только затем, чтобы я справился о твоем здоровье и благополучном рождении отпрыска. В скорости мне нужно будет возвращаться. Мальчика и весомое вознаграждение уже передали приемным родителям, чьи имена я, разумеется, тебе не сообщу.
– Нет! Подлец! Какой же вы подлец!
– Сиди смирно, к чему так корчиться, – фыркнул фон Клокке в ответ на ее попытки подняться с кровати. – Ты думаешь, что наша королева всецело к тебе расположена. Что она сможет смыть ту грязь, которая висит на тебе, как репьи. Ха! Едва ты покинула Хёстенбург, чтобы доносить ребенка в родном Аупциге, Совет тут же пристроил к ней трех свеженьких фрейлин. По одной от каждой фракции, представь себе. Среди них есть даже двоюродная сестра нашего милейшего Баккера. Твое влияние, – Эрих наклонился вперед, в его облике не осталось ничего от прежнего доброго дядюшки, – твое влияние тает с каждым днем. Три куколки будут петь в королевские ушки то, чему научат их папеньки и братья. А ты? Положим, она узаконит твоего бастарда. Прекрасно. Но ты думала, чем тогда станешь ты? Ты потеряешь фамилию, утратишь титул, у мальчика тоже его не будет. А ты будешь стареть. Милая мордашка увянет, замуж тебя больше никто не возьмет. Готова ли ты пожертвовать жизнью, полной возможностей, из-за одного единственного животного порыва, а?
Гуннива сидела, спрятав лицо в ладони.
– Нет, нет, нет… – шептала она, уже не понимая, что именно отрицает.
– Сейчас в тебе бушуют инстинкты, ты яришься, будто сука над пометом, и это нормально. Но включи голову, Гуннива, заставь ее работать! – рявкнул фон Клокке. – Дурная повитуха не должна была совать тебе его в руки. Пойми, обретя ребенка, ты потеряешь все! Мы это уже обсуждали. Ты казалась смышленой девочкой, так не разочаровывай меня сейчас.
– Нет, нет…
– Ради себя, моя девочка, ради королевы, ради страны. Мы не можем позволить этим скользким гадам из Парламента, Гильдий и военным манипулировать Агнесс. Ты вернешься и поставишь на место этих кукол. А я устрою для тебя самый выгодный союз. С достойным мужчиной, который не погнушается твоим… прошлым.
– Нет…
– О мальце можешь не тревожиться. – Эрих фон Клокке, видимо, посчитал, что разговор окончен, и вперевалку направился к двери. – Я прослежу, чтобы он ни в чем не нуждался. Так что просто забудь. Сколько там тебе? Двадцать пять?
– Двадцать два.
– Двадцать два… Видишь? Самый сок. Новость о смерти новорожденного придаст тебе трагического флера, королева не устоит. А об этом забудь.
Он ушел, а Гуннива еще долго сидела, раскачиваясь, обхватив себя за плечи. Она не плакала.
Грудь ныла, пачкая рубашку каплями молока. Последнее, о чем Гуннива могла забыть – это причиненное ей зло.
***– Только взгляните на герцогиню Амберхольд! На ней золота даже больше, чем на королеве.
Гуннива не оборачивалась на шелестящие шепотки других фрейлин.
– Говорят, есть мужчины, которые приписывают ей сходство с Фрейей.
– Ну надо же! Должно быть, они имеют в виду способ, которым она платит за свои украшения.
Первая фрейлина только поджала губы в нитку. Придет время, и эти глупые девицы будут ночевать у ее порога, только чтобы добиться аудиенции королевы.
– Я, конечно, могу ошибаться, но эти аметисты похожи на стекло.
А пока она промолчит. Пусть даже вертятся на языке десятки хлестких фраз, которые могли бы заставить всех троих заткнуться. Ничего сложного для понимания: только напомнить, как их прабабки месили коленками навоз под галльскими повстанцами, в то время как ее предки вели вперед войска. Из грязи в князи, так, кажется, говорят? Она еще вернет их в родную грязь.
Фрейлины чинно семенили за Агнесс в зал, где предстояло встретиться с Советом и Захарией Йохансоном. Уже доносились до слуха аккорды, выводимые струнным квартетом и касался обоняния запах роз, украшавших помещение.
Агнесс в густо-фиолетовом платье с алмазным топориком на поясе и с изумрудной диадемой в волосах шла чуть впереди. Осанка безупречна, пудра скрывает нервные пятна на коже.
Их небольшая процессия приблизилась к дверям зала. Церемониймейстер ударил жезлом в пол, и скрипачи заиграли гимн Кантабрии.
Дамы в сопровождении гвардейцев проследовали до трона и заняли каждая свое место. Гуннива встала по правую руку от Агнесс, рядом с ней – кузина Баккера, Амалия, так неосторожно высказавшаяся о ее аметистах. Чем оценивать чужие ожерелья, лучше бы выдернула тот жуткий черный волосок из родинки на шее.
Едва Агнесс опустилась на трон, от группы придворных отделился человек.
Он был стар, но держался прямо, как военный. Вот только Первая фрейлина знала, что военным он не был никогда. Напротив, Захария Йохансон питал к ним глубокую неприязнь, как и к роду Линдбергов. Впрочем, окажись на его месте Гуннива, ноги бы ее не было в этом дворце. Она мысленно подмигнула собственной иронии.
Мужчина передвигался с раздражающим присвистом, который издавала его искусственная нога, сгибавшаяся в колене благодаря каким-то поршням. Но разглядеть эту конструкцию было невозможно: двубортный плащ из серого сукна скрывал уродство. Вся его одежда говорила о том, что он не счел нужным сменить дорожный костюм перед аудиенцией. На лицо первый богач Кантабрии был не так уж и красив, но в его профиле с крупным заостренным носом и тяжелой складкой бровей угадывалось нечто хищное, а оттого по-своему привлекательное. Гуннива искала, но не находила ни малейшего сходства с его сыном Петриком, который теперь держался впереди Совета, выкатив грудь, и светился пламенеющими ушами.
Первая фрейлина дождалась момента, когда молодой премьер-министр Йохансон проследил движение Захарии до протянутой руки королевы, и мастерски поймала его взгляд своим. Петрик тут же отвернулся, и его ребяческое пренебрежение позабавило Гунниву.
– Ваше Величество, – заговорил Захария Йохансон. Голос был немелодичный, низкий и скрипучий, как мебель из рассохшегося дерева. – Для меня великая честь лицезреть вас.
– Это честь и для меня, герр Йохансон, – Агнесс вымученно улыбалась. – Пусть обстоятельства нашей встречи тревожны, я надеюсь, что Корона сможет отблагодарить вас за помощь. Быть может, это позволит нам забыть о старых прениях.
– Не в моих правилах приписывать поступки отцов их детям. Как и наоборот.
Гуннива надеялась разглядеть признаки смущения на обезьяньей мордочке Петрика, но он, напротив, продолжал гордо светиться.
– Насколько нам известно, Олон не обладает морским флотом, который мог бы нам угрожать. Все их судоходство – речное, и служит сугубо мирным целям: рыбной ловле, торговле и путешествиям на большие расстояния, – было заметно, что Агнесс готовилась произнести речь. – Мы же, в свою очередь, располагаем боевыми судами, оснащенными броней и артиллерией. Но необходимость в них может возникнуть, только если война затянется, а это маловероятно.
Гуннива прочла снисходительную усмешку во взгляде Захарии Йохансона. Мужчина завел руки за спину – поза человека, уверенного в собственной неуязвимости.
– Я понимаю, к чему вы клоните, Ваше Величество. Флот, как таковой, вам не нужен, в приоритете сухопутные войска, способные удержать наши границы и оттеснить врага. Очень верное замечание, достойное настоящего стратега.
За каждым словом Агнесс стоял Совет. Настоящий румянец пробился из-под розового напыления на скулах, нижняя губа дрогнула, как у пристыженной девочки. Гунниве хотелось встряхнуть ее и крикнуть, чтобы не гнула шею перед старыми волками и показала, кто правит этой колесницей. А если им это не по нраву, так пусть смажут свои поршни тюленьим салом и возвращаются на острова, чесать овец и тискать селянок с рыбьими глазами! Тушуясь и смущаясь, Агнесс бросала тень на все свое правление.
– Смею вас заверить, что я также осведомлен о возможностях олонской армии, а потому, мой дар Кантабрии – это вовсе не корабли. В данном случае они выполняют роль транспорта для более полезных вещей.
– Каких именно?
– Инженерных новшеств, изобретений, не имеющих аналогов. С ними конфликт разрешится, не успев войти в опасную фазу. Или же будет предотвращен вовсе, если генералы Юэлян успеют ее вразумить. Позвольте, я покажу вам, – с этими словами он подал Агнесс руку жестом, не лишенным грубоватой галантности, и помог ей подняться с трона.
У большого окна, от потолка до пола, уже стоял бинокль на бронзовой треноге, а рядом с ним – огромная линза с отлаженным фокусом, чтобы придворные увидели корабли Йохансона старшего, не заглядывая через плечо Ее Величества.
Члены Совета взяли на себя обязанность предложить оттопыренные локти фрейлинам, будто сами они были не в состоянии пересечь зал и могли заблудиться по дороге. В спутники Гунниве достался мэр Хёстенбурга, герр Вайнхайм, пахнущий табаком и крепким парфюмом, не перебивавшими вонь какой-то болезни. Все зубы у него были из фарфора, ровные, как конная дивизия на параде, глаза слезились, а из ушей лезли посмотреть на мир пучки седых волос. Типичный любитель юных горничных. Гуннива содрогнулась при мысли, что под «достойной партией» дядюшка мог иметь в виду его.
Йохансон-старший оловянной походкой проводил Агнесс к окну и приглашающе повел рукой в сторону горизонта. Вайнхайм и другие придворные мужи замерли на почтительном расстоянии за их спинами.
– Извольте взглянуть, Ваше Величество, – заскрипел Захария, обращаясь к склоненному затылку королевы. – В порт Хёстенбурга вошла дюжина кораблей. На каждом из них помещается около четырех десятков бронированных машин, устойчивых к пулям и другим видам атак. Кавалерия им нипочем, и при правильной эксплуатации они могут даже сравниться с ней в скорости. Обшивка у машин стальная, колеса не увязнут в самой непроходимой грязи, а также они оснащены автоматическим оружием, способным производить дальнобойные выстрелы в различных направлениях благодаря точному прицелу. Для управления подобной машиной необходим экипаж, состоящий только из троих человек. Потребуется специальное обучение, которое мои люди готовы организовать для солдат. Кроме того, нужно отобрать бойцов с отменным здоровьем, не страдающих страхом замкнутых пространств. Машины того стоят. Они выиграют эту войну.
Гуннива не понимала треть слов, сказанных Йохансоном-старшим. Ее знания о мире вокруг, мире мужчин, были скудны, и ограничивались вещами, о которых не принято говорить в обществе. Но, глядя в центр линзы на цепь кораблей, перечеркнувшую морское полотно, она вдруг похолодела, будто могла коснуться тех машин, покрытых стылой патиной соленых брызг.
Сталь бортов, сталь причудливых колесных башен со стальными же стволами, глядящими в сторону Хёстенбурга. Стальной горизонт неотвратимого будущего.
Ветер всколыхнул воздушную тюль и, будто в насмешку, принес запах мазута и металла. Давно смолкли скрипки и виолончели, молчали придворные. Только город и море продолжали гудеть в разнородном ритме, то споря, то приходя к согласию.
Наконец, Агнесс оторвалась от бинокля. Едва заметно покачнулась, оперлась на треногу. Губы совсем белые, глаза – две выпуклых стекляшки. Успокоительная настойка взяла свое. Даже с лихвой.
– И как же… Как вы назвали свои машины, герр Йохансон? Вы ни разу об этом не упомянули.
– Я догадывался, что вы спросите, Ваше Величество. И, по доброй традиции, – он приложил обветренную руку к груди, – я предлагаю это сделать вам.
– Я подумаю над этим. Или этими?
«Плохо, – решила Гуннива. – Пора заканчивать, пока она не начала зевать и нести вздор».
Гуннива сбросила руку прилипчивого Вайнхайма и быстро приблизилась к Агнесс.
– Вы побледнели, – шепнула Первая фрейлина. – Вам необходим отдых, немедленно. Ее Величество будет готова к повторной аудиенции завтра, – отчеканила она, обращаясь к Йохансону и остальным. Придворные что-то забормотали, но она сделала вид, что не слышит ни слова. – Я внесу ваш визит в регламент.
– Пожалуй, ты права, – мечтательно протянула Агнесс. – Все же, я счастлива, что меня окружают преданные люди. Люди, готовые посвятить себя службе Короне и Кантабрии. Даже спустя столько лет…
– Слуги государства бывшими не бывают.
Йохансон коротко поклонился и отошел в сторону.
Гуннива подхватила Агнесс под руку и повлекла ее прочь. Гвардейцы тут же построились для сопровождения, но дорогу девушкам заступила Амалия Баккер. Из голубых глаз чуть ли искры не сыпались от гнева, мочки ушей, оттянутые турмалинами с перепелиное яйцо, побагровели.
– Не слишком ли вы много на себя берете? Самовольно прерываете важнейшую встречу, афишируете состояние здоровья Ее Величества… Слишком экстравагантно даже для такой одиозной фигуры, как вы!
Агнесс навалилась на подставленную руку Гуннивы и улыбалась. Только бы никто не заметил! Нужно внушить королеве осторожность к настойке или отобрать ее вовсе. Чуть не случился конфуз, грозящий перерасти в скандал.
– Каждый служит Кантабрии по мере своих способностей, – герцогиня Амберхольд больше не сдерживала неприязнь. Ее поле битвы было здесь. – Кто-то, к примеру, печет хлеб и пасет гусей. Кто-то стреляет, а кто-то выносит ночные вазы. Кто-то может заботиться о королеве, а кто-то только вышивать знамена. И я прослежу… О, поверьте, лично прослежу, чтобы никто не перепутал ролей!
– Кентавры! – вдруг воскликнула Агнесс. – Эти машины словно союз кантабрийского коня и человека, солдата. Они будут называться «Кентаврами»!
– Как пожелаете, Ваше Величество, – вздохнула Гуннива и поспешила увести ее прочь.
Глава 4. Узник надежды
Твои серебряные глаза смотрят печально. Отчего, любимый? Теперь все станет простым и правильным. Расправится, выправится, и направление, что ты выбрал для нас, окажется самым верным. Я в это верю.
Не одни, но вдвоем. Ближе, чем когда-либо. Я – часть твоя, а ты – моя, и тоска твоя душит моих птиц, как тесная клеть. Так как растопить мне этот стылый взгляд?
Не лги, не лукавь. Никто так не ценит искренности, как олонские кисэн, обученные искусству девяти голосов.
Я могла бы станцевать для тебя ветер и течение ручья, и мне вовсе не нужен веер, чтобы оттенить переливы движений. Может, хочешь стихов? О героях и любовниках, о цветах и грозах. Я умею складывать их на трех языках и пяти наречиях. Я могу выложить твой образ песчинками на полу, и ты будешь смотреться в него, как в зеркало.
Но, постой, я знаю. Знаю, что будоражит тебя сильнее всего, что заставляет кровь бежать по венам с неукротимой силой и наполняет жаждой жить. Жить и видеть…
Я расскажу тебе историю. Настоящую, придуманную лишь отчасти, ведь историй, полностью лишенных искры фантазии, не существует.
Историю о народе, который так хотел переменить лицо, что срезал кожу с другого и примерил ее на себя.
Золотое Ханство было огромным, но оно пережило свой расцвет, и его раздирали на части сыновья Хана и их приближенные. Ханство стало слабым, а Старая империя не прощала слабости. Их император разжигал смуту среди воинов Хана. Он называл себя Сыном Небес, и многие воины пожелали встать под его стягами. Император отсек Золотому Княжеству ноги. Тело Золотого Ханства распалось на куски и стало отдельными государствами. Руки отделились от тела и потянулись к морям. Осталась одна голова. Хан не хотел терять головы.
Он решил оборвать все связи с Империей, чтобы ее Небеса не были властны над его народом. Он разослал послов в разные страны, чтобы они нашли лучшую из них. Несколько лет скитались гонцы от северных морей до восточных, но вернулся только один. Он рассказал Хану о стране Чосон, далекой и прекрасной. Тогда Хан отправил в Чосон войско. Они вернулись через год, сопровождая караваны, полные пленников. Там были ученые, поэты, музыканты, доктора и три сотни красивейших женщин. Воины сказали, что больше половины пленников погибло в пути.
Трижды три раза Хан отправлял солдат за новыми и новыми пленниками. Мужчин он заставил научить себя и своих приближенных их языку, вере и способу одеваться, а женщин раздавал в жены лучшим воинам, чтобы они дали начало новому народу. Через сто лет уже никто не говорил на языке Золотого Ханства, и превратилось оно в Оолонг, страну Черного Дракона.
Семь веков минуло, восемь династий взошло на престол и сгинуло. Черный Дракон хребтом ограждает своих детей от Старой Империи на Востоке. А глаза его, когти и зубы обращены к Западу.
***– Вы, кантабрийцы, вечно будто кол проглотили, и он вот-вот через зад вывалится, – лавочник заложил большие пальцы за подтяжки, вышитые зелеными нитками, и подмигнул так, что вся физиономия собралась пучком веселых морщин. – Но после пары стаканов ржавого вина сразу становитесь похожи на людей. Уж я-то вашего брата повидал довольно, дружище герр. Знаю, о чем говорю! Возьмете бутылочку?
Юстас выдавил убогое подобие улыбки.
– Все так, мы люди сдержанные. Но после ваших знаменитых вин привычки отходят на задний план, – он развел руками, изображая смущение. – И часто кантабрийцы останавливаются в Суме?
Мужчина покосился лукаво и принялся рыться под прилавком.
– Ну-у, – протянул он, – В последние лет пять поменьше, а раньше вечно разъезжали. Студенты были, путешественники, мотались из феода в феод, кутили. Еще ученые в наши пещеры наведывались и на озеро. Шарили по осоке, лягушек пугали, все измеряли что-то. А теперь больше проездом в Борджию или в Александрию, по делам. Вы ведь сами из этих?
– Из этих, да.
Юстас хотел прекратить разговор, но не слишком грубо. Еще не хватало, чтобы лавочник запомнил неприметного кантабрийца, задержавшегося в их захолустье.
Лавочник продолжал болтать, выкладывая на стол консервы с тушеным мясом, мешочки с крупой, солью и кофе. Чая у него не водилось. Он расписывал красоты родной Сумы и настойчиво рекомендовал забегаловки, принадлежавшие, надо думать, его друзьям.
– А как зайдете к Ратке, затребуйте у нее суп из белых грибков в хлебной миске, на жирных сливочках, – мужчина по-кошачьи зажмурился. Желудок Юстаса откликнулся подвыванием. – И можжевеловки! Да, холодненькой можжевеловки. Меня добром помянете.
Не время гулять по харчевням, как бы вкусно там ни кормили. Настроение упало еще на несколько градусов.
– Премного благодарен за рекомендации. Сколько я вам должен?
– А винца? Ржавого, а? Такого больше нигде нет.
– Давайте уже.
– Пятнадцать толаров.
Юстас скрипнул зубами, но отсчитал монеты с изображением козлиной головы. Не стоит препираться из-за грабительской цены, не стоит привлекать к себе внимания. Он всего лишь простак-путешественник.
Андерсен распрощался с лавочником и вышел на улицу. Холщовая сумка с припасами оттягивала руку, и он забросил ее на спину. Нужно было найти телегу, которая отвезла бы его до хижины на озере.
Юстас шел мимо аптеки и скобяной лавки, мимо мастерской стеклодува и кузни, коптившей воздух прямо в центре Сумы. Навоз и сено ровным слоем покрывали дорогу, носились босые дети. Захолустье.
Они могли бы остановиться в столице этого феода, в Церкеше, и отправиться в Борджию оттуда. Но город с первого взгляда не понравился Юстасу, да и Пхе Кён тоже: людно, громко, много стражи, много глаз. И очень похоже на Хёстенбург. Андерсен не мог отделаться от ощущения, что по ошибке попал обратно в Кантабрию. Поэтому он спешно обналичил вексель из кошелька герцога, обменял часть денег на толары, и они последовали дальше, вглубь Адриславы, поближе к границе.
В Суме, названной в честь огромной пещеры неподалеку от городка, были широкие улицы, а дома строились не выше двух этажей. Через Суму ходили поезда, и можно было отправить телеграмму.
Он с трудом удержался от того, чтобы снова заглянуть на местный телеграф – крохотный и жалкий, как курятник старой вдовы – и справиться, не приходил ли ответ на имя Магнуса Берча. Пришлось использовать это имя, ведь других документов у него не было.
Но он уже заходил туда утром, и ответа не было. Юстас не хотел, чтобы краснощекая телеграфистка с косой, уложенной вокруг безмятежного лба, имела малейший повод рассказать товаркам и соседкам о чужеземце, с нетерпением ждущем послания.
Юстас не желал, чтобы его лицо помнил хоть кто-то, когда армия Юэлян проломит границу этого феода.
Неподалеку от станции, где можно было нанять возницу, он приметил торговца слоеными булочками. Аромат выпечки разносился далеко по улице, перебивая запахи навоза, гари и теплой свиной крови. Юстас тут же подумал о Пхе Кён, и о том, что хорошо бы порадовать ее сладким, раз уж ему не удалось раздобыть чая. Но он отказался и от этой идеи – чем меньше людей будет видеть его вблизи, тем лучше.
Консервные банки в мешке колотили по почкам. Андерсен ускорил шаг.
Снова беглец. Вечный беглец.
Перебросившись парой слов с хозяином телеги, он договорился на трех толарах и забрался в кузов, на груду подгнившего сена. Возница настойчиво приглашал сесть на козлы и поболтать, но Юстас сделал вид, что не понимает языка. Он сбросил мешок с припасами и лег на спину. Небо со скрипом покачнулось, заскользило следом.
В сене спала пятнистая собачонка с острыми ушами – беспородная, из тех, что так и не вырастают в грозных охранников. Она внимательно осмотрела чужака, сочла его запах приемлемым и устроилась рядом с Андерсеном, спрятав нос в сухих травинках.
Селянин затянул песню:
Матеж из дому ушел,
Чив-чив-чив, фить-фить-фить,
Лишь беду на горб нашел,
Чив-чив-чив, фить-фить-фить,
Мамка будет слезы лить,
Фить-фить-фить, чив-чив-чив,
В острог пироги носить,
Фить-фить-фить, чив-чив-чив.
Во втором куплете у Матежа удавилась невеста, в третьем помер от горячки отец, в восьмом Матежа снова посадили в тюрьму. Исполнителю вторили то птицы, то кошки, то коровы. Кажется, подпевали даже рыбы. На двенадцатом куплете, описывающем похороны мятежного Матежа, так неудачно ушедшего из дому, Юстасу стало совсем тошно. Собачонка высунула лисью морду из сена и пронзительно завыла, будто ей прищемили лапу.
– Во сыро-ой земле-е!.. – вывел последнюю строку возница. – Приехали, господин!
Андерсен неуклюже выбрался из короба, расплатился и зашагал прочь. Телега тут же покатилась дальше, подскакивая на колдобинах и камнях. Селянин завел новую песню, такую же убийственно унылую.
Перед Юстасом раскинулась гладь озера, того самого, которое изучали в свое время его соотечественники. Отражение побегов осоки и рогоза будто уходило в глубину, вода сливалась с небесной лазурью. Оптический эффект стирал горизонт. Андерсен стоял, смотрел и вдыхал густой запах тины. Он никак не мог понять, как такой большой водоем мог не оказаться на географических картах феодов, которые он видел в Академии? И если это озеро с его зеркальным простором было невидимым на карте мира, каким ничтожным был он сам? Меньше микроба.
Юстас поправил лямку вещевого мешка и свернул с дороги на узкую тропинку, ведущую к озеру. Вскоре он увидел рыбацкую хижину и фигурку Пхе Кён на пирсе.
Кисэн сидела, свесив ноги до самой воды, и кормила уток. Край ее канареечно-желтого платья темнел влагой, черная коса змеилась по плечу. Наряд был чересчур ярким для жизни в бегах, но тогда, в магазине готового платья в Церкеше, он не смог отказать девушке. Так Пхе Кён впервые за долгие годы надела что-то не синее и не голубое. Суеверный ужас, смешанный с восторгом – Андерсен хотел запомнить то выражение навсегда.
Переводчица заметила его издали, отряхнула ладони от крошек и поднялась навстречу.
Комнатная птичка, что ты забыла в чужой стране?
Пхе Кён подхватила пустое ведро за веревочную ручку и засеменила к дверям хижины. Они встретились на пороге.
На ее вопросительный взгляд Юстас покачал головой. Кён тут же сникла.
Ожидание ответа от его родителей было единственной причиной их задержки в Суме. Андерсен составил краткое послание, адресованное в магазин письменных принадлежностей отца, чтобы предупредить его об угрозе, движущейся с востока. Он просил его увезти мать и Яна из страны. Все, чего Юстас хотел – это убедиться в том, что послание дошло до его семьи и получить односложный ответ.
Каждый день они подвергали себя опасности, оставаясь на территории феодов. Но Юстас не мог перестать надеяться.
– Два дня, – он взял белую ладонь Пхе Кён в свою. – Еще два дня, и мы сядем на поезд. Даю слово.