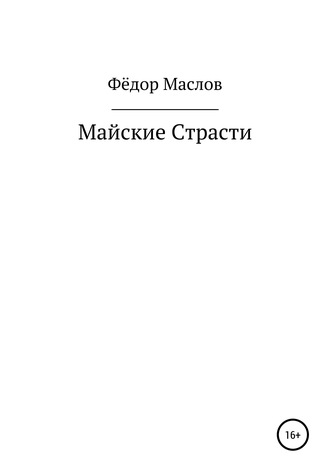 полная версия
полная версияМайские страсти
Оксана искоса-исподлобья глядела на родственницу глазами негритянки и всё сильнее сжимала губы. Так на инвалидов смотрит злые люди, проклинающие бога, как единственный источник бед этих несчастных калек. Казалось, Оксана вот-вот прыгнет, сожмёт кулаки и закричит на весь мир: «Чтоб тебе там плохо было! Ненавижу!»
Но она со всей силы обхватила мощными ладонями головку Алины, плача без слёз, поцеловала в щёку Искупникову и со злостью добра прижала вскрикнувшую от страха девушку к похолодевшей груди.
Оксана просидела в забвении полминуты. Алины пыталась что-то сказать и с неженским трудом сумела оторвать голову от заполнившейся лаской сердца груди Искупниковой.
Глава 3. Может ли несчастье или страдание быть причиной счастья?
Когда Андрей вернулся от Клинкина, отец лежал на диване в зале и читал газету. Он спросил сына про самочувствие и, удовлетворившись его ответом, включил телевизор.
Андрей пошёл в спальню. Было почти двенадцать. От Клинкина он побрёл к Ленинскому мосту, где, гоняясь за тенью ностальгии, вспоминал прошлый вечер и о чём-то мельком думал.
В двенадцать часов ему должна была позвонить Алина. Ещё за два дня до Дня Победы они договорились об этом Он был в романтическом предвкушении и ждал предстоящего разговора с глубокой тревогой. Яськов боялся, что Искупникова могла изобрести новый тон поведения, который способен был сдвинуть настроение Андрея в сторону от его прежних ощущений.
Яськов опасался, что эта беседа могла стать окончательным и неожиданным разрывом отношений с Алиной. Он пугался даже не самого разрыва, а тяжести той минуты, когда он произойдёт,– так порой боятся не смерти, а ада.
Яськов опасался гибели двух только что осознавших жизнь созданий. Он пугался не насмешек со стороны Дмитрия, а той боли, которая могла хлынуть на Искупникову и на самого Яськова,– так порой боятся не ада, а смерти.
За несколько мгновений до двенадцать часов Андрей ощущал ножевую необходимость поиска. Он чувствовал себя настолько счастливым, что считал эту благодать незаслуженной и пытался найти в прошлом груз какого-нибудь мучения или согрешения, чтобы считать нахлынувшее счастье реальным. Ему почему-то нужна была тягость душевная для того, чтобы ощущать эта счастье в частности и счастье в целом вполне.
Яськов вдруг, неожиданно для себя, начал чувствовал прохладу свободы сердца. Он даже не наслаждался счастьем, а планировал, как его сохранить.
Настало двенадцать часов, звонка не было. Андрей со сладостной хитрецой самоудовлетворения улыбнулся.
Алина позвонила в пять минут первого.
– Привет,– уже давно изучив её финты, он, притворяясь, радостно сказал в трубку, как говорят люди, дождавшиеся чего-то желанного после многочасовых мучений.
– Привет. Ждал?
– Мы же договорились… об университете нашем поговорить…
– Вот и хорошо, умник… домашнее задание на выходные, что ли, тебе продиктовать? Я ходила с Оксаной по магазинам и очень устала. Она, вроде, тоже.
Сквозь расстояние её голос лился так же звонко и чисто, как если бы она говорила в двух метрах от Андрея. Привычно бархатистые и быстрые нотки выдавали желание Искупниковой спрятать какое-то нежелательное движение её души. Голос Алины, вкупе с растягивающимися интонациями наивной двоешницы-девятиклассницы, по-прежнему играл с мелодией нежной, тонкой, писклявой, чисто девической хрипотцы. Но Андрею удалось схватить новую её струнку: струнку боязливой дерзости, которая придавала голосу Алины летящую, однако, временами прерывающую свой полёт, шелковистость кокетства, заслонявшего, как и обычно это бывает у молоденьки девушек, до чрезвычайности страстное смущение.
– Отчего же она устала?– спросил Андрей.
– Ну конечно, не только от магазинов,– ответила Искупникова клубным голосом,– тем, в котором небрежность от заботы челюстей о жевачке перемешивается с тонкими, мягкими, воздушными, мечтательно-зовущими мотивами заигрывания.
– А отчего?
– Да у неё дома проблемы. Там такие ситуации… с Ромой. Ой, долго рассказывать… Она не знает, в общем, что делать. А мне ей помочь трудно.
Если бы голос Алины принадлежал великой певицы современности, все бы молились на него, как молятся на что-то святое и бессмертное. Есть в таких голосах нечто безумно смешное, гладко-писклявое, нечто кукольное, ненастоящее, детское, что так неотвратимо действует на рассудок самых адекватных тунеядцев и прохвостов.
– Она хоть его любит?
– Да как сказать… Она по-особенному к нему относится. У них нет ни кошки дома, ни собаки… Она, мне кажется, к нему, ха-ха, как к домашнему питомцу относится… но любит всей душой. Эта странная душа. Она его любит слабовато, но на полную катушку своей души. Сильней она не может… Эта её любовь – максимальная. Так что, он может быть доволен.
– Ну теперь всё ясно.
– А ведь я тебя спасла.
– От своих собственных догадок?
– Т же всё знаешь, зачем тогда спрашиваешь?
– Хотелось тебя спасти.
– А вот сейчас, прикрой рот, друг мой.
– Ты злишься сейчас?
– Да.
– Я тебе надоел?..
– Я сейчас недовольна тобой, потому что недовольна собой. Мне не нужно было бы с Оксанки начинать. С ней всегда лучше заканчивать. Так уж она устроена. Это очень странная душа.
– Как ты?
– Как и я!– закричала в трубку Алина.
Тут Андрей поймал одно рассуждение, которое больно пробежало по его сердцу. Он слишком хорошо знал Алину, и она это знала. Искупникова никогда бы не приняла такое над ней превосходство, потому что она настолько глубоко не могла проникнуть в мир Андрея. Он понял, что будь они вместе тогда, Алина стала бы его унижать за свои унижения, так как она считала, что он её оскорблял, хотя и невольно, показывая своё прозрение её чувств. Это что-то вроде усиленной жажды унижения в любви. Ему представилось, что несчастье сближения с Алиной было способно воздвигнуть самое прочное счастье, возможно, даже женитьбы на Исупниковой. Ловя себя на парадоксе (несчастье из-за Алины есть предтеча счастья с ней или это ловкая, подлая изворотливость его рассудка?) Яськов восхищался, удивлялся и пугался того, что ему виделось впереди.
– Слушай!– сказал он.– Впереди у нас… у тебя огромное пространство. У тебя огромное будущее. Из-за твоей души.
– Но и она сама немаленькая… но всё же… Как мне справиться с этим будущим!..
– Да, оно громадное. Да, море кажется необъятным, когда стоишь на берегу… но оно у твоих ног… и волнуется, и играет перед тобой. А ты стоишь… Оно у тебя, а не ты у него. А в ночи оно видно, когда его освещает луна…
– Мы сейчас с тобой поругаемся. Я не сто̀ю.
– Тебе так кажется… а мы потом помиримся.
– наверное.
– И хорошо. После ссоры дружба всегда крепче, чем до…
– Чем до драки. Да, это так… дружба… хороша…
– Да.
– Ну да…
– Да уж…
– Уж да…
– Ага. Ты что сейчас делать будешь?
– Я так уже устала. Тебе открылась, а раньше Оксанке… и устала из-за этого… Ты не смеёшься на де ней?
– Над Оксанкой?..
– Да нет, дурак… Над моей душой…
–Ты серьёзно?.. Над душой смеётся только тот, у кого её нет. А я, надеюсь, что она у меня есть.
– А как ты то собираешься понять?..
– Я… я …я не знаю. Мне трудно сказать… Я так потерялся в последнее время… как тебе объяснить… не хочу, чтобы ты что-то думала… но мне кажется, что я чувствую, что у меня есть душа только тогда, когда я нахожусь рядом с тобой. Во всё другое время я какой-то пустой и злой. Мне тогда кажется, что вообще ничего во мне нет. Как тебе это объяснить… Я ведь и злюсь иногда на тебя… А всё равно…
– Вот ты всё говоришь, говоришь, а ничего сказать не можешь. То есть душа, то нет… Ты борешься с чем-то и не хочешь побороть… Так и будешь дурачком ходить. Я не говорю, что это плохо, но такие дурачки всегда помогают другим, отдавая им всё своё, а сами с носом остаются. Ты всё мечешься, и меня это бесит.
– Я так и знал, что это плохо кончится. Не надо было…
– Нет, надо было!
– Злишься, да?
– Нет… Не злюсь.
– Тогда хочешь злиться.
– Да ни то, ни другое, олень. Необязательно, чтобы было всё в чёрном или белом. Как ты меня сейчас не понял! А какие чувства у тебя были перед этим! Ты не понял! Знаешь, почему ты стал глупеть? Потому что ты стал счастлив!
– Да. Я себя чувствовал счастливым.
– Да ты и сейчас счастлив, только чуть слабее. Но это на время. На короткое время. До вечера.
– До вечера.
– Да я не прощаюсь ещё, глупый. Ещё рано. Я не сказала, что ты можешь ещё сильней поглупеть. Вот сейчас до вечера!
– Ты точно придёшь?
– Мы же договорились со всеми.
– Ладно.
– До вечера.
– Пока…
Искупникова отключила телефон до того, как Андрей успел договорить.
Яськов тревожно начал ходить по комнате. Он и угадал, и не угадал те мелодии, которые пыталась привить ему Алина. Андрей находился в неожиданном восторге: он не думал, что Искупникова может быть для него загадкой. А она таковой вдруг оказалась.
Её мистическая, страшная закрытость в совокупности с тем чувством любовным, которое появляется после ненадуманной неуверенности в ответной любви, рисовали на лице Яськова сладкую улыбку. Так улыбаются или девятиклассники, или самые опытные, изощрённые ловеласы.
Яськов, словно слышал, как счастье чмокнуло его в сердце и разлетелось по комнате, радостно кружась. Или пугая взмахом тревожных крыльев? Этого Андрей не мог понять.
Он уже предчувствовал, как вскоре что-то тёмное проберётся в его душу, пронзит её насквозь. И тут же ему начало казаться, что глаза матери смотрят на него изо всех углов комнаты. Он вновь ощутил, что чем плотнее его душа прижималась к душе Алины, тем он хуже помнил образ Ольги Николаевны; он вновь ощутил, что чем ближе был к Искупниквой, тем дальше – от Ольги Николаевны.
Чтобы забыть об этом грузе, Андрей пошёл в зал к отцу. Тот дремал.
– Поговорил?– отец услышал, как сын входил в зал.
– Ну да,– сказал Андрей, садясь рядом с ним на диван.
– И как?
– Что «как»?– спросил Ясков, отгоняя от себя постороннюю мысль.
– Учёба.
– Какая учёба?
– Ну ваша, не моя же.
– А… Ах, учёба. Вроде хорошо.
– Ну и отлично. Хорошая она девчонка, Алинка.
– Вот и женись на ней, если она хорошая. Что ты мне-то об это говоришь!– Андрей повернулся к отцу и со злой улыбкой смотрел в его сонные глаза.
– Ну ты это… не психуй. Тебе же жениться надо. Я же не говорю, что именно на ней.
– А на ком?– так же зло улыбался Андрей.
– Я не знаю… Ещё не думал.
– А ты подумай.
– Не знаю.
– Может, на Алинке.
– Точно,– вскинулся Кирилл Егорович.– Она повзрослеет, ты не переживай. И брат у неё, в общем-то, порядочный… Уважают его в городе. И учитесь вы опять же вместе. Сколько плюсов разом! Всё… решено. Женю я вас!
– Ты, что, смеёшься?
– Нет, это я от счастья разразился.
– Понимаешь, отец… Есть одна проблема у нас с Алинкой. Эта проблема – её сестра.
– А что такое?..
– Настя…
– Да я знаю, как её зовут,– у Кирилла Егоровича вспотели ладони, он нервно потёр руки.– А что с ней не так?..
– В том-то и дело, что с ней всё так. Она лучше. Она красивей.
– Ну… Ну… так… так… А вот в чём дело. И у неё брат тоже хороший, ха-ха-ха. А она правда… Как? «Красивей», ты сказал? Ну поприятней, это уж точно. А то эта… как попрыгушка… всё прыгает и рожи строит. Нет… Настька точно лучше. Она мне больше нравится. И волосы у неё светлые.
– Ах, отец,– судорога боли исказило лицо Андрея, он встал с дивана.– Как так?
– Что? Что?
– Ведь… тебе же по боку.
– Ты чего?
– Лишь бы самому успокоиться. Лишь бы устранить… и спокойно страдать здесь в зале с телевизором… чтоб никто не мешал.
– Сынок, зря ты так! Это не так.
– Да ладно, па, всё хорошо,– крикнул Андрей уже и из своей спальни.
Яськов слышал, что отец выключил телевизор и медленно, тяжело ходил по комнате. Андрею казалось, что он больше никогда ни о чём, тем более о нравственном, не заговорит с Кириллом Егоровичем. Грязная, стыдливая злость раскрасила в чёрный цвет сердце сына. Оно, как будто, замерло в ожидании чего-то страшного. Но то, что отец выключил телевизор и, видимо, о чём-то тяжело думал, воскресило Яськова, и он уже был готов простить всё из-за того, что сделана попытка, хотя и не обещавшая непременного успеха; он был готов из-за того полусчастья (скорее полусчастья, чем полунесчастья), которое давало ему сознание святости обязательной ответной попытки или даже сознания её почти полного неуспеха.
Он подождал минут пять, вспомнил, усмехнувшись, Алину и опять пошёл в зал.
Кирилл Егорович стоял посреди комнаты, заложив руки за спину и опустив голову, как памятник задумчивого отчаяния. Он слышал, что сзади тяжело дышал сын. Но не поворачивался к нему, словно желая, чтобы тот пропитался духом серьёзности, летавшем по залу; чтобы он наверняка понял, что отец о чём-то напряжённо размышляет.
– Ладно,-вскрикнул Андрей.– Я был не прав.
– Нет, нет…– Кирилл Егорович быстро повернулся к сыну, выставляя руку вперёд.– Не торопись. Ты, может быть, и прав был.
– Давай… замнём и поговорим о чём-нибудь другом.
– Ах… вот ты как!..
– Ага.
– Вот и хорошо. А то… что же мы… как враги каки-то.
– Как твой… отпуск?
– Лучше меня, ха-ха-ха. Хорошо всё… Отдохну и опять.
– Да…– задумался Андрей и почесал верхнюю губу.– Опять. Всё опять… Ну… так.. что же… Отдохнул ты нормально?
– Да… Но не до конца. Мне ещё четыре дня. Так что я по полной.
– Да,– вернулся в прежнюю задумчивость Андрей.– По полной…
– А как… вы вчера отдохнули? И Алинка была?
– И Алинка была.
– И ты был на площади?
– И я был на площади.
– Вы бы и сегодня погуляли… а что?.. Погода хорошая. Завтра выходной.
– И сегодня погуляем.
– Много вас будет?
– Много.
– Хорошо…
– Ладно, отец, пойду я отдохну… чтобы погулять получше.
– Давай, давай.
Андрей почти дошёл до спальни, когда услышал сердито-взволнованный, точно злой на самого себя, голос Кирилла Егоровича:
– Постой. Вернись ко мне.
– Чего?– растерянно спросил Яськов, заглядывая в зал.
– А Димка-то что, я забыл?
– Что ты забыл?
– Он-то что?
– Когда как…
– Я помню, ты мне говорил, что он…
– Всё нормально у него… Работает.
– А-а,– словно с упрёком, а на самом деле со злобой протянул отец.– А с Алинкой он дружит?. Ну да ладно… Как работает?
– Не знаю… У него не я начальник.
– Ясно,– с удвоенной злостью махнул рукой Кирилл Егорович.
– Я не понимаю, а чем ты недоволен?
– Да так… ничем,– ещё больше рассердился отец и вздохнул с нервной хрипотцой последнего отчаяния.
– Я переговорю с ним сегодня вечером.
– Только действительно… по-взрослому переговори,– Кирилл Егорович, заблестев глазами, приподнялся с дивана.
– Хорошо.
Андрей ушёл к себе.
Кирилл Егорович опустил голову на подушку и закрыл глаза. Он так возбудился из-за появившейся возможности выспаться, что так и не смог уснуть в тот день.
Андрей в жесточайшей тоске одиночества вспомнил о матери. Её образ, словно тяжёлым, свинцовым облаком пролетел над его головой. Яськову было и стыдно плакать, и стыдно не плакать. От горя и усталости он рухнул на постель, уснув грузным, мистическим сном, сном страдания и страха.
Глава 4. В сквере. У церкви.
Яськов шёл мимо того места, где два дня назад встретил мужика, о котором он рассказывал на мальчишнике. Перед глазами туманилось. Облако сна подобно дневному образу матери чернил красневший огненным закатом вечер. Андрею было и жутко, и ослепительно, и соблазнительно.
В какой-то пресноте жизни Яськов вспомнил дневной сон и, с прежней болью ощущая душевные страдания, которые он чувствовал во время этого сна, Клинкин обретал что-то новое, обретал неведомый раньше оттиск разнообразия бытия.
Андрей подходил к скверу, что находился возле главного здания орловского университета и вдруг (впервые в жизни вдруг!) вспомнил про Алину. Грядущая встреча с ней пугала Яськова до нравственного бессилия, как приговорённого к смерти страшит не плаха, а реакция палача на свершившуюся казнь.
Усиливал его страх факт того, что собиралось прийти много народу и на публике Испупникова могла выкинуть что-нибудь крайне непредсказуемое. Его и реакция публики заботила.
«Что? Что нужно сделать, чтобы смягчить всю эту дрянь?– спрашивал Андрей самого себя.– Поздороваться и через пять минут уйти?.. Она и за пять минут может начудить. И эти все будут смотреть… На неё ведь будут смотреть, а не на меня… ладно бы на меня… А то… Чушь! Надо унизиться! Мне надо слицемерить, чтобы меня не обвинили в лицемерии. А не обвинят меня, не обвинят и её!»
Яськов очнулся от мыслей, увидев густой, зеленовато-буро-вечерний купол сквера. Деревья, словно прятали стоявшие там лавочки от глаз неба. В сквере пахло городской пылью, женскими духами и вечерней, молодой травой. Фонари ещё не зажглись, так что было темно, почти как ночью.
На лавочках сидели Клинкин, Настя и Мелюков.
Андрей подбежал к ним и поздоровался. Он вдруг, едва удерживая счастливую улыбку, протянул руку Насте. Та в удивлении, сверкнула чёрными глазами и хрупко пожала руку Яськова. Её тонкие, ненакрашенные, перламутровые губки что-то неразборчиво прошептали.
Андрей хотел было заговорить или присесть, как увидел заходившую в сквер Алину. С ней шагали две девушки.
Подпрыгивающей походкой Искупникова приближалась к лавочке, опережая подруг. В важные для себя вечера девушки обычно берут с собой двух приятельниц, чтобы в случае неудачного течения беседы составить с ними автономный кружок и разговаривать о парнях или каблуках.
Одна из её подруг была рослая, крупной кости девушка с короткими пепельными волосами; злюка и сплетница. Другая – с русой, длинной, кучерявой шевелюрой; вся в белом (белые джинсы, белая футболка со стразами на груди, образовывавшими большую пятиконечную звезду; белые кроссовки), вся – точно в колыбельном забытьи,– глаза полуоткрыты, рот полузакрыт, голова опущена, видимо, из-за игры совести и смущения. Как у всех страстных людей, у Искупниковой среди подруг были и дьяволицы, и ангелочки.
Они подошли к лавочке, и ожили фонари.
– О!-вскрикнула Алина вместо приветствия.
Андрей открыл рот, Искупникова махнула рукой, предупредив, что лучше молчать. Её глаза блестели зловещей улыбкой злости. Алина была чем-то ужасно недовольна, возможно, тем, то ничего вульгарного пока не случилось.
Её лицо казалось необыкновенно красивым, точно взор фонарей усиливал прелесть Искупниковой.
На ней была чёрная футболка с глубоким вырезом, под которым виднелась изображение белой розы; короткая джинсовая юбка и чёрные туфельки. На плече висела кожаная маленькая тёмно-синяя сумочка. Лицо и верхняя часть груди сверкали необыкновенной, скорее болезненной бледностью. В ушах были длинные серебряные серёжки, которые, игриво трепыхаясь, свисали почти до середины шеи. На правой руке – золотой браслет, три золотых кольца на указательном, среднем и безымянном пальцах правой руки, два кольца – на мизинце и безымянном пальце левой руки; Алина нервно крутила кольцо с бриллиантом, самое большое из них (тот, что на мизинце).
Искупникова, раскуривая сигарету и жуя жевачку, сказала:
– Это мои приятельницы… а вы… их знаете.
– Знаем,– кивнул Мелюков.
– Умница.
Она повернулась к Яськову:
– Дай-ка… я на тебя посмотрю, мой милый.
Искупникова, продолжая жевать жевачку, по-доброму улыбнулась.
– Вот так надо тебе выглядеть,– сказала она и поцеловала Андрея в нос, обдав его нежным теплом перечной мяты и яблочной свежести мокрых губ.
Алина хихикнула, тряхнув головой. Яськов почувствовал, что и от волос, будто тоже пахло мятой, яблоками и ещё слегка недоспелой малиной.
– Что?-крикнула Дмитрий, видя, как глаза Искупниковой устремились в его душу.– Что смотришь на меня?
– Ну выколи мне глаза,– пожала плечами Алина. Она на мгновение медленнее стала жевать жевачку, задумавшись о том, чем могло быть спровоцировано такое резкое поведение Клинкина.
– Рады бы… да нечем, ха-ха,– заржал Мелюков.
Алина взглянула на подруг и сказала:
– Остряк, видите ли… Ты взял выпивку?.. И почему на меня смотришь… как будто я – бутылка какая-то.
– Я взял, взял… шампанского. Пять бутылок,– он указал Искупниковой на большой пакет возле лавочки.– Но я ещё не пил.
– Маме расскажешь, а мне врать не надо… Ты не умеешь. Если бы я не была лгуньей, я бы тебе показала, как надо лгать.
Андрей, словно долго этого ждал, кинулся к Клинкину и, размашисто улыбаясь, шепнул ему на ухо:
– Я так и знал.
– Что?
– Вот что,– Аней кивнул в сторону Кати.– Я так и знал, что это был только один только каламбур. Я знал это!
– Уйди, придурок,– Клинкин вскочил и толкнул Андрей в грудь.– Ничего ты не знал… Ничего.
Дмитрий в отчаянии всплеснул руками, показывая, что сожалеет о вырвавшихся эмоциях.
Наступило что-тот вроде душевного равновесия их компании. Катя о чём-то говорила с Мелюковым, смотря на того бестолковым взглядом. Подруги Алины скорее хихикали, чем шептались. Сама Искупникова с отчаянием недоумения во взгляде поворачивала свою русую головку то к Яськову, то к Клинкину.
– Вы от меня что-то скрываете,– сказала Искупникова, кивая головой.– Да… Вы от меня точно что-то скрываете.
Дмитрий подошёл к ней вплотную и больно схватил за плечо.
Алина, как будто от избытка мыслей не могла ничего сообразить. В её глазах горел огонь жестоких сомнений. Задумчивость Искупниковой имела чересчур поэтический, даже лирический вид.
Алина тряхнула головой и стала кусать губы. Она ударила Клинкина по руке в бессилии от того, что ей мешают злиться.
– Ты в чём-то выиграл у него, да? Я правильно поняла? Да, ты верно делаешь, что молчишь,– спросила Алина Яськова, как бы одабривая его, чтобы выиграть для себя время что-то сообразить, и затем кивнула в сторону Дмитрия.
Андрей двинулся к Насте.
– Стоять! Куда пошёл! Ко мне повернись! Отвечай!– с поднятым подбородком сказала Алина.
Яськов подошёл к ней и сказал:
– Мы с ним были… дружны!
– Значит, выиграл… так я и знала. Давно это было?
Алина не сдерживала прорывавшуюся из души светлую улыбку. Андрей читал в этой улыбке и благодарность, и похвалу, и торжество.
– Это не важно,– ответил он.
– Да,– кивнула Искупникова.
Яськов прищурился и пристальнее вгляделся в Алину. Её глаза смотрели на него, но Искупникова не понимала мысленной работы, которая начинала шуметь в голове Андрея. Сознание Яськова тревожило его и угнетало.
«Нет, так этого нельзя оставлять,– думал он.– Она слишком сейчас обрадовалась. А ведь я ей подал надежду. Я сказал! И начала видеть во мне более высокого человека плюс к этому. Боже, мне и нельзя быть с ней, и нельзя не быть с ней. Я должен, должен ей на ногу наступить. Господи, она – же дитя совсем!»
– Алин… Я уйду и уверяю, что уведу с собой Клинкина, если ты будешь издеваться сейчас надо мной. Сейчас не издеваешься. А если я сяду рядом с Настей? Клянусь, уйду.
Искупникова, как будто не слышала и смотрела на подружек, которые тихо на каком-то своём кукольном языке беседовали.
«Отчего?,– продолжал думать Яськов.– Отчего хоть всё это? Отчего она-то лютует? Удивительная душа! Она ведь и убить способна! Да потому что настолько сильно хочет просить прощения!»
Алина по-театральному, как это делают актрисы-мечтательницы, поглядела на небо и по-небесному вздохнула.
– Ну раз ты о Насте сказал, то и я буду грубить,– она повернулась к Мелюкову.
– Сейчас… подожди,– сказал тот, допивая шампанское из пластикового стаканчика.
– Чего ты?– приподняла брови Алина.
– А не нальёте ни…тьфу…ха-ха… не нальёте ли вы мне, Алина, стаканчик.
– Стаканчик вам налить?
– Вот именно.
– Ничего себе. Ну давай!
– Ты с ним знакома?
– С кем?
– Со стаканчиком-то?
– Ну если раньше я с ним была знакома, то теперь скорее он со мной знаком,– ха-ха!
– Началось представление,– подкуривая, хрипло сказал Клинкин.
– Пой, пой, птичка, да только голосок не сорви,– наливая вино в стаканчик, сказала Алина.
Мелюков уже прилично захмелел и взглядом матёрого воина глядел на Искупникову. Она медленно-бережно подала ему стаканчик.
Мелюков поблагодарил её с интонацией тех людей, которые чувствуют, что им должны быть благодарны за то, что они поблагодарили.
– А ты чего не пьёшь?– икнул он, глядя на Алину.
– Чтобы на тебя не быть похожей.
– А на кого?..
– А вот на него,– она протянула руку в сторону курившего Клинкина.
– В каком смысле?– вскрикнул тот.

