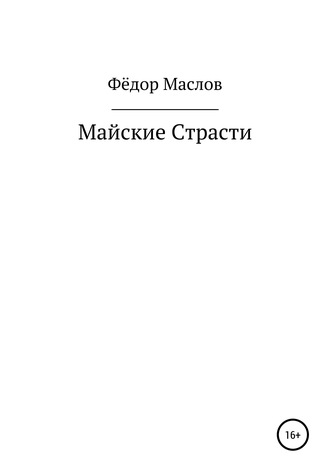 полная версия
полная версияМайские страсти
– А ты опоздал, опоздал,– затянул Мелюков.– Ну ничего. Я, бывало, больше опаздывал. И ещё буду опаздывать. А ты чуть-чуть. Ничего. Ты ещё не совсем пропащий злодей.
Он, улыбавшись, говорил все эти слова и хвалил Яськова с таким самовлюблённым видом, как будто хвалил самого себя.
Мелюков до прихода Андрея успел выпить два бокала вина, и его душа уже загорелась румянцем хмеля. Остальные лишь пригубили.
Подскочила официантка и спросила Мелюкова:
– Вам ещё?
– Вина,– прохрипел он.
– Что… простите!
– Вина… я сказал. Ты глухая? Я, что, непонятно, сказал?– он нарочно дышал на застенчивую девушку перегаром; ему было мало одной лести,– ему надо было, чтобы ему льстили, чувствую ко всему его существу крайнее отвращения.
– Нет… извините… Вы понятно сказали.
– Вот так!
На столе возле рук Алины лежало зеркальце. Он взял его и посмотрел на себя, громко хихикнув.
– Подай-ка меню,– сказал он Искупниковой.
– Эй, поздоровайся как следует с Настей. Не видишь, что она обиделась?– в обход просьбе Мелюкова, Алина звонко заговорила с Андреем, смотря на него знойным, гневным взглядом.
Яськов молчал. Внутренне он начал было торжествовать от того, что заранее догадался о попытке Алины его унизить, но он тут же выгнал из сердца эту малодушную мысль и вновь поднял глаза на Исупникову.
– Я ни с кем не здоровался, так как чувствовал за собой вину, и твою сестру никоим образом не выделял из общего ряда,– плавно сказал он.
Теперь Настя начала поправлять уже своё розовое, кукольное платье, моргая маслянистыми, испугавшимися несчастия глазами. Теперь уже Настя почти плакала от того, что пришла в кафе.
Алина, не видя горе сестры, принялась что-то шептать на ухо Мелюкову. Тот опьянел сильнее, чем от вина. Искупникова придвинулась к нему вплотную. Она одной рукой держала его за ухо, другой – гладила то по щеке, то по плечу.
Мелюков обезумел. Он улыбался, как придурок. Беда не в том, что несчастный не понимал, что происходит, а в том, что он находился в пьяном восторге именно от того, что не понимал всего происходящего.
– А, всё-таки, хороший праздник – День Победы. Даже проигравшим могут принести выпить. Кто будет со мной спорить, тот – идиот,– сказал Мелюков. Он заулыбался так, словно ему начали аплодировать.
– А ты уж и пожалеть проигравших готов,– слегка ударила его по щеке Алина.
– Я? Да, я готов… В смысле, готов пожалеть проигравших. А как их можно не жалеть? Послушайте, друзья, ну разве можно?.. Мне и самому-то плохо будет. Да и им… Каково им? И не нужно тут ничего говорить что-то про святое… Мол, это святые, кто жалеет. Это обычное человеческое качество. Проигравшие… Они ведь такие…
После приступа душевного насморка Мелюков хотел было сказать, кто же такие эти проигравшие, как он вдруг замолчал и покраснел, потому что откуда ни возьмись у него начался самый настоящий, физический насморк. Несчастный поспешно взял салфетку и стал вытирать нос. Мелюков высмаркивался, отвернувшись от подкатившей глаза Алины. Искупникова брезгливо гримасничала.
Мелюков про себя чертыхался, бранил судьбу, ругал Яськова и постепенно входил в то состояние, которое для иных влечёт за собой лишь похмелье сердца и тягу не к бокалу, а к бутылке, тягу закурить молчанием, расцарапать виски и погрызть ногти.
– Как человек, разбирающийся в вине, скажу вам, что мне надо ещё выпить,– он потянулся к третьему бокалу, перед этим заказав бутылку коньяка.
– Как человек, разбирающийся в людях, скажу тебе, что тебе надо или закусить, или повеситься,– под конец взвизгнула Искупникова.
Она, не отодвигаясь от Мелюкова, повернула свою тёмную головку к Андрею.
– Ну что? Грустишь?– спросила она.
– Нет.
– Грусти, грусти… Ожидал меня тут увидеть?
– Конечно. Ты же сама мне сказала, что придёшь…
– Ты распускаешь обо мне слухи!?
– Так ты же сама мне сказала.
– Мало ли что я говорю… У тебя язык без костей… как помело… твой язык…
Искупниковаа говорила голосом одинокого человека, смотрела на Андрея взглядом человека публичного.
– Молчишь… вот и молчи. Я буду говорить. Ты не знал, что я приду…– она нарочно ошиблась якобы заранее не готовила слова.– Точнее, ты знал, что я приду. Но ты пришёл не из-за меня. А из-за одной девушки прекрасной и… распрекрасной. А ей так стыдно, что она… что она подружку с собой эту привела.
– Можно попросить тебя об одной услуге?– вскинулся Мелюков.
– Заслужи мою услугу,– Искупникова кратко засмеялась и прикрыла рот рукой, как будто сожалея, что не удалось удержаться от эмоций.– Прости. Это привычка.
Мелюков заметно приободрился и, осмелев от счастья, с наигранной пошлостью погладил Алину по бедру.
– Это… Это всё ничего,– вздохнул он.– Я понимаю… забудь про эту услугу. Она уже ни к чему… Я теперь о другом… Мне жаль, что ты засмеялась. Жаль всех… жаль, что я так вот сейчас с официанткой… Мне надо бы у неё прощения попросить… Но я не буду. Не буду ещё раз ей соль на рану сыпать и напоминать. Уж лучше так… Вдруг она уже забыла!
Мелюков махнул рукой, словно прося не вспоминать о случившимся и его речи. Предельно равнодушным видом он показывал, что не ценит своего вспыхнувшего раскаяния и якобы благородства. Такие после подобных сцен приходят домой, выключают в спальне свет, накрываются одеялом, упиваются вином собственной добродетельности и плачут лишь от того, что их порыв самый искренний, так как у этого порыва нет свидетелей,– высшая степень вульгарности.
– Сейчас расплачется,– выдохнула Алина.
– Не буду, – вздохнул Мелюков, вновь погладил Искупникову по бедру и тут же отдёрнул руку, вспомнив, что несколько мгновений назад точно так же уже гладил её по бедру. Между ним и Алиной случился конфуз самый пошлый и тошнотворный.
Все это заметили и отвернулись.
Мелюков ужасно заторопился:
– В конце концов, что такое слёзы? Это конец и радости, и страданий. Когда плохо… поплачешь, и легче становится. А когда хорошо… после слёз радости тоже, как будто легче становится. Это спасение какое-то всеобщее и… уместное.
Мелюков так увлёкся что не заметил, как стал играть свою привычную роль. Некрасивая внешность и писклявый голос, как у раннего подростка, давно сдеалали его мыслителем в компании мужчин и философом в компании женщин.
– Это совершенно точно,– продолжал он.– Может я, кончено, что-то не понимаю…
Тут последовала нарочная пауза, вызванная тем, что Мелюков был уверен в согласии с ним остальных, которое ни чем и ни кем не могло быть разрушено.
– Может, я, кончено, что-то не понимаю,– он с удовольствием и готовностью наблюдал, как все раздражённо закивали,– но это совершенно точно. Неоспоримо.
Мелюков распахнуто улыбнулся и чмокнул Алину в щёчку так, как будто он целовал не Искупникову, а своё опьянение.
– Эх, Алиночка, мы ещё с тобой…– подмигнул он.
– Веди себя нормально. Видишь, как Андрюха сидит смирно… Так и ты. Нечего выкаблучивать. Ведёшь себя, как школьник.
– А я не школьник?– робко спросил Яськов.
– Ты? Нет…
– А мне кажется, что ты…
– Креститься надо, когда кажется…
– не злись…
– Что за наглость!– лицо Искупниковой вытянулось, глаза сузились, в них засверкал ядовито-лазурный, надменный гнев.
– Он не как школьник… он, как школьница, себя ведёт, ха-ха!– Мелюков захохотал, радуясь той грубости, которую настолько топорно и в то же время весьма во время могут вставить только самые отчаянные льстецы. Его смеявшийся взгляд скакал от Алины к Андрею, как на кочках. Вероятно, Мелюков праздновал каку-то нравственную победу над Яськовым, и это,– что поделать!– было ему громадным утешением,– одни выигрывают для того, чтобы радоваться, другие – для того, чтобы злорадствовать. Сузившимся от алкоголя умом он не имел возможности ощутить, что повода трясти от священной ярости кулаками не наблюдалось. Ко всем его несчастьям пьяная голова делала этого Наполеона ещё и мечтателем.
После этой выходки над их столом нависла туча какой-то непонятной, местами стыдливой, местами пошлой суеты. Все, словно ушли в свой мир, нравственно при этом оставаясь неподалёку друг от друга.
Клинкин пил бокал за бокалом. Яськов смотрел то на стол, то себе в душу. Настя с подружкой чирикали о чём-то девственном.
Алина долго глядела на друзей, выпила разом бокал вина и крепко обняла за шею обезумевшего от сердечной, вероятно, выдуманной шизофрении Мелюкова.
– Иди ко мне, мой жеребец!– воскликнула она.
Некоторые девушки думают, что пошлостью выражений могут наградить себя пошлым видом. Их особенность невероятна и удивительна: чем вульгарней они разговаривают, одеваются, целуются, чем чаще начинают самые грязные отношения с мужчинами, чем смраднее предаются плотским утехам, тем чище, целомудреннее, яснее их нежные, девственные, застенчивые сердца.
Мелюков потянулся губами к Алине. Их долгие, громкие поцелуи чмокающими звуками разлетались по заведению так, что за соседними столиками разговоры становились тише и выжидательнее.
В поведении друзей Алины и Мелюкова ничего не изменилось. Клинкин пил, Яськов молчал, подружки шушукались.
Когда поцелуи прекратились, Андрей с искренней нежность в голосе заговорил, точно резко пробудившись от самого крепкого сна:
– Друзья… Друзья… послушайте же меня! Какие же люди хорошие все.. Все хорошие… Просто есть те… Кто об этом не догадываются. И всё у нас будет хорошо! Ах, я теперь уверен в этом. Всё лучшее впереди, потому что я понял, как хороши люди, насколько они не пропащие. Я сейчас о многих думал. И об истории думал… И о своей жизни. Ведь мы даже убивать не можем. Это делает за нас что-то высшее и непонятное. И мы страдаем, когда губим других… В этом и есть наше спасение. Люди не пропадут, потому что они мучаются. Я тут вспомнил… Я на днях ехал в такси. Довольно пьяный… И так мне страшно стало. Я вот представил себе… А что, если у таксиста есть пистолет или нож… а хоть бы так… руками… Я-то пьяный. Он мог бы меня избить и ограбить. Увезти куда-нибудь на окраину, избить, ограбить, забрать мой мобильник. И вот я еду.. еду домой. А он спереди сидит и посвистывает. И что вы думаете? Ничего он не сделал! Вы думаете, я за себя боялся. Я за него боялся! И он ничего не сделал! Как я ему был благодарен. Я ему пятьсот рублей дал за то, что он так меня осчастливил. Я зашёл домой и с восторгом кружил по комнате. Я не мог уснуть. Я готов был стихи писать… Я задыхался и не мог уснуть. И знаете, кровь мне брызнула в глаза, когда мне вдруг представилась вот такая картина. Картина древнего Рима. Всё понятно! Зрелища! Что может быть острее, чем ожидать, а потом видеть, как умирает другой человек… как он истекает кровью… Это реальные человеческие жизни. И когда гладиатор падает в муках… Все опускают большой палец! И вот тут-то загвоздка и возникает! Они н всегда опускают палец. Бывало так, что они жалели мученика. Вы только вдумайтесь! Имея все шансы поучить острейшее зрелище, они лишали себя этого. Что за люди! Не всё потеряно, друзья. А если и потеряно, то немногое. Мы будем жить. И долго будет человек жить, пока хоть кто-то будет поднимать палец. И пусть Колизей не будет разрушен, но мы будем жить и мы будем радоваться, как сейчас!
– Стихи… Лирика… Одни стихи, Андрюх,– качал головой Дмитрий.
– Стихи! Может, и стихи… А плевать! Пусть даже и стихи! Неважно что! Главное, что это есть.
Все, кроме Яськова, то ли нарочно, то ли нечаянно одновременно встали и зашумели, заглушив его последние слова. Было почти десять часов и скоро должен был начаться салют.
Все посетители вышли на улицу. Над площадью висело провидение восторженного ожидания, божество духовного карнавала. Становилось всё тише и нежнее. В глазах людей отсвеичивался огонь всенародного торжества.
Одновременно с первым залпом салюта к небу поднялись радостные крики толпы. Над городом завис разноцветный купол победы. На лицах людей плясали красно-жёлто-зелёные оттенки веселья и умиления.
Вдруг Алина отошла от друзей и сознательно наступила на ногу проходви8ей мимо студентке.
– А-а! Что делаешь?– вскрикнула девица.
– Чего ты разоралась, дура? Иди куда шла!
– Ненормальная.
– Шалава ты конченная после этого, поняла?
Дмитрий повернулся к Андрею и сказал:
– Тьфу, грешницу из себя строит! Смотреть противно на неё.
Клинкин сжал челюсти, поднял взгляд навстречу разыгравшимся огонькам салюта.
Андрей только закурил, как к нему подскочила Искупникова, вырвала из его рта сигарету и бросила её на асфальт. Яськов промолчал
– Хватит. Не надоело? Хватит,– завизжала она.
– Чего хватит?– громко спросил Андрей.
Клинкин, содрогаясь телом от беззвучного хохота и прикрывая рот рукой, глядел то на Искупникову, то на Яськова. Он сдерживал смех, не желая в тот момент выдать свои искренние чувства. Грохот от салюта стал карнавальным фоном того молчания, которое летало между Андреем и Алиной. Они опасливо посмотрели друг на друга и одновременно оглянулись по сторонам.
Далее произошло что-то весьма странное и в то же время ожидаемо-страшное, если ввести в исключение любящее, суетливое, прыгающее сердце такой страстной девушки, как Алина, которое спровоцировало её на весьма детское, какое-то простоволосое поведение.
Она повернулась спиной к друзьям и вновь стала пробираться в гущу празднующих людей. Алина искала кого-то взглядом, как голодный хищник ищет на мгновение улизнувшую, уже почти обескровленную жертву. Алина схатила за руку ничего не понимавшую, красивую, рыжую, с веснушками на лице и плечах, с усиленной от вечерней темноты прелестью девушку, такую красивую, что в неё можно было или влюбиться, или ревновать к каждому прохожему. Глубиной сердца Искупникова и сама сознавала погибельность своего поведения. Но она не спешила в этом себе признаваться.
Как человек, охваченный пламенем, в попытке потушить огонь машет руками, тем самым усиливая губительную власть этого огня, так и Искупникова лишь приближала разоблачение движений своей души, пытаясь стереть след предыдущей выходки.
– Какая девушка-то прекрасная!– улыбнувшись, сказала она.
– А ну отпусти её!– подбежал Андрей.
– Она тебе не нравится? А зря. Подумай хорошенько… Могу познакомить. Или ты меня хочешь… может быть?
– Алина, пожалуйста… Оставь её.
Девушка с веснушками пролепетала:
– Молодой человек… Угомоните её… Что ей от меня нужно? Я веселиться хочу. Да убери ты руку.
Она плюнула словами в Алину и убежала прочь.
То ли Андрей на миг хотел отвлечься, то ли произошло это исключительно по интуиции, но он на три секунду заулыбался, как полоумный ангел. Ему льстило не внимание красотки, а внимание в самой целомудренном смысле этого слова…
Алина цокнула языком. Пожар не унимался…
Искупникова чуть отдалившись от Андрея и Дмитрия, стоявших немного в сторонке от Мелюкова и Насти с подругой, начала кричать:
– Эй, девчонки! Кому денег дать за ночь любви! Есть у меня один… знакомый малый. Девочку хочет! Ну… кто? Только недорого!..
Искупникова начала разводить руками, сверкать взглядом, расплёскиваться, подниматься на цыпочках и уже полностью с головой затапливать,– как река весенние берега,– всех прохожих своими всколыхнувшимися чувствами.
В её глазах отражался голубо-зелёно-жёлтый салют злобы, когда она с горевшей улыбкой на устах подошла к Андрею и Дмитрию.
– Никто не хочет…– сказала Искупнкова.
Яськов ощущал предельное своё унижение перед Клинкиным и, трясясь душой, вскрикнул:
– Ты… Искупникова… Замолчи, дура!..
Она опустила голову, и какая-то напрасная, вязкая, приторная благодарность проникла в душу Андрея. Он ласково глядел на Алину.
– Почему ты так жесток со мной?– с улыбкой легкодумной печали на губах вздохнула Искупникова, как это делают сорокалетние актрисы в провинциальных театрах.
– Какая же ты… Дай я тебя поцелую.
Он схватил голову Алины руками, пытаясь поцеловать её в лоб, но она вдруг закричала:
– Ай… Не трогай меня за волосы. Не люблю. Что ты наделал? Мне неприятно. Что ты вечно лезешь?
– Да… да… я просто поцеловать хотел.
– Не надо меня целовать.
Тут Дмитрий засмеялся смехом самого злобного, смрадного ехидства.
– Я впервые вижу, чтобы девушка склоняла парню к сексу, а не парень девушку,– проговорил он и к своему удивлению вдруг стал чрезвычайно собой доволен.
Затем Клинкин ощутил на себе взгляд Искупниковой: взгляд животный и зовущий; взгляд самки увидевшей самца; взгляд, который исчезает сразу после экстаза порождённого мимолётной нуждой инстинкта.
– Я его не склоняю,– краснея душой сказал Алина.
– А над девушкой ты зачем издевалась?– громко спросил Андрей.
– Что ты сказал!.. Ах, видите ли, я над девушкой издевалась! Видите ли, я, ребята, вот такой, что могу терпеть, когда меня оскорбляют, но когда над другими издеваются, то тут уж постойте… Я за всех горой. Так, что ли?
– Нет…я…
– Знаю, что не так,– коротко рассмеялась Алина.
У неё и улыбка, как будто подобрела. Алина вся засветилась каким-то потусторонним светом, словно находясь рядом с добрым человеком, можно и самому стать добрее. Она засмеялась над собой.
В этот момент к Мелюкову подошёл старик в грязном халате и стал просить милостыню.
– Нет… нет у меня,– Мелюков отчего-то крайне растерялся. Он по-прежнему с любопытством смотрел на Алину.
Старик плюнул. Ни один бедняк не выдержит, когда богачи в их присутствии притворяются нищими. Тут какое-то ущемление профессионального тщеславия.
– Пошёл отсюда,– вскрикнула Искупникова. Непобедимая болезнь: таким девушкам нужно непременно ощутить раскаяние за новое злодейство, чтобы приглушить раскаяние за предыдущее.
А Клинкин, как будто думал о предыдущем. Он нервно кусал губы, туманно смотря на Искупникову. На сердце Дмитрия долго опускалось и, наконец, легла странная гордость бесовства. Поведение Искупниковой, кричавшей на всю улицу о ночи любви, раздражало его ужасно. Клинкина бесило не её злодейство, а фарисейское тупоумие злодейства.
– Надоели эти бомжи… Прямо, как ты, Яськов,– сказала Алина.
Клинкин дотошно поглядел на неё.
– Так, всё понятно,– сказал он.– Ну всё… Ещё чуть-чуть и я сойду с ума от тоски.
Салют отгремел. Его эхом над городом проносились восторженные крики толпы, но в ней самой ощущалось предтеча чего-то грустного и ностальгирующего, как после всякого праздника народа и души.
Алина подошла к сестре и её подруге. Мелюков поплёлся за ней. Андрей и Дмитрий отошли чуть поодаль.
– Ты куда сейчас?– спросил Клинкин.
– Ещё не решил… Не знаю.
– А я в клуб. Мне срочно туда нужно. Если я в кого-нибудь сегодня не влюблюсь, то возненавижу себя. Мне нужно или влюбиться в кого-нибудь, или возненавидеть.
Он побежал к Ленинской площади, сел в такси и уехал вниз по улице Горького.
Друзья не смотрели на Андрея. Он побрёл по Ленинской улице к мосту. Что-то грузное свалилось на его душу, гораздо более грузное, чем задымлённое салютом небо. Тоска щекотало сердце Яськова.
Что ждало впереди? Перед воображением его судьбы рисовалась картина самых огненных страстей и желаний. Что было сзади? Одни расставания с надеждами, с которыми он простился без всяких сожалений.
Чего ему хотелось? Убежать от усталости, от обыденности страстей. Он не хотел желаний и проклинал их, как только может проклинать самый отчаянный грешник.
Он шёл по вечернему мосту. Ему было страшно и безразлично. Непрекращающееся, противоречивое разнообразие болей стиснуло его душу.
Но вместе со всем этим чудесная, необъяснима, воздушная, лёгкая свобода затрепетала во всём роке его бытия, как будто новый воздух опустился на Землю.
На Землю опустилась радость, верная супруга страдальцев. Торжественно опустилась радость, торжествующая невеста святых. Несмотря на все свои боли, которые его посетили, несмотря на все боли, которые его ещё посетят (он это чувствовал), несмотря на пустоту отца, несмотря на жестокость одиночества, возникшего на многолюдном мосту, несмотря на страдальческую близость с погибшей матерью, несмотря на моральное превосходство над Клинкиным, несмотря на сложное устройство души Алины с всей её тяжёлой, уничтожавшей любовью и нечаянной, первобытной страстью, со всей глупостью её терзаний, со всей напрасностью этой глупости, со всем решительным пророчеством о её чёрной судьбе, со всей жестокостью её поведения в тот вечер Яськов ощущал беспричинную, невесомую радость; радость, которую он ощущал с улыбкой на лице, лишь (или даже?) глядя на оранжевые фонари, на пыльную мостовую, на тихую речушку; ту радость, которую могут ощущать только те, кто взлетел до самой высокой звезды мучения; ту радость, которая приятно щекотала его вены; ту радость, которая была выращена судьбой; ту радость, которая до синяков билась в долгих, высохших судорогах сомнения; ту радость, которая подняла в его душе что-то доселе неведомое; ту радость, которая подняла нечто, чему уже не дано было упасть.
Часть Третья. Глава 1. Ответный визит
Сойдя с моста Андрей ещё какое-то время был захвачен мутными, труднообъяснимыми соображениями и чувствами, что не уничтожало того света, который озарил его после праздничного салюта.
Утром он и сам не смог бы вспомнить, о чём думал мутно-звёздной ночью,– настолько глубоко его рассудок был затоплен ощущениями невероятной и только-только обретшей уверенность свободы мировосприятия.
А тем перламутровым утром вспомнить кое о чём ему следовало бы…
Он шёл к дому Клинкина без того страха, который бы непременно его одолел бы, если бы Андрей всерьёз задумался о нравственной подоплёке их прошлого разговора, состоявшегося у него в квартире.
Но, тем не менее, Андрей боялся. Однако, боялся он не того, что ему скажет Дмитрий, а того, что он в забвении своего сумасшествия мог совершить что-то непоправимое, что-то самоистязающее,– так все мы в помешательстве души боимся не ада, а смерти.
Андрей с трепетом смелости ожидал чего-то рокового, чего-то, что было похоже на апокалиптическое ненастье майской погоды,– если Яськова не ослепит самая яркая в истории молния, то оглушит самый громкий в истории раскат грома.
Чистое, улыбавшееся солнце глядело на него, но он, будто смущался такого искренного внимания и всё глубже и глубже уходил в какие-то оскорбительно-философские дебри лирики… А до дома Клинкина на улице латышских стрелков было ещё весьма далеко…
В судьбе человечества есть такая остроумная закономерность, которая то по логичному, то по алогичному складу жизненных обстоятельств формирует уникальное противопоставление разнородности харизм будь то личностей или государств, или народов, или мироощущений. В любой сфере деятельности или высших прозрений и чувств существуют временные периоды, подарившие миру по две равновеликие фигуры, друг с другом не схожих до самого смешного парадокса истины бытия.
Бетховен и Моцарт, Пеле и Марадона, Леннон и Маккартни, Одри Хэпберн и Гарбо, Пушкин и Лермонтов, Пушкин и Достоевский, Иисус Христос и апостол Павел, Сталин и Гитлер, Россия и США, немцы и русские.
Если вычеркнуть из системы рассмотрения время и сферу деятельности, то много ли найдётся схожести между субъектами, названными в вышенаписанных предложениях первыми и вторыми? Те наследства, которые они оставили после себя нельзя разделять пополам, но и смешивать их тоже нет никакой возможности, как гораздо более тяжёлую жидкость не смешивают с более лёгкой, если не будет какой-либо постороннего принуждения. Эти наследства оставлены величайшими противоположностями, поэтому если их смешать, то это будет самое греховное покушение на вечность.
Моцарт, Пеле. Маккартни, Гарбо, Пушкин, Пушкин, апостол Павел, Гитлер, США, немцы.
Вот здесь нет той разъединённости, о которой было объявлено выше. Глубина житейской, семейной мудрости; глубина приятия возможного; религия тленности; влажность умиленных глаз; полное непризнание и отчаянность недопонимание поэтичности страстной, влюблённой ненависти; аккуратный росчерк пера.
Бетховен, Марадона, Леннон, Хэпберн, Лермонтов, Достоевский, Иисус Христос, Сталин, Россия, русские.
Что тут? То, во что не вмещается ни глубина житейской, семейной мудрости, ни последующие сокровища. Здесь и бессмертие сердца, и смерть души. Здесь полёт, здесь взрыв, здесь мгновение, здесь падение святыни, здесь восход ада, здесь рассвет безумства, здесь выстрел, здесь дуэль, здесь дуэль одиночества, здесь самонежалеющая мелодия поэзии, здесь насмешка.
Нетленность нечаянной борьбы лунной сонаты и вечного реквиема Моцарта, неоконченного им самим, но досочинённого учениками, возводит все эти личности, все эти противопоставления и все эти наследия на вершину музыкальности прозрения мира. Великая в своём одиночестве грусть смотрит оттуда на нас и скучает от того, что слишком высока для своего создателя, как будто глаза луны взирают на пишущего её портрет художника, который смеётся над фарисейской лёгкостью погибельности другого художника; того художника, что написал картину вечернего, зарывшегося в тучи неба. Великая в своём одиночестве грусть, которая к в конце концов всегда становится тоской поседевшего душой гения юных страданий.

