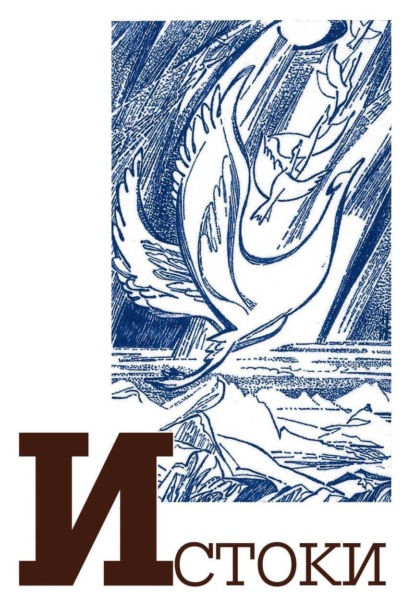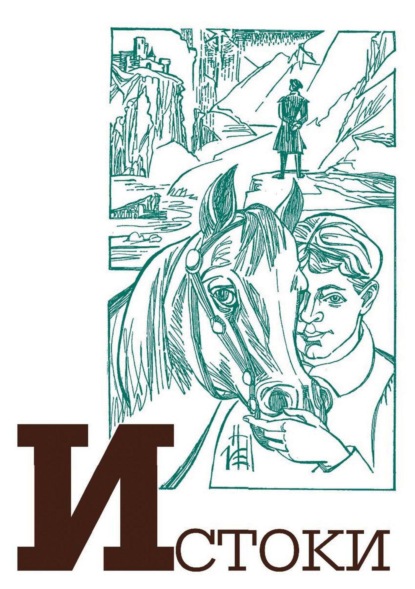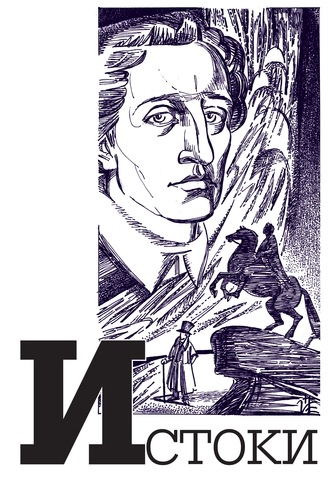
Полная версия
Альманах «Истоки». Выпуск 12
Намокшие поля пилотки были отогнуты, с шинели на пол капала вода.
На ногах у солдата были старые кирзовые сапоги, облепленные грязью. Подошва одного из них была аккуратно подвязана к носку сапога телефонным кабелем. Выражение лица у солдата было встревоженное. Умные глаза настороженно поблескивали. Видно было: солдат, что называется, бывалый. Я ввёл его в кабинет первого ПМШ. В кабинете кроме капитана Лося находился… заместитель командира полка по политической части Федоров.
– Рядовой Иванов по вашему приказанию прибыл, – по форме доложил солдат, приложив руку к пилотке.
– Слушай, Иванов, – начал капитан, – расскажи-ка нам, как ты попал в наш артполк?
– То есть это как понимать товарищ капитан – как попал? Обыкновенно. Был направлен к вам с маршевой ротой из батальона выздоравливающих после поправки от ранения.
– Нет, ты не понял, Иванов, – скажи, почему тебя направили в артиллерию? Ты разве раньше в артиллерии служил?
– Да, служил – в Первую мировую войну, а в эту – в пехоте.
– Но почему тебя направили именно к нам?
– Мое дело солдатское: куда направили – туда и пошёл. А почему направили к вам – это надо бы спросить у тех, кто направлял. А что, разве я плохо служу в артиллерии? Спросите командира орудия товарища старшего сержанта Цыпкина. Он, думаю, подтвердит вам, что никаких замечаний он мне не делал и что свои обязанности в огневом расчете я выполняю как положено. Разрешите вопрос, товарищ капитан?
– Спрашивай, Иванов.
– Товарищ капитан, а вы затем меня, значит, вызвали, чтобы назад в пехоту направить?
– Да нет, Иванов, не в этом дело, – ответил капитан Лось. – Никто тебя назад в пехоту направлять не собирается…
– Простите, товарищ капитан, тогда зачем же вызывали?
– А вот зачем, товарищ Иванов, – вмешался в разговор замполит Фёдоров. – Расскажи-ка нам лучше про свою службу в пехоте. С кем служил, кто командовал дивизией? В каких боях участвовал? Как тебя ранило?
– Фамилию комдива я не знаю, помню хорошо только взводного и политрука. Ещё знаю номер своей полевой почты. Да он есть на письме моей старухи, я его в кармане таскаю. Достать его?
– Конечно, достань, Иванов.
Солдат расстегнул шинель и вытащил из кармана гимнастерки потёртый конверт.
– Товарищ капитан, пойди и проверь, наша это военная часть?
Капитан с письмом вышел…
– Да, Иванов, расскажи-ка ты мне все-таки поподробнее про тот последний бой, в котором тебя ранило.
– Да что тут рассказывать, товарищ заместитель командира полка. Было это в ноябре прошлого года под городом В. Немецкие танки лезли на нас почти со всех сторон, а за ними бежали ихние солдаты, которых было гораздо больше, чем нас. Наш политрук сказал, чтоб не отступать ни при каком случае. Мы и сами понимали, что отступать нельзя…
– Ну а дальше как дело шло? – спросил замполит.
– Ну, после приказа солдатское дело известное, занял позицию – задача ясная: подпускай немцев, жги их танки и стой себе, покуда не убьёт али не ранит тяжело либо покуда немцы не уйдут. Многих поубивало. Ну вот, в разгар боя прилетела граната и ранило меня так, что я потерял сознание, проснулся – уже на койке в медсанбате. А как тот бой закончился, я до сих пор не знаю. Однако помню, что никто позиций не сдал – не такие ребята были.
Вот и всё. Больше рассказывать нечего.
– А как фамилия политрука? – спросил Федоров.
– Конечно, помню – К-н.
– Товарищ командира заместитель полка, – доложил капитан Лось, – я проверил: та самая часть, сомнений нет.
– Ну а мы тут поговорили по душам с товарищем Ивановым. Да ты садись, Николай Петрович, садись – не стесняйся, – обратился замполит к солдату. – Устал, небось, в твои-то годы всё время стоя разговаривать?!
– Хотя я и не очень-то устал, но сяду с удовольствием, – ответил Иванов.
Печать тревоги исчезла с его лица, и он начал понимать, что его вызвали не затем, чтобы наказать… Ну а зачем всё-таки?
– Товарищ Иванов, расскажи, а жене-то своей ты давно не писал?
– Как давно? Две недели назад. Как на новом месте осмотрелся – так и написал.
– Погоди, – сказал капитан, – а из госпиталя и батальона выздоравливающих ты разве домой не писал?
– Да что тут было писать, когда неизвестно сколько в этом месте пробудешь? – ответил солдат. – Вот когда по-настоящему определился, тогда и написал.
– Вот чудак человек! Ведь жена-то твоя тебя мёртвым считала. Ей похоронку прислали на тебя. А недавно она вдруг от тебя письмо получила да и снесла его в военкомат.
– Значит, вот в чём дело, – воскликнул солдат. – Понимаю. Я ей напишу, что в этой ошибке никто не виноват. Ведь в той кутерьме легко было ошибиться: кто убит, а кто валяется без сознания. Санитары же, когда раненых собирают, документов не спрашивают. Пусть старуха больше не шумит – на войне бывают всякие случаи.
Разрешите идти?
– Нет, постой ещё, – ответил капитан. – Прочти-ка эту бумагу.
Солдат с осторожностью взял протянутый лист и прочел: «В вашем полку служит рядовой Иванов Николай Петрович, которому за геройское поведение в бою в числе ряда других бойцов присвоено звание Героя Советского Союза. Предписываем вам обмундировать Героя Советского Союза товарища Иванова Николая Петровича в командирское обмундирование и в течение суток направить его в Москву для вручения награды…» Солдат остолбенел.
– А тут нет ли какой промашки? Это, выходит, что я – герой? Как это так? Я ничего такого особенного не делал. Я только выполнял приказ, как положено тому, кто присягу дал. Приказ был не отступать – стоять на смерть. Ну и стояли все. Как все, так и я. Я так понимаю, что я, конечно, честно нёс свою солдатскую службу – а как же иначе-то, а ничего особенного героического в этом не было…
– Верно говоришь, солдат, – в том и состоит истинное геройство, что человек совершает подвиг по велению сердца, вовсе не думая, что он совершает что-то героическое!
– Ну, теперь, Иванов, иди в батарею да и собирайся в дорогу. Старшине отдадим приказ – он тебя обмундирует. Да побрейся получше и постригись, чтобы иметь подобающий воинский вид, – сказал капитан Лось.
– Да, вот тебе брошюрочка, – сказал замполит. – В ней подробно написано о твоём и твоих товарищей подвиге. Почитай её.
А то герой, а рассказать обо всем, как следует, не можешь.
– Нет, товарищ замполит, – возразил капитан Лось. – Он всё правильно понимает и рассказал верно: он честно и до конца выполнял свой солдатский долг. В этом и есть геройство.
На следующий день рядовой Иванов явился в штаб уже совсем в другом виде. Он был побрит. Новенькая командирская шинель и фуражка ладно сидели на нем. Капитан Лось вышел к нему, дружески похлопал его по плечу и сказал:
– Ну, вот теперь, Иванов, у тебя настоящий воинский вид. Наш старшина – молодец, хорошо выполнил приказ… Ты доволен, товарищ Иванов?
– Нет, товарищ капитан, не совсем доволен.
– Это почему же? – удивился капитан.
– Скажите, товарищ капитан, какие у вас, к примеру, сапоги? Хромовые? Как положено командиру?
– Ну, да, – ответил капитан Лось, – хромовые.
– А мне старшина выдал кирзовые, нешто в таких сапогах командиры по Москве ходят?!
– Понял, товарищ Иванов. Действительно старшина оплошал. Будут у тебя хромовые сапоги – ты их действительно заслужил.
Я сейчас прикажу старшине, чтобы он бежал сюда с хромовыми сапогами! А ты, Иванов, посиди пока: здесь, видишь, собрались бойцы и командиры – тебя поздравлять. Хотят послушать, в каких боях ты участвовал и как заслужил звание героя.
– Ну, это мы теперь можем, товарищ капитан, – ответил Иванов.
Когда через час капитан Лось со старшиной принесли для Иванова хромовые сапоги, то увидели, что он сидит на стуле, окружённый бойцами и командирами, смотрящими ему в рот, и по-своему, очень толково, красочно и доходчиво, излагает им содержание брошюрки, вручённой ему накануне.
На другой день Иванова отправили в Москву. В наш артполк он уже не вернулся. Ему присвоили звание старшины и направили в школу младших командиров. Доходили слухи, что у него оказались прекрасные педагогические способности и он стал отличным воспитателем молодых бойцов.
Основой рассказа является подлинное происшествие, разыгравшееся на глазах автора. Имена и фамилии действующих лиц умышленно изменены. Подлинное имя героя рассказа вписано золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны.
Проза
Галина Гашунина
Душа моя, Елизавета
Она давно уже не живёт в нашем посёлке, но воспоминания о ней помогают пережить мне и одинокую осень, и холодную зиму. «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал…» Частенько перед началом репетиции одним пальцем я наигрывал эту мелодию на пианино. Я ждал, когда появится она – Елизавета, душа моя. Елизавета приходила заранее. Ей нужно было время сосредоточиться на роли, и эти минуты, проведённые наедине с ней, наполнялись для меня счастьем и особым смыслом. Тоненькая, как камышинка, молодая женщина несла в себе ту радость жизни, которой многим из нас в трудные послевоенные годы не хватало. С ней в наш Дом культуры приходил тот настрой, без которого тщетно любое дело. Настрой победы, я бы сказал. И, действительно, у нас всё ладилось. Мы ставили пьесы талантливых драматургов – Володина, Розова – о современниках, похожих и непохожих на нас, но то, о чём говорилось в этих пьесах, было очень знакомо, эхом откликалось в наших сердцах, покоряло своей правдивостью. Елизавета пленяла односельчан, наполнявших зрительный зал до предела, манерой своей игры. Она так вживалась в образ, что было непонятно, где проходит грань между героиней пьесы и исполнительницей роли. А ответ был очевиден. Показывая на сцене персонажей, с которых хочется брать пример, ей не нужно было особенно притворяться.
Я любовался ею, но любовался издали, прекрасно понимая, что она ждала и будет ждать своего мужа, пропавшего без вести. Мне бы и в голову не пришло волочиться за ней. Она была для меня недосягаема. Я считал счастьем уже то, что она посещала драматический кружок, которым я руководил, что свой талант общения она проявляла и в отношении меня, что иногда её улыбка адресовалась и мне.
Елизавета работала в сельском почтовом отделении, включавшем в себя и телеграф, и каждый день, соприкасаясь с сельчанами, большей частью малограмотными, надписывала за них посылки, конверты, отправляла от их имени срочные телеграммы, отстукивая специальным ключом точки и тире на заграничном телеграфном аппарате, которым почта очень гордилась. Я знал, что она одна из немногих изучила азбуку Морзе и легко владела ей, не делая ошибок при передаче сигналов. Я регулярно отправлял в районный центр почтовым переводом отчёты о деятельности нашего кружка. И таким образом имел возможность внеочередной раз увидеть дорогого для меня человека. Я садился за обшарпанный стол, брал лист бумаги, обмакивал ручку в чернильницу и, делая вид, что поглощён составлением текста, украдкой наблюдал за Елизаветой. Здесь, в этом глубоко чтимом месте, позволяющем поддерживать связь с далеко живущими родными людьми, народу всегда было много. Как только не обращались посетители к царившей здесь фее: и почтительно – «Елизавета Федоровна» и ласково – «Лизонька» и просто – «Лизавета». Она старалась помочь каждому и, улучив минутку, кому-то прочитывала полученное письмо, кому-то сочиняла важное прошение. И для любого у неё была припасена улыбка или доброе слово, а то и житейская подсказка, куда обратиться со своими проблемами. Я видел, что ей доверяли много личного.
В те дни, когда мне приходилось решать организационные вопросы, курсируя между Домом культуры и администрацией посёлка, я часто видел, как Елизавета, стоя рядом с гружённой почтовой корреспонденцией повозкой, о чём-то тихо беседует с извозчиком и одновременно, ласково поглаживая дряхлую лошадёнку, угощает её припасённым лакомством в виде морковки или кусочка сахара. При этом внимательные глаза Елизаветы замечали всё вокруг: и то, что лошадь сильно исхудала на скудных харчах, и то, что уже еле тащит она телегу с посылками до станции. А Акимыч, кучер, сильно сдал за последний год, и пора уже отправлять его на заслуженный отдых.
Мне нравилось смотреть наши спектакли из зала, как смотрят обычные зрители. Особенно я волновался, когда на сцену выходила Елизавета. Я обратил внимание, что при её появлении сельские жители начинают открыто улыбаться и громко хлопать в ладоши, выражая этим своё отношение к ней. А однажды одновременно с аплодисментами по залу прокатилась волна шума – зрители начали перешёптываться: «Смирновым-то Елизавета Фёдоровна положенную ей большую комнату отдала. Сколько, – говорит, – людям можно мучиться в бараке? Пусть поживут по-человечески». «А Авдотье-то, у которой восемь ртов, – подхватывали другие, – младшеньких помогла в детский дом пристроить на казённое житьё-бытьё». Я слушал и понимал, насколько Елизавета богата душой и сердцем. И тем дороже она становилась мне. Как же я был счастлив от того, что скоро закончится спектакль, и я буду иметь возможность подержать нежную руку Елизаветы в своих руках, вынося благодарность артистке за выразительную игру.
Казалось бы, вся жизнь Елизаветы была на виду, как и жизнь любого сельчанина, но в посёлке никто не знал, как, впрочем, и я, об одном её нерядовом поступке. Она потеснилась и приютила у себя чужую женщину, выгнанную из дома. Елизавета увидела её, прячущуюся под лестницей своего дома. Увидела и ужаснулась: женщина была беременна. «Что с тобой, милая? – спросила она её. – Иди-ка сюда, на свет». Женщина вышла, жалкая, плачущая, пугливо прикрывающая свой выпирающий живот складками широкой юбки.
Елизавета участливо посмотрела в её тоскливые глаза. «А что ты здесь делаешь?» Марфа (так звали бедняжку) рассказала о том, что свекровь, ни от кого не скрывая свою нелюбовь к ней, давно хотела извести её, а узнав, что она ждёт ребёнка, молча показала на дверь.
Жену родного сына своего выгнала на улицу. Его-то нынешней осенью в армию забрали, и заступиться за неё стало некому. «Пойдём ко мне», – только и произнесла Елизавета. Историю эту я узнал от самой Марфы, когда Елизавете по ряду причин пришлось уехать из посёлка. Не скрою, тяжело мне было расставаться с ней, я почему-то был твёрдо уверен, что подобную женщину вряд ли когда-либо ещё встречу. С её отъездом всё стало будничней, прозаичней. Но когда я смотрю в ночное небо, кажется мне, что зажгла Елизавета над нашим посёлком новую звезду, лучи которой наполняют жизнь мою светом и немеркнущей надеждой.

Книга в альманахе
Евгения Славороссова
Московские сны

Воробьёвы горы
С тобой мы ищем жизни смысл,А рядом с нами жизни радостьСияет в семицветье радуг,В изгибе пёстрых коромысл.Весь мир затянут пеленой,Но, сделав в облаках оконце,Порой проглядывает солнце,Сиренью пахнет и весной.Ты солнце размешай с дождём —Я не пила напитка лучше.Мы, отражаясь в синей луже,Как будто по небу идём.Моя рука в твоей руке,И слышат наши разговорыЛишь дождь да Воробьёвы горы,Да лодка на Москве-реке.Мы многого от жизни ждём,Судьбу с надеждою встречаем…А счастья и не замечаем,Вдвоём гуляя под дождём.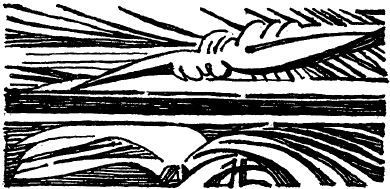
Памятник Ломоносову
Среди студенческой оравы,Где каждый в споре смел и зол,Сидит задумчивый и правый,С трудом затиснутый в камзол.Толпа гудит в чаду и дыме,Царит студенческий невроз.Он возвышается над ними,Как будто в землю эту врос.Верней не врос, а вырос, вышелИз недр, как древо из земли.Он всех устойчивей и вышеИ видит скрытое вдали.… Он всё на облако косится,Что мчит, как льдина по реке.И весит ровно пуд косицаВ его чугунном парике.Толпа выходит из читален,Звенит пронзительный звонок.… А он, как мамонт, колоссаленИ, как вершина, одинок.Библиотека
А я бы хотела остаться навекиВ разреженном воздухе библиотеки,Тома поглощая от корки до корки,Где правит директор – божественный Хорхе[2],Где мы затевали бы странные игры,Где бродят меж полок бумажные тигры,Рождённые миру из недр ротапринта,Где царствует вечность внутри лабиринта,Где кожею пахнет старинной и клеем,Где к книге нечитанной мы вожделеем,Где пылью веков с наслаждением дышимИ сами слова бесконечные пишем.Худое и бледное книжное племяОставит в тетрадях чернильное семя,А там разрастутся кустарники строчек,Листками распустится бред одиночек,И сгинут в таинственных дебрях бумагиТворений своих чёрно-белые маги.* * *Нить проводов тянули Парки,И, словно споря с темнотой,Возник цветок электросваркиБлестящей розой золотой.А стаи звёзд, как шпроты в масле,Свои убрали плавники.И только падали гаслиНа чёрном небе лепестки.Они дрожали и пугали,Кружась сверкающей пургой,И в небе дырки прожигали,Как в тёмной ткани дорогой.И мне хотелось бы сверканьемГлаза ожечь, когда темно.И пусть коротким замыканьемМне жизнь закончить суждено,Но всё равно над тусклой прозой,Над всякой пошлой суетойСгореть блистающею розой,Дрожащей розой золотой.Шкатулка Москвы
К.С.
Шкатулка Москвы – сколько камушков разныхХранится под крышкой резной!О, сколько прогулок, прекрасных и праздных,И в дождик, и в холод, и в зной!Шкатулка Москвы – этот грохот скаженный,Чугунного грома литьё.Но вот на ладони Василий БлаженныйСияет – блаженство моё!О, сколько колёсиков, шариков, втулок —Бесценных сокровищ ребят.Ах, твой полирован любой переулокМоими ногами, Арбат!Назначим свиданье с грядущим туманным,Где нас осеняет Поэт.Мне памятник Пушкина стал талисманом,Его драгоценнее нет.Сверкая Садовым кольцом изумрудным,Надетом на пальце моём,С тобою бульваром пройдём ЧистопруднымМы, за руки взявшись, вдвоём.В шкатулке старинных диковин останки,Осколки, обломки потерь…Рассыпаны где-то Солянки, Полянки,Ордынки – найди их теперь!В ней место огней разноцветным стекляшкамИ луковкам всем золотым.Пройдёмся с тобою мы Сивцевым Вражком,Как будто музей посетим.Шкатулкой Москвы, знаю, будешь доволенИ к новым восторгам готов.Поди сосчитай, сколько в ней колоколен,И вычисли, сколько мостов!Шкатулку Москвы для тебя распахну я,Тебе насовсем отдаюТакую цветную, такую земную,Родную столицу мою!Романс о первом снеге
Ранний снег – до чего целомудренный! —Куполов осеняет чело.Это утро, как праздничный утренник,Так старательно, чисто, светло.Снег карнизы и крыши покрыл уже,Чтобы мы любоваться могли.Бел, как перья из ангельских крылышек, —Даже страшно коснуться земли!Мир фильтрует (как будто Чистилищем),В нас безжалостно всё перерыв,И порхает балетным училищем,Расшалившимся вдруг в перерыв.Молит нас, чтоб его не запачкали!И в круженье стремительных паЧуть колышет воздушными пачкамиМимолётных снежинок толпа.Станет вечер блистательным ВоландомНас пугать и стирать в порошок…Но покуда ментоловым холодомСтудит губы бесплотный снежок.Что за чудо! Чуть-чуть подморозило.Поцелуи касаются век.И блестит Лебединое озеро.Первый раз. Первый шаг. Первый снег.Ледяное окно
О, мир, как на слайдах, цветной, слюдяной,Глядит из окна сквозь наплыв ледяной.О, зимняя сказка воздушной души!В замёрзшем окошке глазок продыши,Глазок продышиИ уйти не спеши.В глазах он дрожит стрекозиным крылом,И ломит хрусталик стеклянный излом,И, радужной плёнкой сверкая в глазах,Вдруг мир расплывается в тёплых слезах.Слезы не утриИ в глаза посмотри.Волшебный фонарь или чудный мираж,В окошке моём разноцветный витраж.По плоскости гладкой укатанных зимС тобой без оглядки куда-то скользим.На санках с горыВ ледяные миры.Подышишь, и тает стекло изо льда…Изольда – любви ледяная звездаВ причудливых линиях видится мне,И плачут цветы ледяные в окне.Две капли в окне,Две искры в огне,Два вздоха во снеО тебе, обо мне.Анемоны
Апельсины и лимоныВсе спешат купить к столу.Продаются анемоныЗа аптекой на углу.Вместо мяса, вместо сыраПодержите их в руках.До чего свежо и сыроВ этих нежных лепестках!Но бежит народ московский,Нескончаемый поток.А цветочница в киоске —Зимний зябнущий цветок.Та же хрупкость и недужность,Та же бледность с синевойИ такая же ненужностьДля людей на мостовой.И идёт торговля вяло…Неужель судьба ждала,Чтоб вот так она увяла,Словно в клетке из стекла?Все спешат к универмагу…Кто сумел бы по путиЗавернуть её в бумагуИ с собою унести?
Прогулка с собакой
Кустарник инеем порос,Дымится голубой мороз,Идём мы рядом в поздний час —Твой пёс гулять выводит нас.О, поцелуя холодок!Ты отпускаешь поводок.Я брошу палку, чтобы пёсЗачем-то нам её принёс.Слились дыханья на ветру…Пёс хочет продолжать игруИ ждёт нас царственно красив,Как изваяние, застывНа фоне ночи ледяной,Облитый ртутною луной.Дырявит снег алмазный ток,Когда струю пускает дог.И бесподобный карий глазКосит презрительно на нас.В кафе
В дешёвом уюте, в московском кафе,Где странные люди сидят подшофе,Где официантам не выскажут «фе»,Но всё же ни дня без скандала,Шофёры в шарфах всевозможных цветов,Красавцы южане усатей котовИ с ними девицы известных сортовСидят, развалившись устало.Где воздух тоскою и кухней пропах,И где подливают в отчаянье страхСтарухи с помадой на дряхлых губах,На гуще кофейной колдуя,Где смутные мысли, бессвязная речь,Где юные пары с кудрями до плеч,Где ждут роковых и рискованных встреч,Волнующих кровь молодую.О, где я – на дне иль в горячечном сне?Но истина тонет в креплёном вине.И что ещё может привидеться мнеНа этой сверкающей свалке?Здесь улей пчелиный иль птичий базар,Где празднуют что-то корсар и гусар,Где старый полковник в отставке – швейцарСурово стоит в раздевалке.А я за тобою в огонь и бедуВсему вопреки обречённо иду.Ты мой проводник, как Вергилий в аду,Устало присевший за столик.Здесь чувства застыли на крайней черте,Здесь теплится жизнь в мировой пустоте,И здесь забывает о мёртвом холстеХудожник один – алкоголик.Понять бы зачем мы приходим сюда?А в небе звезда, в океане вода,И мы затерялись с тобой навсегдаВ бездонной Вселенной огромной…С подносами бледные тени снуют,А им чаевые небрежно суют.Кафе городское, казённый уют,Приют вечной страсти бездомной.Иллюзион
Я помню, как давным-давноМы шли с тобою из киноИ затевали бурный спор(Не поумнели мы с тех пор),Хоть было жаль смеяться намСквозь слёзы старых мелодрам.А нам вослед глядел сквозь сонКинотеатр «Иллюзион».И замедляло время бег,И под ногами таял снег,И трогал нас озябший видЗаплаканных кариатид.Два бедных пасынка зимы,Зачем так горячились мы,Зачем, дурачась и остря,Мы столько слов бросали зря?Зачем, не склонные к слезам,Не дали говорить глазамНеповторимою зимой,Как в мелодраме той немой?* * *Мой милый, без вести пропавшийВ декабрьском сне (О главном помните!),В Москве, морозами пропахшей,В душе моей – бездонном омуте.Мой друг, кудрявый и картавящий,Не притворялась – притворялаГлаза. Какого я товарищаНашла! А твёрдость потеряла.Мой нежный, мой пропавший без вести(О, не сдержать сердцам испуг свой!),Был Пушкинский музей убежищемДвух душ – погреться у искусства.Всё поровну – с тобою квиты мы.Не притворялась – претворялаВ стихи. Со свитками, со свитами,Со свистом билась и шнырялаМетель. За ледяными игламиКо мне ты тянешь кроткий рот свой.Заигрывалась – не заигрывала.Декабрь, безвременье, банкротство.Москва загадочна, заснежена,Слезам не верит, пустословью.О, как измучена, изнеженаЯ лучшею твоей любовью.Мой вечный юноша, мой умница,Утешить незачем и нечем.О, лёд и месяц, ночь и улица,Метель и темень, чёт и нечет!Как по подстилке белой войлочной,Вчера и завтра, и сегодняИдём Москвою вечно-ёлочнойВ огнях, Москвой предновогодней.Метель, мелькание, метание…Но разве скажешь: «Что такого?»,Когда в душе сплошное таянье.Прощай, период ледниковый!