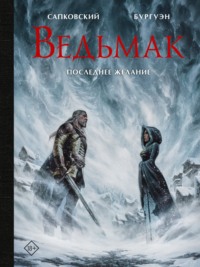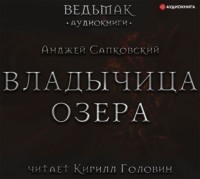Полная версия
Божьи воины
– Неплах?
– Что?
– Ты все время приказываешь за мной следить, твои шпики постоянно ходят за мной по пятам. И долго это будет продолжаться?
– А что?
– Мне кажется, в этом нет необходимости…
– Рейневан, я тебя учу, как ставить пиявки?
Они помолчали. Флютек то и дело поглядывал на обрезанную веревку, свисающую с балки.
– Крысы, – задумчиво сказал он, – бегут с тонущего корабля. Не только в Силезии крысы готовят заговоры по грангиям и замкам, пытаются заполучить заграничных покровителей, лижут задницы епископам и герцогам. Потому что их корабль тонет, потому что страх-то – вот он, у самой жопы, потому что приходит конец тщетным надеждам. Потому что мы идем вверх, а они летят вниз, в клоаку. Корыбутович скопытился, под Усти погром и резня, ракушцы разбиты наголову и уничтожены под Цветтлем, на Лужицах пожары аж до самого Згожельца. Угерский Брод и Пресбург в ужасе, Оломунец и Тырнава трясутся за своими стенами. Прокоп торжествует…
– Пока что.
– Что «пока что»?
– Там, под Стжибором… В городе говорят…
– Я знаю, что говорят в городе.
– На нас надвигается крестовый поход.
– Нормально.
– Кажется, вся Европа…
– Не вся.
– Восемьдесят тысяч вооруженных людей…
– Ерунда. Самое большее – тридцать…
– Но говорят…
– Рейневан, – спокойно прервал Флютек, – подумай. Если б было действительно опасно, ты бы меня здесь видел?
Какое-то время помолчали.
– Впрочем, в любой момент, – проговорил шеф таборитской разведки, – все станет ясно. Услышишь.
– Что? Как? Откуда?
Неплах успокоил его жестом. Указал на окно. Показал, чтобы он прислушался.
Заговорили пражские колокола.
Начало Нове Място. Первой была Мария на Газоне, сразу за ней Слованы на Эмаузах, затем ударили колокола церкви Святого Вацлава на Здеразе, к хору присоединился Стефан, за ним Войцех и Михаил, после них звонко и певуче – Дева Мария Снежная. Чуть погодя наполнилось колокольным звоном Старе Място – первым заговорил Исаак, за ним Гавел, наконец, громко и торжественно, храм Тынский. Потом раззвонились колокольни Градчан – у Бенедикта, у Георгия, у Всех Святых. Наконец, самый благороднейший, самый глубокий, самый бронзовый, ударил и поплыл над городом голос колокола Кафедрального собора.
Злата Прага пела колоколами.
На Староместском рынке была чудовищная суматоха и толкотня. К ратуше валила масса народа, у ворот клубилась толпа. Колокола продолжали звонить. Стоял необычный хаос. Люди толкались, перекрикивали друг друга, жестикулировали, вокруг виднелись только потные, красные от натуги и возбуждения лица, разверстые рты. Лихорадочно горящие глаза.
– В чем дело? – Рейневан схватил за рукав какого-то воняющего мокрой кожей кожевенника. – Известия? Есть известия?
– Брат Прокоп разбил крестовников под Таховом! Наголову разбил, разгромил!
– Был крупный бой?
– Какой там бой? – крикнул рядом тип, выбежавший, видимо, прямо от цирюльника, лицо было наполовину намылено. – Какая там битва! Драпанули! Во всю прыть! В панике! Паписты бежали!
– Бросили все! – взвыл какой-то возбужденный подмастерье. – Оружие, пушки, добро, провизию! И драпанули! Драпанули от Тахова! Брат Прокоп победитель! Чаша – победительница!
– Что вы плетете? Сбежали? Без боя?
– Бежали, бежали! И когда бежали, наши их жутко посекли! Тахов окружен, паны из Ландфрида окружены в замке. Брат Прокоп крушит стены бомбардами, не сегодня-завтра захватит город! Брат Якубек из Вжесовиц гонит и громит господина Генриха фон Плейена!
– Тихааааа! Тише все! Идет брат Ян!
– Брат Ян! Брат Ян! И советники!
Ворота ратуши распахнулись, на ступени вышла группа людей.
В голове шел Ян Рокицана, пробощ от Марии Перед Тыном, невысокий, с благородным, чтобы не сказать – воодушевленным лицом. И нестарый. Ведущему идеологу утраквистской революции было тридцать пять лет. На десять больше, чем Рейневану. Рядом со своим уже знаменитым учеником, тяжело дыша – одышка! – шел Якобеллус Стжыбский, университетский мэтр. Отставая на шаг, держался Питер Пайн, англичанин с лицом аскета. Дальше шли староградские советники – могучий Ян Велвар, Матей Смоляр, Вацлав Гедвика. И другие.
Рокицана остановился.
– Братья чехи! – крикнул он, воздевая обе руки. – Пражане! Бог с нами! И Бог над нами!
Рев толпы сначала возвысился, потом опал, утих. Колокола церквей один за другим умолкали. Рокицана не опускал рук.
– Повержены, – крикнул он еще громче, – еретики! Те, которые обесчестили Святой Крест, возложив его по наущению Рима на свои преступные латы. Постигла их кара Божья. Виктория в руках брата Прокопа!
Люди заревели в один голос, послышались крики «ура». Проповедник успокоил толпу.
– Хоть нашли на нас орды адовы, – продолжал он, – хоть протянули к нам окровавленные когти Вавилона, хоть вновь угрожала истинной религии ярость римского антихриста, Бог над нами! Господь Небес простер свою десницу, дабы уничтожить силу вражью! Тот самый Господь, коий утопил войска фараона в Чермном море, который принудил к бегству от Гедеона неисчислимые полчища мадианитян! Господь, ангел коего за одну ночь побил сто восемьдесят пять тысяч ассирийцев. И тот же Господь Небес поразил страхом сердца врагов наших! Как войска святотатца Сеннахерима[26] убегали от Иерусалима, так пораженная ужасом папская банда разбежалась в панике из-под Стжибора и Тахова!
– Как только узрели, – тоненько вторил ему Якобеллус, – слуги дьявольские Чашу на знаменах брата Прокопа, как только услышали хорал Божьих воинов, разбежались в панике так, что и двух вместе не осталось! Были они как прах, разметаемый ветром[27].
– Deus vicit! – крикнул Питер Пайн. – Veritas vicit![28]
– Te Deum laudamus![29]
* * *В тот вечер, четвертого августа 1427 года, Прага громко и шумно праздновала победу, пражане сумасшедшим спонтанным праздником отыгрывались за недели страха и неуверенности. Пели на улицах, плясали вокруг костров на площадях, пили в садах и дворах. Самые религиозные чтили Прокопову викторию во время молений, осуществляемых impromptu[30] во всех пражских церквях. У менее религиозных был на выбор широкий круг других мероприятий. Всюду – в Старом и Новом Мясте, все еще в основном остающейся пепелищем Малой Стране, на Градчанах, – почти всюду корчмари отмечали победу над круцьятой тем, что всем желающим давали даром, за счет заведения, и предлагали еду. По всей Праге вылетели из бочек и бочонков пробки и затычки, запахли мясом решетки, шампуры и котлы. Как обычно, ловкие кабатчики воспользовались оказией, чтобы, прикрывшись щедростью, освободиться от продуктов, готовых вот-вот прокиснуть либо испортиться, а также тех, которым это уже не грозило. Но кто станет обращать внимание! Крестовники разбиты! Опасность миновала. Ликуй, народ!
По всей Праге веселились и пили. Возглашали тосты в честь мужественного Прокопа Голого и Божьих воинов и на погибель сбежавшим из-под Тахова крестоносцам. В особенности главы похода Оттона фон Цигенхайма, архиепископа Тревира, желали, чтобы по дороге домой он сдох или по крайней мере заболел. Распевали заранее сложенные куплеты о том, как при виде Прокоповых знамен папский легат Генрих де Бофор от страха наклал в портки.
Рейневан присоединился к веселью. Вначале на Староместском рынке, потом вместе со случайной – и довольно многочисленной – компанией перебрался на Перштын. В корчму «Под медвежонком» неподалеку от церковки Святого Мартина-в‐Стене. Потом развеселившееся братство переправилось на Нове Място. Прихватив по пути несколько пьяниц с кладбища у Девы Марии Снежной, выпивохи двинулись на Конский Тарг. Здесь поочередно посетили два заведения – «Под белой кобылой» и «У Мейзлика».
Рейневан верно сопровождал компанию. Сам, что тут говорить, жаждал утехи празднования, откровенно радовался таховским победам и меньше опасался за Шарлея. Маршрут его устраивал, ведь жил он на Новом Мясте. А на Суконническую, в аптеку «Под архангелом», где надеялся встретить Самсона Медка, пойти не мог. Это намерение он решительно отверг. Боялся раскрыть тайную квартиру и деконспирировать чешских алхимиков и магов. А то и подвергнуть их кое-чему еще более страшному. А такой риск существовал. В веселящейся толпе «Под кобылой» несколько раз мелькнула серая фигурка, серый капюшон и серое лицо шпика. Флютек, это было ясно, никогда не отказывался от задуманного.
Поэтому Рейневан веселился, но скромно, не перебирал с выпивкой, хотя принятые на Суконнической магические декокты делали его почти невосприимчивым ко всяческим токсинам, в том числе и к алкоголю. Однако в конце концов решился покинуть компанию. Веселье «У Мейзлика» уже доходило (а частично даже дошло) до того этапа, который Шарлей называл: «Вино, песни». Женщины были неслучайно исключены из перечня.
Рейневан вышел на улицу, вздохнул. Прага утихала. Отголоски буйных забав понемногу уступали место хорам надвлтавских лягушек и сверчков в монастырских садах.
Он направился в сторону Конских ворот. Из домов и подвальчиков, мимо которых он проходил, сочились кислые ароматы, слышался звон посуды, девичьи попискивания, уже немного туповатые выкрики и все менее стройное пение.
Ja řezník, ty řezník, oba řezníci Pudem za Prahu pro jalovici Jak budu kupovat, ty budeš smlouvat Budem si panenky hezky namlouvat!Повеял ветерок, неся запахи цветов, листьев, тины, дыма и бог весть чего еще.
И крови.
Прага продолжала смердеть кровью. Рейневан постоянно чувствовал этот преследующий, не покидавший его смрад. И вызванное этим смрадом беспокойство. Прохожие встречались все реже. Неплаховых шпиков поблизости видно не было. Но беспокойство не проходило.
Он свернул на Старую Пасижскую, потом с Пасижской на улицу, носившую название «В Яме». Мысли его уносились к Николетте, к Катажине Биберштайн. Он думал о ней неотрывно и результаты не замедлили сказаться. Воспоминания вставали перед глазами такими живыми и реальными, с такими деталями, что в конце концов это стало просто невыносимо. Рейневан невольно остановился и осмотрелся. Невольно, потому что ведь знал: все равно идти некуда. Уже в августе 1419 года, всего через двадцать дней после дефенестрации, в Праге прикрыли все до единого бордели, а всех до единой веселых девиц изгнали за пределы городских стен. Во всем, что касалось строгости нравов, гуситы были чрезвычайно суровы.
Реалистические и очень детальные воспоминания о Катажине вызвали и другие ассоциации. Хозяйкой жилья в доме на углу улиц Святого Стефана и На Рыбничке, которые Рейневан делил с Самсоном Медком, была пани Блажена Поспихалова, вдова, изобилующая прелестями женщина с милыми голубыми глазами. Глаза эти несколько раз останавливались на Рейневане столь выразительно, что он начал подозревал ее милость Блажену в желании свершить, а может, и свершать далее то, что Шарлей привык весьма пространно именовать «связью, зиждящейся исключительно на страсти к слиянию, не санкционированному Церковью». Остальная часть мира называла это гораздо короче и значительно сочнее. А к столь сочно определяемым вещам гуситы, как уже сказано, относились чрезвычайно сурово. Обычно, правда, это делали скорее напоказ, но ведь никогда не известно заранее, из чего и из кого исполнители пожелают сделать объект демонстрации. Поэтому, хоть Рейневан и понимал взгляды ее милости Блажены, тем не менее делал вид, будто не понимает. Частично из нежелания навлечь на свою голову неприятности, частично – и это даже скорее – из желания сохранить верность своей возлюбленной Николетте.
Из задумчивости его вывело яростное мяуканье, из темного проулка справа выскочил и помчался по улице рыжий котище. Рейневан немедленно ускорил шаг. Кота вполне могли спугнуть шпики Флютека. Но это могли быть и обычные грабители, поджидающие одинокого прохожего. Смеркалось, пустело, а когда становилось темно, новомястские улочки переставали быть безопасными. Особенно теперь, когда большую часть городской стражи призвали в армию Прокопа, не следовало в одиночку болтаться по Новому Мясту.
По сему случаю Рейневан решил покончить с одиночеством. В нескольких шагах перед ним шли двое пражан. Чтобы их догнать, надо было как следует поднапрячься, они шли быстро, а услышав звуки его шагов, заметно заторопились. И резко свернули в переулок. Он вошел вслед за ними.
– Эй, братцы, не пугайтесь! Я только хотел…
Они обернулись. У одного рядом с носом был набухший гноем нарыв. А в руке нож, обычный мясницкий нож. Другой – пониже, крепенький – был вооружен тесаком с изогнутой ручкой. И это были не шпики Флютека.
Третий, тот, который шел следом, спугнувший кота, седоватый, шпиком не был тоже. Он держал дагу[31], тонкую и острую, как игла.
Рейневан попятился, прижался спиной к стене. Протянул грабителям свою медицинскую сумку.
– Господа… – пробормотал он, звеня зубами. – Братцы… Берите… Больше у меня ничего нет… Сми… Сми… Смилуйтесь… Не убивайте…
Морды грабителей, до того жесткие и напряженные, расслабились, расплылись в презрительных гримасах. В глазах, до того холодных и настороженных, появилась пренебрежительная жестокость. Они подошли, поднимая оружие, к легкой и достойной презрения жертве.
А Рейневан перешел ко второй фазе. После психологической прелюдии a la Шарлей пришло время использовать другие методы. Которым он научился у других учителей.
Первый тип совершенно не ожидал ни нападения, ни того, что получит медицинской сумкой прямо в прыщеватый нос. Второй получил удар ногой по голени. Третий, тот, крепенький, удивился, когда его тесак рассек воздух, а сам он рухнул на кучу мусора, споткнувшись о ловко подставленную ногу. Видя, что остальные двое прыгают к нему, Рейневан бросил сумку, мгновенно выхватил из-за пояса стилет, нырнул под руку с ножом, применил рычаг из запястья и локтя, точно так, как учила «Das Fechtbuch» авторства Ганса Тальхоффера. Толкнул одного противника на другого, отскочил, напал с фланга финтом, рекомендуемым в подобных случаях «Flos duellatorum»[32] пера Фьоре да Чивидале, том, посвященный драке на ножах, глава первая. Когда грабитель механически высоко парировал, Рейневан коротко хватанул его по бедру – в соответствии с главой второй того же справочника. Грабитель взвыл, упал на колено. Рейневан отпрыгнул, одновременно ударив ногой того, который поднимался с кучи мусора, снова отскочил от удара, прикинулся, будто спотыкается, теряет равновесие. Седоволосый грабитель с дагой явно не читал классиков и не слышал о финтах, потому что ринулся в резкое и бестолковое нападение, целясь в Рейневана как цапля клювом. Рейневан спокойно подбил ему предплечье, подвернул руку, схватил, как учила «Das Eechtbuch», за плечо, блокировал, припер к стене. Стремясь высвободиться, разбойник нанес левым кулаком резкий удар – угодив прямехонько на острие стилета, подставленного в соответствии с указаниями «Flos duellatorum». Узкое лезвие вошло глубоко, Рейневан слышал хруст рассекаемых костей кисти. Грабитель тонко завизжал, рухнул на колени, прижимая к животу раненую руку.
Третий нападающий, тот, крепкий, быстро шел на него, криво размахивая тесаком, наискось, лево‐право, очень опасно. Рейневан пятился, парируя и отскакивая, выжидая какой-нибудь рекомендуемой справочниками позиции либо положения. Но ни Meister Тальхоффер, ни messer Чивидале в тот день ему уже не пригодились. Из-за спины грабителя с тесаком неожиданно выдвинулось нечто серое, в сером капюшоне, серой куртке и серых штанах. Свистнула выточенная из светлого дерева палка, глухим ударом извещая об энергичном контакте с затылком. Серый был очень быстр. Прежде чем грабитель упал, он успел садануть его еще раз.
В переулок вошли Флютек и несколько его агентов.
– Ну и что? – спросил он. – Ты все еще считаешь, что нет поводов за тобой следить?
Рейневан глубоко дышал, открытым ртом ловил воздух. В глазах потемнело так, что пришлось прислониться к стене.
Флютек подошел, пригляделся, наклонившись к постанывающему разбойнику с перебитой рукой. Быстрыми движениями сымитировал примененный Рейневаном немецкий блок и итальянский контртолчок.
– Ну-ну, – одобрительно и одновременно недоверчиво покрутил он головой. – Ловко сделано, ловко. Кто бы подумал, что ты натренируешься аж до такой степени. Я знал, что ты ходишь к фехтовальщицкому мастеру. Но у него две дочки. Поэтому я полагал, что ты тренируешься с одной из них. А может, и с обеими.
Он дал знак связать стонущего и окровавленного, поискал глазами того, который получил в бедро, но тот, оказывается, успел под шумок сбежать. Приказал поднять получившего удар палкой. Тот все еще был ошеломлен, пускал слюну и никак не мог сфокусировать взгляд. Глаза у него разбегались и все время норовили уплыть куда-то в глубь черепа.
– Кто вас нанял?
Грабитель закосел и хотел сплюнуть. Не получилось. Флютек кивнул, грабитель получил палкой по почкам. Когда он со свистом втягивал воздух, получил снова. Флютек небрежно махнул рукой, дал знать, чтобы его забрали.
– Скажешь, – пообещал он на прощание. – Все скажешь. У меня не было такого, который бы молчал. Спрашивать, – Флютек повернулся ко все еще опирающемуся о стену Рейневану, – догадываешься ли ты, значило бы оскорблять твой интеллект. Поэтому спрошу так: ты догадался, чья это работа?
Рейневан кивнул. Флютек тоже кивнул. Одобрительно.
– Убийцы скажут. У меня не было такого, кто молчит. У меня в конце концов говорил даже Мартинек Локвис, а твердый и упрямый был коротышка, идейный, истинный мученик за свое дело. Паршивцы, нанятые за несколько довоенных грошей, расскажут все, как только увидят инструменты. Но я все равно прикажу их припекать. Из чистой симпатии к тебе, их несостоявшейся жертве. Благодарить не надо.
Рейневан не поблагодарил.
– Из чистой симпатии, – продолжил Флютек, – я сделаю для тебя еще кое-что. Позволю лично, своей собственной рукой отомстить за брата. Да, да, ты верно слышишь. Не благодари.
Рейневан не поблагодарил и на этот раз. Впрочем, слова Флютека еще не вполне до него доходили.
– Через некоторое время к тебе обратится мой человек. Скажет, чтобы ты отправился на рынок, к дому «Под золотой лошадкой», тому, в котором мы сегодня с тобой беседовали. Приди туда незамедлительно. И возьми с собой арбалет. Запомнил? Хорошо. Пока.
– Пока, Неплах.
Дальше все прошло без каких-либо приключений. Уже совсем стемнело, когда Рейневан добрался до угла Щепана и На Рыбничке, к дому с комнаткой в мансарде, которую они вместе с Самсоном Медком снимали у пани Блажены Поспихаловой.
Насчитывающей каких-нибудь тридцать лет вдове Поспихала, requiescat in pace[33]. И Бог с ним, кем бы он ни был, что делал, как жил и за что умер.
Осторожно открыв калитку в садик, он вошел в сени, где стояла тьма хоть глаз коли. Постарался, чтобы дверь не скрипела, а ступени старой лестницы не потрескивали. Он старался так делать всегда, возвращаясь в темноте. Не хотел будить пани Блажену. Немного опасался последствий, к которым могла привести встреча с пани Блаженой, случись таковая во мраке.
Ступенька вопреки его стараниям затрещала жутко. Раскрылась дверь, повеяло лавандовой водой, розой, вином, воском, повидлом, старым деревом, свежевыстиранной постелью. Рейневан почувствовал, как шею ему оплетают пухлые руки, а полные груди притискивают к перилам лестницы.
– Мы сегодня празднуем, – шепнула ему прямо в ухо пани Блажена Поспихалова. – Сегодня праздник, мальчик.
– Пани Блажена… Разве… Надо…
– Тише. Пошли.
– Но…
– Тише.
– Я люблю другую!
Вдова втянула его в эркер, толкнула на ложе. Он погрузился в пахнущие крахмалом пучины перины, утонул, лишенный сил пухлой мягкостью.
– Я… люблю… другую…
– Ну и люби себе на здоровье.
Глава вторая,
в которой Флютек сдерживает слово, Гинек из Кольштейна дарит Праге святой покой, а история ранит и калечит, принуждая медиков тяжко трудиться
Флютек сдержал слово, совершенно поразив этим Рейневана.
Прошел месяц после того разговора – со дня праздника по случаю победы под Таховом. После нападения. И после инцидента с пани Блаженой Поспихаловой, случившегося в ночь с четвертого на пятое августа. Инцидент с пани Блаженой, что уж тут скрывать, повторился потом еще несколько раз и в принципе доставил Рейневану больше приятного, нежели неприятного. К первому относились – в частности – вкусные и обильные обеды, которыми после пятого августа пани Блажена потчевала своих постояльцев. Рейневан и Самсон, до того питавшиеся нерегулярно и скудно, после четвертого августа стали ходить по своим делам сытыми и вполне довольными жизнью, мило улыбались ближним и весело посвистывали, припоминая вкус булочек, сыра, зеленого лука, печеночки, огурчиков и яичницы с тертым сельдереем. Яичницу с сельдереем пани Блажена подавала особенно часто. Яйца, говаривала она, одаряя Рейневана голубыми как альпийские эдельвейсы взглядами, повышают силу. А сельдерей, добавляла она, усиливает желание.
Спустя месяц после тех событий, уже в сентябре, шестого, в субботу перед Рождеством Девы Марии, когда Рейневан и Самсон уплетали яичницу с сельдереем, в дом тихо, как серая тень, явился знакомый Рейневану серый типчик в серых штанах.
– Его милость ожидают, – проговорил он тихо. – В «Золотой лошадке». Сейчас же, господин.
Пражские улицы были исключительно малолюдны, даже пустынны. Чувствовалось напряжение, пульс города был нервным, беспокойным и прерывистым. Крыши блестели от дождя, прошедшего перед рассветом.
Они молчали. Самсон Медок заговорил первым.
– Почти точно два года назад, – сказал он, – мы были в Зембицах. Восьмого сентября 1425 года ты прибыл в Зембицы. С благородным намерением спасти возлюбленную. Помнишь?
Вместо того чтобы ответить или прокомментировать, Рейневан пошел быстрее.
– За эти два года ты подвергся существенным метаморфозам, – не сдавался Самсон. – Сменил – дело немалое – религию и мировоззрение. Защищая то и другое, ты порой ходил в бой с оружием в руках, порой позволял политикам, шпионам и мерзавцам использовать себя. И руководила тобой уже не возвышенная идея спасения любимой, а нечто совсем иное: слепая месть. Месть, которая, если даже каким-то чудом она настигнет действительно виновных людей, все равно не вернет жизнь твоему брату.
Рейневан остановился.
– Мы это уже обсуждали, – твердо ответил он. – Мои мотивы тебе известны. И ты обещал помочь. Поэтому я не понимаю…
– Почему я к этому возвращаюсь? Потому что к такому всегда стоит возвращаться. Всегда стоит повторять. А вдруг да подействует, а вдруг у человека откроются глаза и разум восторжествует. Но ты прав. Я обещал помочь. И помогу. Пошли.
У ворот Святого Гавла – удивительное дело – не было стражи. Ни одного вооруженного. Это выглядело весьма странно, поскольку и ворота, и мостик над рвом были главной связью между Новым и Старым Городом, а отношения между районами бывали порой настолько напряженными, что это оправдывало содержание при воротах вооруженных отрядов. Сегодня не было никого, проход под аркой ворот был совершенно пуст. Как бы приглашал войти. Неискренне. Как ловушка.
Пустовато было и на улочках за Святым Гавлом, обычно заполненных лавчонками и прилавками, удивительная тишина стояла на Рыбном рынке. А Староградский рынок будто вымер. Две собаки, одна кошка и штук тридцать голубей в согласии и гармонии пили воду из лужи около позорного столба, не обращая внимания на немногочисленных прохожих, крадущихся вдоль стен домов.
Блестели омытые дождем шары на башенках Тынского храма. Словно золотой трезубец горела башня ратуши, как всегда скрежетал, звенел и что-то указывал ратушевый горологиум – башенные часы. Как обычно, не очень-то было ясно, что указывал, зачем указывал и сколь точно указывал. Судя по положению солнца, только что миновала терция.
Флютек ожидал в доме «Под золотой лошадкой», в той же комнате, что и раньше. Однако на сей раз обошлось без висельника.
Стоя у окна, таборитский главный шпион выслушивал донесения людей, выглядевших агентами, а также людей, агентами не выглядевших. Увидел Рейневана. Поморщился при виде Самсона.
– Пришел?
– Пришел.
– Арбалета не взял, – кисло заметил Неплах. – Возможно, оно и лучше. Еще стрельнул бы во что-нибудь. А что, твой дурачок обязательно должен присутствовать?
– Не должен. Спустись вниз, Самсон. И жди.
– Встань туда, – приказал Флютек, когда Самсон вышел. – Там, у окна. Стой, молчи, наблюдай.
Он стоял, молчал, наблюдал. На рынке по-прежнему было пусто. У лужи при позорном столбе чесалась собака, кошка вылизывала хвост. Голуби топтались по краю воды. Откуда-то со стороны Унгельта и церкви Святого Иакова донеслись звуки рога. Чуть погодя такой же звук долетел с востока, от разрушенного Святого Клементия, бывшего монастыря бывших доминиканцев.






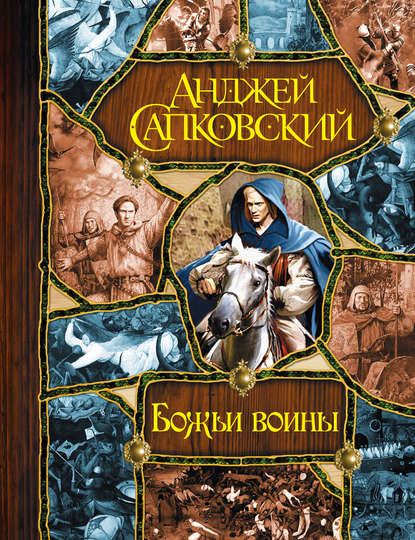
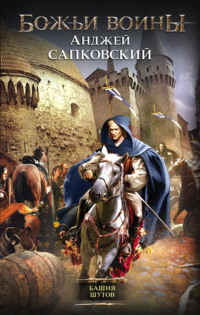
![Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]](/covers_200/8507783.jpg)