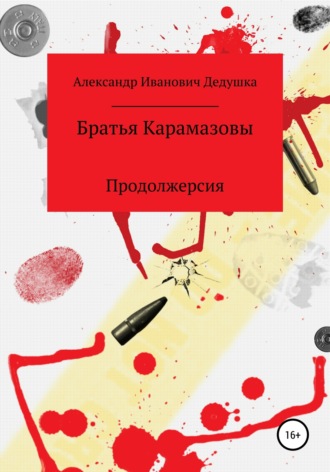 полная версия
полная версияБратья Карамазовы. Продолжерсия
Петр Ильич, как я уже упоминал, был не из робкого десятка, а в таких случаях он вообще действовал автоматически. Это как бы входило в его профессиональные обязанности и служило ему источником внутреннего самоуважения. Вот и сейчас он тут же рванулся вправо и через голову мещанина схватил обеими руками Муссяловича за его руку с револьвером. Причем, голова мещанина оказалась как раз между двумя руками Перхотина, так что тому долго потом виделись словно отпечатавшиеся на внутреннем экране души ошарашенные нежданным ужасом глаза этого подвернувшегося в дело мещанина. Схватившись за руку злоумышленника, Петр Ильич еще и вложив всю силу в этот рывок попытался сбить ее вниз. Но мешал мещанин, заоравший вместо славословию государю от страха благим матом. И выстрел все-таки прозвучал, впрочем единственный, не очень громкий и уже от сбитой и направленной вниз руки. И потому для государя не опасный. Перхотин, наконец, прорвавшийся через голову мещанина к Муссяловичу, только услышал краем уха чье-то словно от удивления:
– О-о-о-х!.. – и следом: – У-у-у!..
Пуля, выпущенная из револьвера Муссяловичем попала прямо в живот стоявшей неподалеку Маруси, на беду развернувшейся в этот момент телом навстречу всем этим крикам и звукам борьбы. Она и правда сначала, словно удивившись, всплеснула руками, а затем, схватившись за живот и все громче завывая, стала опускаться на землю. Впрочем, Перхотину было не до нее – он отчаянно, но профессионально боролся с террористом-злоумышленником. Ему удалось сначала свалить Муссяловича на земь, заломить ему руку с револьвером за спину, а затем болевым приемом заставить ее разжаться и отпустить револьвер. Когда к нему на помощь подоспели прорвавшиеся через толпу жандармы из оцепления, все уже было сделано. Муссялович, лежащий на земле почти без сознания от боли, был уже обезврежен Петром Ильичом и связан с заломленными руками его же собственным ремнем. Весь этот эксцесс произошел все-таки на значительном отдалении от государя и в таком шуме и криках, что возможно он и не понял, что на него в этот момент покушались. И только заволновавшиеся жандармы понудили его и всю свиту двигаться дальше, не задерживаясь на месте.
VII
прочие развязки и Алеша
Когда я мысленно раз за разом возвращаюсь к этому безумному дню, мне очень трудно отделить его события от всех последующих. Кажется, что этот день, как некий страшный спрут засосал в себя все предыдущее и последующее. Но как поставил себе целью описать эту роковые три дня, так уж доведу повествование об этом последнем из этих трех дней до конца.
Чтобы уж покончить с Перхотиным, скажу, что такой его героический поступок значительно возвысил его в общественном мнении, но странным образом не повлиял на его карьеру. Можно сказать, что спасение государя стало вершиной его нравственной карьеры, служебная при этом шла сама собой. Впрочем, тут нет никакой загадки. Никто не был заинтересован в том, чтобы на репутацию города легло такое черное пятно. Пятно покушения на государя-императора. И это неудавшееся покушение замяли. Кому надо пригрозили, кому надо заплатили – и как будто ничего не было. Маруся, правда, умрет через три дня, но так что ж – ее смерть совсем уж не трудно было списать на колики и несварение. А Ракитина, могущего прописать все случившееся в прессе, поблизости не оказалось, он вскоре станет жертвой нового покушения и уже на него самого и от того же самого Муссяловича. Впрочем, я забегаю вперед с Ракитиным, нужно проясниться с Муссяловичем, ибо и в этот день его история была продолжена самым невероятным образом. Он, оказывается, сбежал. Когда Перхотин узнал об этом, он даже, говорят, плакал и выл от досады, впрочем, его утешил сам Мокей Степаныч, приехавший к нему в присутствии и долго в чем-то убеждавший. После этого Петр Ильич уже никогда не рассказывал о произошедшем покушении – и в самом деле, как он мог это делать, если официально никакого покушения не было. У меня нет точных данных о том, как случилось это невероятное бегство, но самая правдоподобная версия следующая.
Отвезти Муссяловича к месту задержания почему-то поручили не жандармам, а двум не очень опытным полицейским. То ли жандармы посчитали инцидент несерьезным, то ли им запрещено было покидать строй, но факт оказался фактом. Видимо свой шанс смекнул и Муссялович, и он где-то на середине пути симулировал новый обморок. Когда его привели в чувство, сказал, что, мол, теряет сознание от боли – от сильно задранных и жестко перевязанных еще Перхотиным рук. Это ж насколько надо быть неопытным, чтобы в это поверить, но полицейские поверили, и когда Муссялович впал в очередную симулированную бессознательность, решили освободить ему руки, чтобы перевязать их уже спереди. Дальше все было несложно для такого опытного и злобного революционера как Муссялович. Он просто столкнул лбами обоих полицейских, да еще и с такой силой, что уже те едва не потеряли сознание и ориентацию, а когда пришли в себя, злоумышленника, разумеется, уже давно простыл след.
Но опять же и это происшествие оказалось кстати. Не было покушения, значит, не было и злоумышленника. Никому не хотелось отвечать за такую грандиозную оплошность, как бегство государева преступника, покусившегося на жизнь самой царственной императорской особы. Так что государь действительно едва ли узнал, что на его жизнь была под столь жестокой угрозой в нашем городе.
Впрочем, одно обстоятельство, случившееся уже вечером этого воскресенья, могло все же нарушить его покой. Когда вечером царский поезд уже отходил от воксала, под него бросились двое девушек. Это были Варвара Николаевна и Нина Николаевна Снегиревы. Даже они скорее не бросились, а легли на рельсы… Тут была не просто драма, а самая настоящая трагедия. Вернувшись домой после уничтожения тела Красоткина, Варвара Николаевна потеряла сознание и впала в полуобморочное состояние, так и не сказав бедной Ниночке о гибели ее мужа. Ниночка до утра и долго после ухаживала и выхаживала свою сестру, как могла и наконец выходила. Варвара Николаевна пришла в себя и только теперь жутко и страшно разрыдавшись, сообщила сестре о всем произошедшем. Далее настал черед непереносимых терзаний Ниночки. В отличие от Варвары Николаевны она не рыдала в голос, а просто упала на пол со своих костыликов и стала биться головой об пол и стену. Теперь настал черед отхаживаний со стороны Варвары Николаевны. Та ее оттаскивала от стены, пыталась уложить на кровать, но Ниночка снова и снова пыталась разбить себе голову, не в силах вынести постигшего ее горя. Но это полбеды. Окончательно обессилев и пролежав пару часов на кровати, уставившись в потолок, Ниночка снова схватилась за костылики, заявив, что идет на вокзал, чтобы броситься под поезд как Анна Каренина. Надо сказать, что этот еще не так давно появившийся роман писателя Толстого, был, оказывается, прочитан буквально за несколько дней до описываемых событий. Причем, они (Ниночка и Красоткин) читали его вместе, поочередно друг для друга и вместе согласились в том, что смерть Карениной была глупа и бессмысленна. Но сейчас, видимо, все стало по-иному. Начался новый этап трагедии. Варвара Николаевна еще несколько часов боролась с сестрой, чтобы удержать ее от этого страшного предприятия: держала, хватала, борола, отбирала костылики, пыталась запереть двери. Все было бесполезно: разбив окно, Ниночка, сама ужасно страдая и мучась от своей инвалидности, стала лезть через подоконник наружу. Варвара Николаевна опять бросилась в комнату, пытаясь задержать сестру, начиная новый раунд кошмарной борьбы. Так они боролись еще некоторое время, когда вдруг наступил переломный момент.
– Варя, зачем нам жить? Мы же обе любили его!.. – вдруг исступленно почти безумным голосом выкрикнула Ниночка, впервые вслух выговорив ту тайну, о которой обе сестры знали, но которую хранили друг от друга в глубочайших тайниках своих душ вплоть до этой трагической секунды.
И это признание сломило Варвару Николаевну. Она бросилась к Ниночке, и они еще с час прорыдали в объятиях друг друга, после чего уже в полном согласии стали собираться на вокзал, чтобы вместе совершить описанное в романе самоубийство. Но время уже поджимало. Дело было к вечеру, до воксала было далеко (Красоткины жили на противоположной окраине города), а Ниночка могла только хромать на своих костыликах. Взять извозчика не было никакой возможности – их не было, они все были расписаны и заняты прибывшими в наш город гостями. Сестры прошли Большую Михайловскую, Каретную, свернули в Вонючий переулок. Отсюда уже была прямая дорога до вокзала, причем нужно было идти по ведущему к нему (или от него) железнодорожному пути. Они не успели всего минут на пятнадцать, всего один поворот, когда их застал густой гудок отходящего от воксала поезда. Тогда они, отчаянно стуча Ниночкиными костыликами, рванулись к близкому уже пути и успели-таки к нему до прохождения поезда. Варвара Николаевна успела даже перемахнуть на другую сторону небольшой насыпи, так чтобы их с сестрой головы оказались на разных рельсах. Спасло сестер только то, что поезд еще не успел набрать должного ходу и кто-то, увидев Варвару Николаевну и Ниночку, еще до решающего поворота успел прокричать ничего не ведающим машинистам о лежащих на путях женщинах. Включив экстренное торможение, те успели остановиться совсем недалеко от сестер, – тех, впрочем, уже оттаскивали с насыпи спрыгнувшие с поезда жандармы.
Вот такие трагедии одна за другой потрясли наш город в этот кошмарный день. Причем еще одна из них завершилась смертью. В это воскресенье тоже ближе к вечеру на кладбище около могилы своего Илюшечки нашли мертвого нашего юродивого, бывшего штабс-капитана Снегирева. Поразительно, что он даже и мертвый стоял на четвереньках вокруг усыпанной цветочками могилки, как его часто в таком положении видели здесь и прежде. Только чуть привалился к оградке. Даже не сразу поняли причину смерти и только синие потеки на шее и сломанный внутрь кадык свидетельствовали о насильственном удушении. Насильственном в том смысле, что над ним совершили явное насилие, хотя сам Снегирев, как было видно и без экспертов, ничуть не сопротивлялся. Кстати, люди сразу связали попытку самоубийства сестер с гибелью их отца, хотя на самом деле, как мы знаем, они ничего об этом не знали.
Вспоминая сейчас этот день, мне казалось, что никогда конца не будет всем пошлым нелепостям и выходкам, трагическим и смертельным эксцессам…
– А что же Алеша? – спросите вы.
Читатель, конечно же, уже понял, что взрыва не было. Планируемое Алексеем Федоровичем чудовищное преступление по «плану Б» все-таки не состоялось. Когда Алеша сунул факел в мешок с динамитом, оттуда вместо взрыва раздалось тихое шипение погасающего огня. Заглянув в мешок и даже засунув туда руку, Алеша вместо взрывчатки обнаружил внутри самый обыкновенный песок. Застонав как смертельной боли (этот стон засвидетельствовали еще не успевшие отойти от могилы люди и истолковали как удивительное знамение), Алеша выхватил спрятанный в нише револьвер и бросился назад через проход наружу. Теперь к единственно возможной реализации оставался только план «В» – убийство царя в упор. Но, как только он откинул крышку люка и выскочил наверх, как тут же оказался сбит могучим ударом того самого жандармского капитана, кто организовал монастырское побоище. У него, как мы понимаем, не забалуешь, выходки, подобные той, что удались у Муссяловича, не мыслимы даже в теории, и Алеша был вскоре доставлен куда следует, а именно в наше тюремное заведение.
Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я
Книга десятая
в т ю р ь м е
I
тихий ужас
У нас конец ноября. Всю первую половину месяца бушевали бури и ветра с холодными дождями, и только сейчас вдруг резко подморозило. Даже не подморозило, а приморозило и сильно приморозило, чуть не до двадцати градусов, но пока совсем без снега. И разом упала какая-то тишина, мутная, ломкая, застывше-грязная и прямо безобразная со всей своей неприглядной наготой – наготой земли, деревьев, человеческих строений и даже наготой небесной, бездонно-серой и только густо залепленной по горизонту пластилиновыми слоистыми тучами. Если парой слов выразить настроение большинства наших скотопригоньевских жителей в это время, можно было бы сказать – «тихий ужас». Так много всего ужасного навалилось на их души, что они невольно им переполнились. Во-первых, эта эпидемия смертей: Ферапонт, Лизка, юродивый штабс-капитан Снегирев, Маруся Максенина… По поводу первых двух, как на старался Владыка Зиновий упрятать концы в воду и представить, что это были не связанные друг с другом смерти – этого сделать не удалось, а на монастырь тоже легло пятно этого «тихого ужаса» – надвратную Пантелеймоновскую церковь, бывшую вотчину отца Ферапонта, почти никто из местных жителей теперь не посещал. По поводу Снегирева и Маруси тоже земля полнилась слухами, но ничего доподлинного узнать было невозможно. После отъезда государя-императора как некое табу молчания опустилось в том числе и нашу губернскую печать. Ракитин, который мог бы все это прописать в столичных газетах, тоже сразу же исчез из города, да и в столичной печати, кажется, ничего не появилось.
Но главной причинной распространения «тихого ужаса», пожалуй, были не эти смерти, а внезапно открывшееся нашей публике наличие в городе «революционной организации», несомненно имевшей ко всем этим убийствам какое-то отношение. Какое – никто доподлинно не знал, но это не мешало желающим выстраивать самые фантастические предположения. Ходила, к примеру, такая версия, что наш Скотопригоньевск – это первая жертва «мировой интернационалки». С нас должна была начаться «всемирная социальная революция», причем в планах у революционеров было (я дословно это слышал от Венеры Павловны Коновницыной) «поголовное истребление скотопригоньевского населения в целях потрясения человеческого миропорядка и побудительного примера для других революционеров».
Кстати, о революционерах. Никто не мог объяснить, куда делись Катерина Ивановна и Алексей Федорович Карамазовы. Да и Красоткин тоже. Естественно, их записали в «главные революционеры» (наверно, единственный случай, когда слухи не так уж были далеки от истины), им приписывали все «ужасные планы» не только по уничтожению императора, но и по уничтожению всего скотопригоньевского населения. Подкоп к могиле отца Зосимы был, разумеется, обнаружен – и это тоже выползло за стены монастыря, мало того, каким-то образом публике стало известно и о планах подрыва императора под мостом нашей Вонючей речки (тот самый Красоткинский план «А»).
Новые круги «тихого ужаса» стали распространяться все шире по мере продвижения следствия, когда многие из наших обывателей и либералов были привлечены к нему в качестве свидетелей и подозреваемых. Куда только исчезла наша либеральная фронда? Уж как каялись многие из участников «судебно-костюмированной ажитации», акции по встрече царя, уж как валили друг на друга все возможные и невозможные вины. Разумеется, главная роль Сайталова во всем этом была немедленно установлена, и он был арестован и пару недель провел в нашем «тюремном замке». Впрочем, следствие скоро убедилось в непричастности его к настоящим революционерам, и он был отпущен, разумеется, уже с отставкой из своего паспортного стола. Он к настоящему времени уже покинул наш город, продав свой дом и уехал куда-то далеко «в глубинку» – это ему, по слухам, было настоятельно рекомендовано.
После неудачи с Муссяловичем в руки следствия (или как шептались у нас по углам – «лапы следствия») попал один настоящий революционер – Смуров Петр. Попал причем как-то совсем нелепо. Он был арестован на третий или четвертый день после уезда государя, когда стоял на коленях перед облупленной оградой собора нашей главной площади и плакал. Читатели должны помнить эту обшарпанную с отвалившейся известью ограду – там находился «сигнальный кирпич» по повороту которого наши революционеры собирались на сходки. Смуров хоть и был арестован, но следствию от него оказалось невозможно ничего добиться. Он постоянно заливался слезами и только время от времени повторял: «Я не хотел» и при этом поочередно поднимал свои руки, как бы в свидетельство этого заявления. Вскоре стало ясным, что его разум помутился окончательно, и он никак не может стать источником достоверной информации. Зато удивительным образом старался таковым стать его приехавший с курортов отец. Он не только не попытался хоть как-то выгородить сына, а напротив всячески доказывал его «преступные деяния» со всевозможными «вещественными доказательствами» в уже основательно распотрошенной аптеке. Николай Никанорович приободрился, с удовольствием водил полицейских и жандармов по своему раскуроченному дому и саду, даже последствия удара куда-то совершенно исчезли. Если следствие и продвинулось в представлениях о масштабах подрывной деятельности революционной ячейки и ее технической стороне, то во многом благодаря ему.
Теперь пора сказать и о самом следствии. Возглавлял его никто иной как Иван Федорович Карамазов, и только теперь прояснилась его роль и значение во всем этом деле. Точнее, прояснилось не сразу, но когда прояснилось, добавило новых волн и возмущений в омут нашего скотопригоньевского «тихого ужаса». Особенно, когда неожиданно стали проводиться аресты и задержания из приближенных Сайталова, и некоторые из них попадали к Ивану «на прием». И это при том, что никто не знал его формального статуса, там, звания, должности или даже ведомства, в котором он служил. Впрочем, судя по тому, что его поручения чаще всего выполняли жандармы, скорее всего он проходил службу по этом ведомству, хотя и полицейские порой ему подчинялись. Особо мрачную славу приобрела наша тюрьма – «мертвый дом», как не без влияния господина Достоевского ее окрестили наши обыватели. У Ивана Федоровича была практика проводить ночные задержания и даже простые повестки с вызовом в полицейский участок или жандармское отделение (оно находилось при тюрьме) тоже разносились по ночам. Что тоже, разумеется, играло не последнюю роль в наводнившем нам городок «тихом ужасе». А смотрителем тюрьмы сразу же после всех бурных «эксцессов» стал никто иной как тот самый жандармский капитан (он уже был подполковником), который устроил то самое «монастырское побоище» накануне приезда государя-императора. Видимо за него и повышен в звании. Настало время назвать его по имени – Руслан Алиевич Матуев, татарин по национальности. А еще говорят, что у нас в России инородцы и иноверцы угнетаются. Отнюдь. Надо только соответствующим образом проявить себя и никаких препятствий для карьерного роста.
Что касается самой тюрьмы, то это учреждение находилось у нас в противоположной от монастыря части города. В этом было известное неудобство, если заключенных приходилось конвоировать через железную дорогу, ведь воксал располагался, как мы помним, ближе к монастырю. Само здание было старым, построено еще в екатерининские времена и представляло собой почти правильную букву «П». Собственно тюремный корпус и корпус охраняющих их солдат находились напротив друг друга, а обширный внутренний двор позволял производить разного рода экзерциции с солдатами, впрочем и места для выгула заключенных тоже хватало. В былые времена, как то во времена пугачевского бунта у нас, говорят, проводились даже и публичные казни. Публичные в том смысле, но на них в целях соответствующего назидания выводились поглазеть все другие, пока остающиеся в живых обитатели тюрьмы. Надо ожидать, что педагогический эффект от подобной «публичности» был вполне удовлетворительный.
II
первая встреча
Алеша недавно закончил обед в своей камере, посуда была уже убрана, как наружные засовы на двери вновь заскрежетали. Алеша, сидя на кровати лицом к высокому решетчатому оконцу, недовольно повернул голову. За эти почти три месяца он сильно изменился. Во-первых, совсем непривычно видеть его в полосатом арестантском халате и каких-то серых полустоптанных ботах, но это ладно. Изменения коснулись и внешности. Отросшие волосы на голове, усах и бороде придавали Алеше какой-то совсем необычный и совсем несвойственный ему ранее «старческий» вид. Может, не совсем старческий, хотя первая сединка, несмело пробивающаяся на висках, говорила в пользу этого, – но вид, как минимум, солидный и даже умудренный. При этом он еще и явно пополнел на тюремных харчах, чему, может быть, виной не сами харчи, а больше малоподвижный образ жизни. Хотя и кормили его судя по всему неплохо, да и сама камера выглядела не так чтобы сильно устрашающе. Внешне, как и другие камеры – продолговатый пенал пространства, кровать с соломенным матрасом, вмонтированный в стену и поддерживаемый цепями стол, стул, похожий на табурет со спинкой. Несмотря на внешний мороз, в камере было достаточно тепло. Оказывается, сразу за стенкой его камеры находилось караульное помещение с печкой, тепло от которой шло и на Алешину камеру. Все это говорило в пользу явного exclusivite’, как говаривал Смердяков. И действительно, Алешу если что и донимало в это время помимо внутренних дум и размышлений, то это не холод, а клопы. Но тут уж выбирать не приходилось.
Сначала в окошке двери промелькнул испуганный глаз и усы стоящего на охране солдата, а затем с глухим скрежетом отворилась сама дверь и внутрь вошел Иван. Иван Федорович в отличие от Алеши совсем не изменился, может быть, даже больше живого блеска в глазах, хотя вполне возможно этот блеск – заслуга горящей на подсвечнике высокой свечи, которою он держал в своих руках. В камере было еще довольно светло, но Иван, видимо, был настроен на продолжительный разговор. Еще от двери он воскликнул:
– Ну что, Алешка, как тебе наша новая встреча?.. Ведь все-таки привел Бог свидеться, а могло бы и не выйти – а?..
Иван говорил все это живо, даже с какой-то веселостью – он прошел и поставил свечу на стол, а сам сел на стул. Алеша сидел на кровати и, следя за братом, все еще, видимо, приходил в себя от этого неожиданного визита и пока молчал. Это действительно была их первая встреча после того разговора в трактире «Три тысячи». Все это время он содержался «инкогнито» в полной изоляции от остальных людей. Никто, кроме Ивана и начальника тюрьмы Матуева не знал имени этого заключенного. Даже охранники в этом крыле были не многолетние тюремные служаки, могущие опознать Алешу, а часто сменяемые солдаты из расквартированной здесь тюремной роты.
– Да могло и не выйти… – снова повторил Иван, уже стирая улыбку с лица. – Но впрочем, что это я с места в карьер. Давай расскажи сначала, как содержат, есть ли жалобы. Ты у нас важная птица, я, вроде, старался содержать тебя по первому разряду.
Алеша, наконец, обрел дар речи:
– Жалоб нет… Ты меня допрашивать пришел?
Иван рассмеялся, и в его смехе впервые прозвучало что-то знакомое для Алеши – какая-то грустная хрипотная надтреснутость.
– Ха-ха, ну, Алешка, так сразу и допрашивать… Сначала надо знакомство возобновить. Порадоваться. Заново пропеть гимн жизни, как наш Митя говорит. Как там?..
Und Freud, und Wonne
Aus jeder Brust
O Erd,, o Sonne!
O Gluck, o Lust!18
– Что Дмитрий?
– Давай, давай, Алешка. Сначала ты меня расспроси – твое право… Что ж, наш Митя… Да у него все хорошо. Он сейчас вроде сиделки над Грушенькой нашей… Нашей общей пассией. Думаю, тебя не покоробит мое определение… Она ж и впрямь нам всем как родная. (Иван проговорил это с едва заметной иронией.) Порезалась она сильно – пыталась вырваться из монастырской кельи через окно. Говорит, не в себе была… Митя сейчас за ней ухаживает. Да и за Лукьяшей заодно… Это девочка, говорят, исцеленная у мощей преподобного Зосимы. Тут целая история, можно даже сказать – новая легенда, целый миф… Впрочем, ты и сам знаешь. Кто еще?..
– Lise?..
– Так, Лиза твоя… Здесь сложнее. Впрочем, тоже можешь не беспокоиться. Они с сестрами Снегиревыми что-то вроде коммуны организовали. Да, в ней все жертвы погибших или исчезнувших, вроде тебя, революционеров. Давшие обет безбрачия и вечного хранения памяти по жертвам кровавого царизма… Ну, в общем, не беспокойся, подробнее пока не хочу – хлопочу еще… Да ты не подумай – в хорошем смысле. Я хоть и царский сатрап и охранитель, как тебе представлялся, но сердце, как думаешь, все же еще имею?..
Иван мельком взглянул на Алешу и потер себе руки.
– Ты давно?..
– Царский сатрап ты имеешь в виду?.. Да почти уже тринадцать лет. С тех пор, как вернулся из Сибири в Питер.
– И Ракитин вместе с тобой?
– Нет, Ракитин из конкурирующей организации – от полиции. Жандармы и полиция, выдам тебе наш секрет, впрочем, секрет полишинеля – далеко не всегда в ладах друг с другом. Ракитин через них действовал. А молодец, я его недооценивал. Думал, он просто наш местный деляга, вырвавшийся из журнальной грязи в журнальные князи. А он – нет, одни деньги – это слишком пресно. По моим данным сам свои услуги предложил, ярких ощущений ему не хватало. Вы ему, хе-хе, похоже дали все, что он жаждал…

