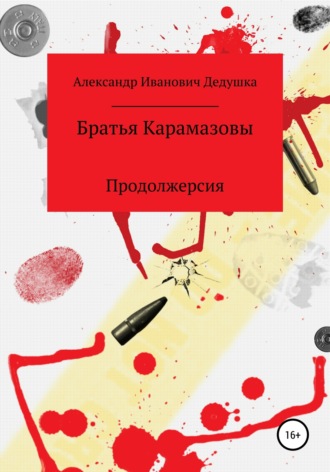 полная версия
полная версияБратья Карамазовы. Продолжерсия
Все дамы, среди которых Смуров смог различить еще несколько знакомых (ему по аптечным делам приходилось иметь дело со многими из наших дам), были одеты на римский манер – в длинные хитоны, а верхняя одежда имитировала легкие накидки. Дамы выстроились вокруг задрапированного «нечто», стоящего на середине свободного пространства, и Венера Павловна изящно сняла с этого предмета покрывало. Публика сразу же разразилась хохотом и аплодисментом. Это была почти в натуральную величину статуя стоящего дыбом коня, которая раньше возвышалась у Сайталова перед входом в его дом. Видимо, стоило больших усилий принести ее сюда, но дело было даже не в этом, а в том – что конь был очень искусно одет в черный мужской фрак и даже перевязан алой лентой какого-то ордена. Даже стоячие воротнички белой рубахи окаймляли могучую чугунную шею коня – это же надо было все как-то спроектировать и сшить!..
Довольная произведенным эффектом, Венера Павловна продекламировала несколько строчек из известной оды Державина:
Калигула, твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате –
Сияют добрые дела…
И после этих строчек сразу застыла, как бы в недоумении. Пауза длилась ровно столько, сколько было необходимо, чтобы произвести надлежащий эффект. И следом, отвечая ей, вступили в действие остальные дамы. Каждая из них выходила чуть вперед, декламируя свой отрывок и отступала назад:
Так поиграл в слова Державин,
Негодованием объят.
А мне сдается (виноват!)
Что тем Калигула и славен,
Что вздумал лошадь, говорят
Послать присутствовать в сенат.
Я помню: в юности пленяла
Его ирония меня;
И мысль моя живописала
В стенах священных трибунала
Среди сановников коня.
Что ж, разве там он был некстати?
По мне – в парадном чепраке
Зачем не быть коню в сенате,
Когда сидеть бы людям знати
Уместней в конном деннике?
Что ж, разве звук веселый ржанья
Был для империи вредней
И раболепного молчанья,
И лестью дышащих речей?
Что ж, разве конь красивой мордой
Не затмевал ничтожных лиц
И не срамил осанкой гордой
Людей, привыкших падать ниц?
Я и теперь того же мненья,
Что вряд ли встретится где нам
Такое к трусам и рабам
Великолепное презренье!
Публика была более чем довольна. Аллегория более чем прозрачна. Последние назначения в сенате, синоде (к примеру, того же Победоносцева) и правительстве вызывали у либералов безусловное отторжение. Но это была только, так сказать, завязка «костюмированной ажитации». Следом был вынесен большой портрет нашего государя-императора кисти того же Смеркина. Это было парадное изображение императора – в полный рост, удивительно похожее на оригинал, но опять же с какой-то присущей талантливейшей кисти Смеркина неопределенной двусмысленностью. Государь на портрете выглядел одновременно и строгим и растерянным, а в его взгляде было даже что-то заискивающее. Портрет был приставлен к коню и сразу же за него зашел некто (кто – этого разобрать не успели) и там притаился – видимо, для каких-то последующих действий. Впрочем, об этом думать было некогда, ибо на сцене (будем так называть это свободное пространство для представлений) появился сам Ким Викторович Сайталов. Но его было не сразу узнать. Пышные бакенбарды были прилизаны и даже как бы замазаны чем-то вместе с волосами на голове, что создавало впечатление полулысости. Но главное – прикрепленная довольно искусно борода и густые усы, закрывавшие верхнюю губу. В довершение ко всему – мешковатый серый сюртук, напоминающий полупальто, застегнутый на все пуговицы… В общем, не пришлось долго терзаться, кого он изображает – нашего известного писателя Федора Михайловича Достоевского. Я уже давно замечал у наших (да и не только наших!) либералов какую-то особую пристрастность (я бы даже сказал – ненависть) к этому писателю и теряюсь в объяснении ее причин. Конечно, Федор Михайлович никогда особо не жаловал эту нашу «прослойку интеллигентов», но либералов часто не жаловали и другие наши писатели, особенно из демократического лагеря. Однако мало кто из них удосуживался такой ненависти, нелюбви до такой степени, что словно в этой ненависти было что-то личное. Как будто Федор Михайлович не просто «задевал их за живое», но еще и покушался это «живое» отобрать. Но вернемся к нашей ажитации.
Сайталов, то бишь уже «Достоевский»… Нет, а он все-таки был замечательным артистом – что тут скажешь?!.. Вот он идет характерной прошаркивающей походкой Достоевского, слегка сгорбившись, даже как бы съежившись, но подойдя к границе свободного пространства, остановился и, подняв голову, начал:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, -
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился…
Он так и прочитал это стихотворение Пушкина (всем известно, что это было наиболее любимое писателем стихотворение великого поэта, которой Достоевский часто читал на литературных вечерах), как говорится – «в манере», почти полушепотом, но с напряжением и внутренним жаром. И удивительное дело, всем стало ясно, что дальше должно последовать. А именно – какие-то пророчества, и они не заставили себя долго ждать.
Сайталов-«Достоевский» неожиданно обратился прямо к императору, имеется в виду – к его изображению на портрете:
– Ваше величество, как же так получилось?.. У нас откуда ни возьмись появились разные людишки. В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются эти разные людишки. Я не про тех так называемых «передовых» говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, но все же с определенною более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается… Ваше величество, у нас сейчас дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны, заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностию своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос, – все это вдруг у нас взяло полный верх?..
«Достоевский» остановился и замер, подняв руку с оттопыренным пальцем вверх, а в зале зааплодировали и засмеялись. И впрямь – все было как-то очень в точку. Все сразу узнали кусочек из романа «Бесы», который Сайталов так удачно обыграл. Ведь именно этот отрывок как нельзя лучше характеризовал отношение Достоевского к либеральному обществу и так раздражал либералов своей утрированной жесткостью и гиперболизмом. Но надо было по смыслу «ажитации» ожидать какой-то ответ от государя-императора, и он последовал в весьма непредсказуемом образе… Неожиданно из-за задника сцены вышел… «Лорис-Меликов». Да-да, не так давно назначенный после закрытия Верховной распорядительной комиссии наш министр внутренних дел, образ которого носил директор нашей прогимназии Колбасников Иван Федорович. (Памятливые читатели должны его были запомнить по диалогам еще гимназистов Красоткина и Смурова. Тогда Иван Федорович был еще учителем, а сейчас дорос до директора.) Он действительно был сам по себе похож на нашего графа-правителя, так что и особо гримировать не приходилось – только гимназический мундир украсить эполетами, вензелечками и лентами. Надо сказать, что отношение нашей либеральной публики к «Лорису», как все фамильярно называли этого правителя, было двойственным. С одной стороны, его поддерживали за несомненный «либерализм» речей и мягкость политики, а с другой – он словно и раздражал всех свой недостаточной либеральностью. Но я чуть отвлекся…
Колбасников-«Лорис» остановился напротив Сайталова–«Достоевского» и промолвил:
– Уважаемый Федор Михайлович, мы очень ценим ваши усилия по защите основ нашего отечества, но позволим себе заметить, что вы не совсем правы. (Колбасников, конечно, уступал в артистизме Сайталову, держался напряженно и неуверенно, но простим ему – не всем же быть великими артистами!) Вы обращаете внимание на мелочи, в то время как нужно видеть главное. А главное – это победа в великом противостоянии с Турцией, в которой наше отечество одержало такую доблестную победу…
Здесь Нота Бене. Недавно закончившаяся война была еще у всех на памяти и на слуху, и до сих вызывала яростные дебаты в стане наших либералов. И опять какая-то непонятная двойственность. С одной стороны, вроде как – нужно ли было, что так били-били Турцию, но с другой – почему не добили? А с третьей – а не ведет ли эта победа к росту «азиатского деспотизма» в самой стране?..
Сайталов-«Достоевский» сразу же разволновался и заметался по сцене:
– Вот-вот-вот, Ваше сиятельство!.. Вот. Давайте о войне. Мы закончили войну – что же здесь хорошего?
– Как!? Мы не понимаем вас, Федор Михайлович… (Колбасников зачем-то говорил от себя во множественном числе – и зря. Наверно, это намекало на выражение мыслей и мнения самого государя, но выглядело как неуместное присвоение себе его титула и прерогатив.) Ведь война – это всегда плохо. Это плохо для страны, это бич для человечества…
– Дикая мысль!.. – вдруг резко и совсем неучтиво перебил «Лориса» «Достоевский». – Дикая мысль – что война есть бич для человечества. Напротив, самая полезная вещь. Война приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, а потому совершенно необходима.
– Помилуйте, народ идет на народ, люди идут убивать друг друга, что тут необходимого?
– Все и в высшей степени. Но, во-первых, ложь, что люди идут убивать друг друга: никогда этого не бывает на первом плане, а, напротив, идут жертвовать собственною жизнью – вот что должно стоять на первом плане. Это же совсем другое. Нет выше идеи, как пожертвовать собственною жизнию, отстаивая своих братьев и свое отечество или даже просто отстаивая интересы своего отечества. Без великодушных идей человечество жить не может, и я даже подозреваю, что человечество именно потому и любит войну, чтоб участвовать в великодушной идее. Тут потребность.
– Да разве человечество любит войну?
– А как же? Кто унывает во время войны? Напротив, все тотчас ободряются, у всех поднят дух, и не слышно об обыкновенной апатии или скуке, как в мирное время. А потом, когда война кончится, как любят вспоминать о ней, даже в случае поражения! И не верьте, когда в войну все, встречаясь, говорят друг другу, качая головами: «Вот несчастье, вот дожили!» Это лишь одно приличие. Напротив, у всякого праздник в душе. Знаете, ужасно трудно признаваться в иных идеях: скажут, – зверь, ретроград, осудят; этого боятся. Хвалить войну никто не решится.
– Но вы говорите о великодушных идеях, об очеловечивании. Разве не найдется великодушных идей без войны? Напротив, во время мира им еще удобнее развиться.
– Совершенно напротив, совершенно обратно. Великодушие гибнет в периоды долгого мира, а вместо него являются цинизм, равнодушие, скука и много-много что злобная насмешка, да и то почти для праздной забавы, а не для дела. Положительно можно сказать, что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, – главное к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир – все эти прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают все. Остается под конец лишь одно лицемерие – лицемерие чести, самопожертвования, долга, так что, пожалуй, их еще и будут продолжать уважать, несмотря на весь цинизм, но только лишь на красных словах для формы. Настоящей чести не будет, а останутся формулы. Формулы чести – это смерть чести. Долгий мир производит апатию, низменность мысли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений более скоромных, более близких к делу, а то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Сластолюбие вызывает сладострастие, а сладострастие всегда жестокость. Вы никак не можете всего этого отрицать, потому что нельзя отрицать главного факта: что социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству.
– Но наука, искусства – разве в продолжение войны они могут развиваться; а это великие и великодушные идеи.
– Тут-то я вас и ловлю, граф. Наука и искусства именно развиваются всегда в первый период после войны. Война их обновляет, освежает, вызывает, крепит мысли и дает толчок. Напротив, в долгий мир и наука глохнет. Без сомнения, занятие наукой требует великодушия, даже самоотвержения. Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такою страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, в блеске. Что значит перед торжеством богатства торжество какого-нибудь научного открытия, если только оно не будет эффектно, как, например, открытие планеты Нептун. Много ли останется истинных тружеников, как вы думаете? Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какою-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей. Мало-помалу утратится чувство меры и гармонии; явятся искривления чувств и страстей, так называемые утонченности чувства, которые в сущности только их огрубелость. Вот этому-то всему подчиняется всегда искусство в конце долгого мира. Если бы не было на свете войны, искусство бы заглохло окончательно. Все лучшие идеи искусства даны войной, борьбой. Подите в трагедию, смотрите на статуи: вот Гораций Корнеля, вот Аполлон Бельведерский, поражающий чудовище…
– А Мадонны, а христианство?
– Христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч не прейдет до кончины мира: это очень замечательно и поражает. О, без сомнения, в высшем, в нравственном смысле оно отвергает войны и требует братолюбия. Я сам первый возрадуюсь, когда раскуют мечи на орала. Но вопрос: когда это может случиться? И стоит ли расковывать теперь мечи на орала? Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять. Богатство, грубость наслаждений порождают лень, а лень порождает рабов. Чтоб удержать рабов в рабском состоянии, надо отнять от них свободную волю и возможность просвещения. Ведь вы же не можете не нуждаться в рабе, кто бы вы ни были, даже если вы самый гуманнейший человек? Замечу еще, что в период мира укореняется трусливость и бесчестность. Человек по природе своей страшно наклонен к трусливости и бесстыдству и отлично про себя это знает; вот почему, может быть, он так и жаждет войны, и так любит войну: он чувствует в ней лекарство. Война развивает братолюбие и соединяет народы.
– Как «соединяет народы»?
– Заставляя их взаимно уважать друг друга. Война освежает людей. Человеколюбие всего более развивается лишь на поле битвы. Это даже странный факт, что война менее обозляет, чем мир. В самом деле, какая-нибудь политическая обида в мирное время, какой-нибудь нахальный договор, политическое давление, высокомерный запрос – вроде как делала нам Европа в 63-м году – гораздо более обозляют, чем откровенный бой. Вспомните, ненавидели ли мы французов и англичан во время крымской кампании? Напротив, как будто ближе сошлись с ними, как будто породнились даже. Мы интересовались их мнением об нашей храбрости, ласкали их пленных; наши солдаты и офицеры обнимались с врагами, даже пили водку вместе. Россия читала про это с наслаждением в газетах, что не мешало, однако же, великолепно драться. Развивался рыцарский дух. А про материальные бедствия войны я и говорить не стану: кто не знает закона, по которому после войны все как воскресает силами. Экономические силы страны возбуждаются в десять раз, как будто грозовая туча пролилась обильным дождем над иссохшею почкой. Пострадавшим от войны сейчас же и все помогают, тогда как во время мира целые области могут вымирать с голоду, прежде чем мы почешемся или дадим три целковых.
– Но разве народ не страдает в войну больше всех, не несет разорения и тягостей, неминуемых и несравненно больших, чем высшие слои общества?
– Может быть, но временно; а зато выигрывает гораздо больше, чем теряет. Именно для народа война оставляет самые лучшие и высшие последствия. Как хотите, будьте самым гуманным человеком, но вы все-таки считаете себя выше простолюдина. Кто меряет в наше время душу на душу, христианской меркой? Меряют карманом, властью, силой, – и простолюдин это отлично знает всей свой массой. Тут не то что зависть, – тут является какое-то невыносимое чувство нравственного неравенства, слишком язвительного для простонародья. Как ни освобождайте и какие ни пишите законы, неравенство людей не уничтожится в теперешнем обществе. Единственное лекарство – война. Пальятивное, моментальное, но отрадное для народа. Война поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства. Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства – в жертве жизнию за общее дело, за всех, за отечество. Неужели вы думаете, что масса, самая даже темная масса мужиков и нищих, не нуждается в потребности деятельного проявления великодушных чувств? А во время мира чем масса может заявить свое великодушие и человеческое достоинство? Мы и на единичные-то проявления великодушия в простонародье смотрим, едва удостоивая замечать их, иногда с улыбкою недоверчивости, иногда просто не веря, а иногда так и подозрительно. Когда же поверим героизму какой-нибудь единицы, то тотчас же наделаем шуму, как перед чем-то необыкновенным; и что же выходит: наше удивление и наши похвалы похожи на презрение. Во время войны все это исчезает само собой, и наступает полное равенство героизма. Пролитая кровь важная вещь. Взаимный подвиг великодушия порождает саму твердую связь неравенств и сословий. Помещик и мужик, сражаясь вместе в двенадцатом году, были ближе друг к другу, чем у себя в деревне, в мирной усадьбе. Война есть повод массе уважать себя, а потому народ и любит войну: он слагает про войну песни, он долго потом заслушивается легенд и рассказов о ней… пролитая кровь – важная вещь! Нет, война в наше время необходима; без войны провалился бы мир или, ко крайне мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами…
Последнюю фразу «Достоевский» говорил уже уходящему «Лорису», догоняя его, и вместе уходя за белую занавесь задника сцены. Колбасников театрально взялся за голову, как бы показывая, что толку нет беседовать с таким маньяком, а Сайталов-«Достоевский» все не отставал, как бы намертво прицепившись к своему собеседнику.
Нет, надо отдать должное Сайталову!.. Как все было интересно обыграно! Он ведь держал в руке книжку «Дневника писателя» Достоевского и именно оттуда, слегка подглядывая, и шпарил свои речи. Это действительно было слова самого Достоевского, но вырванные из контекста его писаний (в самом дневнике он спорит с автором подобных парадоксальных высказываний), они производили потрясающий «маньячный» эффект. Разве в здравом уме кому-то придет в голову защищать войну!?.. Если надо было поиздеваться над ненавистным писателем, то трудно было бы сделать что-то более издевательское и ядовитое. И как!.. Словами самого писателя. Да, налили яду… Но на этом костюмированная ажитация еще не закончилась.
VI
новаясоломеяили Liberté `a la russe13
Не успели Сайталов и Колбасников уйти окончательно, как портрет государя императора внезапно вздрогнул и выдвинулся вперед, а затем начал разворачиваться в горизонтальное положение. И тут стало ясным, кто стоял за ним и сейчас производит эти манипуляции с портретом. Это был ни кто как Ракитин. Так ли это было задумано изначально, но ведь он и сам был отчасти похож на государя, – такой же высокий, с чуть выступающими вперед водянистыми глазами и главное – пышными бакенбардами. И хотя одет он был по-простому – в какой-то уже не очень новый серый сюртук, белую манишку со стоячими воротничками, но сходство все равно читалось. Видимо, сознавая это, Ракитин сначала склонился над принявшим горизонтальное положение государем и пару раз качнул головой, как бы скорбя. А следом взял – и быстро развернул изображение, повернув обратную сторону портрета лицом к зрителям. Публика замерла – и было от чего. На обратной стороне портрета тоже было изображение. Но чего бы вы думали!?.. Во всю ширину холста был показан роскошно сервированный стол. Причем только сервированный: аккуратными и ровными рядками стояли удивительно реалистично выписанные тарели, соусницы, бокалы… Рядом лежали блестящие ложки, ложечки, вилки, ножи, ножички, щипчики… Все сверкало и переливалось и даже полупрозрачно светилось – не иначе как из китайского фарфора. Ай, да Смеркин – мастер, ничего не скажешь!.. Но никакой еды как таковой. Как будто слуги только успели сервировать стол приборами – и все, и теперь ждут хозяев. Впрочем, никаких слуг не было видно. Зато видны были аккуратно и тоже как по линеечке стоящие роскошные стулья – с резными спинками и бархатными малиновыми набивочками. Они словно тоже только еще ждали своих хозяев. Малиновыми были не только стулья – и скатерть, которой был покрыт стол. Даже не малиновая, а с каким-то темно-бардовым оттенком. И наконец – главное! В центре стола все-таки стояло одно блюдо – одно уже «готовое» блюдо. На серебряном подносе с позолоченными обводочками и ручками лежала… человеческая голова. Она была изображена затылком к зрителям и, казалось бы, не давала никаких шансов на «опознание». Но опять же – деталь. Даже вид сзади не мог не показать наличие бакенбарды… Намек более чем прозрачный. Тем более что сам Ракитин дополнил его.
– Чего же тебе надобно от меня, Рассеюшка? – спросил он с жалостливой интонацией в голосе.
– Голову, только голову!.. – раздался высокий полудетский выкрик из-за занавеси.
И это блюдо с головой оказалось как раз под мордой у бронзового коня, одетого во фрак – здесь тоже был какой-то символ, задуматься над которым, впрочем, не хватало времени. Ибо за занавесью раздалось повизгивание скрипочки. После нескольких смыков к зрителям вышел Пашок, всем хорошо знакомый еще очень юный еврейчик с нежным девичьим лицом и черными курчавыми волосами, что часто поигрывал в нашем трактире «Три тысячи». Он был пятым или шестым сыном одного богатого еврея, заведовавшего большой торговлей и ссудами в нашем городе, но сыном каким-то непутевым. Как говорили – «с художествами в голове». Не хотелось ему идти по пути отца и других своих братьев – так неизвестно где он и выучился скрипке и, с проклятиями извергнутый из лона родной семьи, теперь музыкой зарабатывал себе на жизнь. Поначалу не было понятно, что он играет, и только когда он стал в конце уж очень длинного завода делать пальцами характерное «пиццикато», мелодия прояснилась. Это была «Камаринская». Только невероятно затянутая, так что она из плясовой превратилась в что-то поначалу невообразимо заунывное. И вслед за первым протягом из-за занавеси задника вышла «танцовщица». И ведь сразу невозможно было узнать в этом образе «русской бабы» Смердякову Лизку. Хотя, скорее, нет; видимо, это была не просто «русская баба», это, скорее всего, была сама Россия. Как бы ее полное олицетворение. Иначе, как объяснить все эти немыслимые наряды, нахлобученные на Лизку. Совершенно невозможно было понять, что на нее натянуто сверху – то ли какой-то меховой капор, то ли полушубок, то ли душегрея. Да еще и на голове за огромным перламутровым кокошником с колокольчиками какая-то меховая шапка-епанчея. Пашок, искривляясь телом в сторону Лизки, продолжил свое протягивание «Камаринской», и Лизка, расставив руки, пошла по кругу этакой павой с разукрашено-разрумяненным лицом. Впрочем, это слишком неточно сказано. Ибо ее лицо вообще трудно было рассмотреть за румянами, белилами и еще неизвестно чем, что его (это лицо) покрывало. Одни глаза разве что и выдавали Лизку – хитрые смердяковские глаза, но на этот раз с оттенком какой-то намеренной восторженной тупости. Как бы именно так артистка понимала играемый ею художественный образ, образ России. Но как бы она не силилась придать пустоту и бессмыслие своему взгляду – ей это странным образом не удавалось. Что-то неистребимо смердяковское, такое подспудно умно-презрительное, так и проступало в этих намеренно выпученных и вытаращенных глазах над всеми слоями накладных румян и белил.



