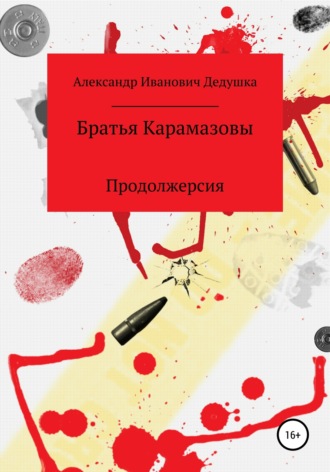 полная версия
полная версияБратья Карамазовы. Продолжерсия
– Дла-а-ань Божия!..
Отец Ферапонт уже переходил к новому объекту своего обхода – это была как раз Зинаида Юрьевна, но в это время душное пространство храма (а в храме к этому времени почему-то стало очень душно) прорезал новый возглас:
– Защити, святый отче!.. Дочерь родную отторгли!..
Поразительно: но разом упала полная тишина! Как отрезало. Как будто всем одновременно и моментально заткнули глотки, или все это «многоголосие» на самом деле издавалось одним человеком. Даже отец Ферапонт замер вполоборота от Алеши и его дам. А крик этот выдала ни кто иная, как уже знакомая нам Мария Кондратьевна. Ее не было в самом начале «отчитки», но и появилась она не только что – судя по моменту, который выбрала для своего крика и действия. А действия ее тоже были решительными. В упавшей тишине она бросилась прямо к Лизке и, оторвав от ее кресла, не доходя до отца Ферапонта пару шагов, громко затараторила:
– Дочерь моя законная!.. Беденькая моя!.. Забрали от меня – они!.. (Она махнула рукой в сторону Алеши и разом сжавшейся и спрятавшейся за него Lise.) Слабостью пользовали!.. Ребеноченька маяво!.. Отец святой – управь!.. Управи силостию!.. Не оставь во пагубе!..
Фантасмагория, вопреки ожиданию Алеше, продолжилась. И следующий акт этой фантасмагории открыла уже сама Лизка. Она, не пытаясь вырваться из руки держащей ее матери, вдруг крупно-крупно затряслась в самом настоящем приступе неостановимого хохота. Он исходил откуда-то из самой глубины ее существа, сотрясая ее в общем-то тщедушное тельце, а по звукам напоминал скорее какое-то кряхтенье, только ужасно громкое и поразительно равномерное, как заведенное:
– Кха-кха-кха-кха-кха-кха-кха-кха!..
И ничего сколько-нибудь веселого в этом хохоте не было. Публика вокруг замерла и продолжала хранить гробовое молчание. Даже видавшая виды и решившая действовать напролом Мария Кондратьевна недоуменно отпрянула от дочери, не выпуская однако ее руки. Но после полуминутного хохота, та вдруг как подкошенная рухнула на пол и уже на полу стала сгибаться и выгибаться, издавая хрипящие звуки. Видимо, это был приступ падучей болезни, хотя от классических приступов было все же отличие – равномерная заведенность толчков и дергание преимущественно нижней половиной тела. Пора было включиться во все происходящее и отцу Ферапонту, тем более, что он кажется, единственный, кто не потерялся в этой ситуации.
– Ах ты, Каракача!.. Изыди, изыди, кому гаварю!.. – он проговорил это, еще только подходя к бьющейся Лизке и, наконец, отпустившей ее и отпрянувшей Марии Кондратьевне. Но подойдя вплотную, на секунду замер и вдруг испустил новый, какой-то «взволнованный» по чувствам крик:
– Сатанопуло!..
Потом отбросив в сторону посох (он брякнулся очень громко), опустился на колени перед хрипящей и дергающейся перед ним Лизкой. С ним произошло какое-то мгновенное преображение. Он вдруг весь обмяк, раскис и словно даже слезы появились на его морщинистом лице – да, действительно что-то блеснуло уже на усах подле бугристого носа. И следом раздались самые настоящие, почти даже бабские, причитания:
– Оставь, сатанопольце, оставь… Оставь, што-е тебе?.. Оставь отроковницу – ну, оставь… Ить, заполонил то всю! Закологривилась вся… Чего тебе? Что с матери-отца взять-то? Оставь, сатанопольце!.. Не турзучь – поди, уйды… Ишь то духа видимо-нивидимо!.. Нешто совсем запрополонил?.. Оставь, сатанопольце!.. Поди-уйды!.. Мне оставь…
И странное дело, с каждым его причитанием Лизка все меньше дергалась и извивалась на полу, и хрипение рвалось из нее все тише и тише, пока, наконец, она и не затихла. Отец Ферапонт тоже словно помолчал какое-то время и вдруг неожиданно перевернул лежащую на боку Лизку на спину. Следующие его действия сначала трудно было хоть как-то квалифицировать. Он буквально стал мять лежащую перед ним девочку, своими крепкими лапами, хватать ее за разные и всевозможные места, поднимать вверх поочередно то одной, то другой рукой, затем опускать вниз и надавливать уже двумя руками. При этом он постоянно твердил сначала неразборчивую потом все тверже и четче произносимую, похожую на заклинание, фразу:
– Замешу телеси, да изыдут беси!.. Замешу телеси, да изыдут беси!.. Замешу телеси, да изыдут беси!..
Со стороны действительно это напоминало, как будто он месит какую-то растекшуюся перед ним огромную квашню. Пузырящиеся воланы на рукавах платья Лизки добавляли сходства с этой картиной. Лизка, впрочем, кажется, уже стала приходить в себя, начав издавать не бессмысленные хохоты и хрипения, а вполне естественные в ее положении визги. Тут и Марья Кондратьевна решила, что пора, видимо, проявить и себя: опустилась на колени, пытаясь придержать и хоть как-то компенсировать грубые действия отца Ферапонта, ухватилась руками за дочку. Но ее вмешательство внезапно разъярило заклинателя.
– Подь суды, шишига блудомерзкая!.. Подь суды!..
Марья Кондратьевна несмело приблизилась, не вставая с колен. Хотя это ей было совсем не просто в широком платье салатного цвета с какими-то мудреными оборками. (Удивительно, но на этот раз это платье было совсем без хвоста!) Но она все-таки просеменила коленками поближе, оставив на время Лизку.
– А ну цалуй ее!..
Отец Ферапонт вдруг одной рукой поднял Лизку с пола, а другой схватил Марию Кондратьевну за шею.
– Цалуй говорю!..
И стукнул их лбами друг с другом.
– Возосси тангалашку!.. Возосси!..
И прижал мать и дочку лицами друг к другу. Но сделал это так грубо, что лица обеих перекосились, а Лизка даже вскрикнула от боли.
– Возосси!.. – продолжал орать отец Ферапонт, все сильнее прижимая свои жертвы друг к другу…
Все это для Алеши уже было невозможно терпеть. Он словно, наконец, проснувшись, бросился вперед из-за кресла Lise и выхватил Лизку – буквально вырвал ее – из лап отца Ферапонта. Марья Кондратьевна, оставшись без опоры, рухнула лицом вниз… Но этого Алеша уже не видел. Таща за собой уже полностью пришедшую в себя и странно улыбающуюся Лизку, он другой рукой схватил стоящую за креслом Lise, и, не давая обеим опомниться, буквально вытащил силком их из церкви. При этом ему приходилось прорываться сквозь забитый людьми лестничный пролет, ибо «послушать» концерты отца Ферапонта приходила целая толпа «любителей», но далеко не всякий решался войти внутрь храма, да и «концертмейстер» многих праздных зевак часто выгонял сам.
И только оказавшись на воздухе, Алеша, еще не переведя духа, обернулся к своим дамам и с перекосившимся от гнева лицом захрипел, обращаясь к Lise:
– Чтобы никогда – слышишь? – никогда!.. Больше на это беснование!.. Слышишь?..
От волнения он не мог построить фразу. Испуганная и как-то сразу потерявшаяся Lise, еще только искала, что ответить, как их нагнала тоже выбежавшая из храма Зинаида Юрьевна.
– Лиза, девочка моя!.. Радость-то, радость!.. Ты исцелилась!.. Это же правда – длань Божья!.. Длань Божья!.. И ты Lison! (Это относилось к Лизке.)
Она, вся источая восторги, обняла Lise и прижала ее к себе, одновременно пытаясь достать и до стоящей чуть в отдалении Лизке, не поспешившей, однако, в ее объятия.
– Алексей Федорович!.. Это же радость!.. Чудо!.. Чудо!.. Длань Божия!.. Радость духовная!.. Кирие елейсон!11.. Надо восславить!.. Надо славить!.. Слышите, люди?..
Последняя фраза относилась уже к обступившим со всех сторон зевакам. Ближе всех стоял какой-то крестьянин, в потрепанном армячке с прожженной дырой на груди, абсолютно лысый, но с курчавой сивой бородой. Он склонил голову на бок и, подняв заскорузлый указательный палец, произнес не без торжественности:
– Царю-батюшке нашему – это, чтобы доложено-то было…
– Государю императору – непременно!.. Всем, всем в России!.. Всем – надо рассказать!.. Всем!.. Чудо, чудо – слышите!.. Всем монахам – да!.. Занести в протокол!.. Эх, куда – в эту… летописи что ли!.. Да о чуде непременном!.. Miracle incroyable et impossible!12
Она еще какое-то время покружилась вместе с Lise и, уже словно умерив восторги, добавила:
– Лиза, Лизы… Лизоньки!.. Сейчас ко мне!.. Сразу же!.. Я здесь в гостинице!.. Непременно, непременно!.. Алексей Федорович, не волнуйтесь!.. Дамы ваши ко мне – у меня!.. Я и доставлю домой в целости и сохранности!..
Лизка, как-то вдруг нахохлившись, отстранилась от непрошенной гостеприимницы:
– Мне на ажитацую непременно надобно.
Зинаида Юрьевна, понимающе улыбнувшись одной половиной лица и слегка отстранившись, тут же потянулась к Лизке снова:
– Знаю, знаю – и отпустим, отпустим непременно. А пока будем вместе, будем вместе, Лиз… Лизонька!..
И еще что-то воркуя, уже уводила обеих Лиз от Алеши. Он какое-то время еще стоял на месте, потом словно что-то вспомнив, бросил тревожный взгляд на своих уводимых от него Лиз, развернулся и поспешил обратно в монастырь.
IV
скотопригоньевская «фронда»
Сейчас мы должны оставить на время нашего главного героя, прервавшись на описание события без его участия. Забегая вперед, скажу, что подобные перебивы нам еще придется проделывать не раз, пытаясь поспеть за событиями этой безумной субботы. Она и сейчас осталась у меня в памяти как какой-то невозможный калейдоскоп, который я с трудом могу разбить по отдельным сценам и эпизодам. И как в детском калейдоскопном кружале, где меняются картинки одна за одной, очень трудно запомнить, что из какой вытекает, так и в моей памяти события этой субботы остались каким-то хаотичным, с большим трудом поддающимся какой-либо классификации нагромождением.
Я уже, кажется, упоминал о том, что в обед у старшего чиновника нашего паспортного стола Сайталова Кима Викторовича был назначен сбор всех наших скотопригоньевских либералов на так называемую «костюмированную ажитацию» (по другим источникам – «судебную ажитацию»). Что касается причин присутствия наших революционеров на этом либеральном мероприятии, то оно связано с тем, что на этом обеде и «ажитации» будет Ракитин, за которым установилась постоянная слежка. Поскольку Муссялович по понятным причинам там присутствовать не мог, эта функция на время обеда переходила к Смурову, приглашенному на обед в качестве приятеля Сайталова. Но нас это собрание будет интересовать и само по себе как некий фокус, в котором весь цвет нашей либеральной публики будет собран и представлен, так сказать, во всей своей красе. И не последние же люди это. И ведь, кажется, много добра делали или еще собирались сделать для формирования нашего общественного мнения – они как бы задавали некую политическую и даже нравственную «моду», за которой многие старались угнаться, и воплощали в себе тот «общественный прогресс», без которого, по их мнению, ни одно общество не может нормально развиваться. А уж тем более Россия, с ее «дремучей отсталостью», ее «вековыми предрассудками» и «роковой неразвитостью» (специально привожу их любимые «словечки»). Не знаю, меня не оставляет убеждение, что во всех трагедиях, потрясших наш когда-то тихий и патриархальный городок, есть немалая вины и этих людей, всегда ставивших себе в заслугу свою «вечную оппозиционность», как будто такая позиция сама по себе уже и есть безусловное и неоспоримое благо.
Кстати, сама эта оппозиционность к рассматриваемому моменту уже имела некую историю и связана с главной фигурой наших скотопригоньевских либералов – Кимом Викторовичем Сайталовым. Он появился в нашем городе года четыре назад и по весьма туманным и не до конца выясненным причинам. По одним источникам – был отставлен со службы и выслан из Москвы (что он там какое-то время проживал – факт, имеющий подтверждение). То есть уже там проявлял свою оппозицию и «боролся с режимом» – разумеется, эта версия была, так сказать, «официальной». Но ходили слухи, что не все чисто было и в плане материальном: попросту – проворовался… Но это могли быть и просто «злые языки», поэтому ничего не будем утверждать окончательно. Была и еще одна версия – любовная, связанная с каким-то скандальным разводом (а Ким Викторович был в настоящее время неженат и, кажется, бездетен) – однако об этом у меня совсем нет никаких сведений. Но как бы том ни было – с появлением в нашем городе Кима Викторовича наши либералы получили своего признанного главу, а «либеральное движение» (я бы точнее сказал – «брожение»), было поднято на надлежащую высоту. Не будем касаться всех его ступенек и этапов, упомяну лишь об одном – как наиболее характерном, касающемся наших героев, к тому же завершившимся совсем недавно полной победой либералов. Речь идет о кресте над могилой Смердякова. Помните? Его похоронили в самой дальней части нашего городского кладбища, что примыкала вплотную к монастырской стене и, разумеется, как над самоубийцей, креста не поставили. Казалось бы: какое отношение к Сайталову мог иметь Смердяков, но его судьба – и уже посмертная судьба – почему-то очень заинтересовала Кима Викторовича, и он начал «борьбу» за «восстановление справедливости» – борьбу, завершившуюся полным успехом и окончательно утвердившую Сайталова главой либерального движения.
А ведь поначалу казалось, что нет у него никаких шансов! Да и откуда – какие у него могли быть аргументы, вопрос сей касался некоим образом религии, в соблюдении обычаев которой наша Церковь, как думалось, всегда стояла на непоколебимой страже. Но нет – ничего не вечно под луной… (Кстати, одно из любимых выраженьиц Сайталова!) Ким Викторович как опытный психолог начал с формирования общественного мнения и вербовки сторонников. Главный его тезис был – «восстановить справедливость». А кто же у нас против справедливости? Разумеется, все – за! А кто против несправедливости? Все – против! Только надо было открыть глаза на эту несправедливость и доказать, что эта несправедливость есть «несправедливость несправедливейшая» (еще одно выраженьице!). Чем Ким Викторович занимался, и преуспел в конце концов. Он говорил об этом во всех гостиных, куда был вхож, был дважды на приеме у городского главы, имел несколько раз беседы с Владыкой, провел даже «митинг» у могилы Смердякова… Вода, как известно, камень точит. Вот и «заточила». И ведь аргументации Сайталова, наверно, мог бы позавидовать и сам Смердяков. Главный логический ход был следующий. Самоубийство невозможно без аффекта. Кто в здравом уме решится на такой шаг? Никто. Значит, Смердяков повредился в уме под влиянием этого аффекта… Тут, казалось бы и есть зацепка! Если повредился – значит, неподсуден и следовательно невиновен… Но логика Кима Викторовича была тоньше. Он смог доказать отсутствие не только юридической вины, но даже и духовной вины – ибо только это могло окончательно повернуть вопрос наоборот, как бы «перевернуть» его. Повреждение ума во время аффекта, оказывается, связано с блокировкой и отключением на время этого аффекта совести. Ибо совесть, в конечном счете, и удерживает человека от совершения греховных поступков, каковым несомненно и является самоубийство. Итак, совесть была блокирована, «впала в паралич» (тоже из словесного арсенала Кима Викторовича), потому Смердяков и совершил эту роковую для него «ошибку». Отсюда и вытекает главный вывод: разве мы обвиняем физических больных, что они впали в паралич и не могут совершать обычных движений? И в голову не придет. Так почему же мы обвиняем впавших в духовный паралич несчастных!?.. Ведь совесть-то у человека не работала – была в параличе. Так какое право мы имеем судить человека по закону совести? По тем духовным законам, определяемым верой, если он не мог их соблюдать по определению? Почему казним их не только в общественном мнении, не только запрещаем публично молиться за них, но и еще лишаем такого «мизерного» посмертного утешения – как простой крест на могиле? Значит, за минутный и вполне могущий быть оправданным «духовный паралич совести» человек осуждается снятием звания христианина в самой жестокой и бесчеловечной форме, как бы причисляется к скотам, ибо хоронится по их подобию? Так все это выходит?.. Неужели это не «несправедливайшая несправедливость» изо всех возможных несправедливостей!?.. Но и это еще не все. Смущенным этой аргументацией Сайталов приводил еще один «убийственный» в почти прямом смысле слова довод. Если даже допустить, что Смердяков совершил «смертельный грех» (это только, если допустить!), то неужели же смерть не есть «полная расплата» за этот грех? А выходит, что она – какая-то «неполная расплата», ибо человек должен казниться и дальше. Причем, уже в вечности, наступившей для него. Казниться, самой, может быть, жестокой формой человеческого осуждения – полным забвением, как бы окончательным «стиранием» с лица земли. Ибо отсутствие креста на могиле – и есть это «стирание». (Сколько будет заметна могила без креста – пять, десять лет?) Значит, всякого рода убийцы, зарезавшие может быть, десятки людей, и детей – не «стираются», а человек, забравший только одну жизнь, да и то – только у себя – наказывается таким образом. Где же здесь элементарная логика? Где же здесь элементарная справедливость? Разве это вновь не «несправедливейшая несправедливость» из всех возможных?
– Эдак и Иуду оправдать можно? – изрек как-то владыка Зиновий во время, кажется, третьей встречи с Сайталовым, уже не с ним одним, а во главе иже с ним «публичной делегации».
– Да! – с жаром воскликнул Сайталов. – Знаете, как Иисус назвал Иуду во время их последней встречи? «Друг»!.. Да, именно так – «друг»!.. Он спросил: «Друг, для чего ты пришел?» А ведь знал уже, зачем он пришел. Знал, что он пришел за арестом и привел с собой солдат. И не только это! Ведь провидел и будущее своего дорогого ученика, может быть, даже любимейшего своего ученика… Да-да!.. То есть – что он покончит жизнь свою самоубийством. Ведь ему недолго оставалось. Ну, сколько – не больше суток же!.. Сколько там оставалось до распятия? Где-то так… Так ведь – знал, знал!.. Все провидел – и назвал «другом». Иисус, которого мы называем и считаем Богом и Спасителем!.. Он назвал Иуду «другом»!.. И этим оправдал его навеки. Да-да – оправдал!.. Ибо кто может перечить Спасителю человеческому?!..
Говорят¸ владыка только махнул рукой на эти речи. У Сайталова даже хватило наглости просить у владыки священника на церемонию «установки креста» на могилу Смердякова, чтобы, дескать, «искупить вину» «церковного небрежения». Ну, разумеется, владыка отказал, хотя противиться «установке креста» уже не стал. Эта церемония была проведена при стечении всей скотопригоньевской либеральной публики и стала явным триумфом Сайталова. Говорились зажигательные речи, дамы заливались слезами, а могила Смердякова, под новеньким чугунным крестом и литой оградой по периметру (разумеется, деньги были собраны добровольными пожертвованиями), оказалась в результате заваленной цветами. (Правда, справедливости ради, нужно сказать, что после этого – сразу же вновь забыта. Чем, кстати, и воспользовались наши революционеры, устроив от нее подкоп под монастырскую стену.)
Были и другие проявления скотопригоньевской «фронды» во главе с Сайталовым, на описание которых нет места и времени. (Чего стоило только его демонстративное «разговение» в страстную пятницу в том же трактире «Три тысячи»!) Из самого последнего – вопрос о месте размещения нового городского железнодорожного воксала. По первоначальному проекту он должен был быть ближе к центру города, но наша «фронда» потребовала, чтобы он был вынесен за черту и находился у монастыря. Злые языки опять говаривали, что по первому проекту вокзал оказывался по соседству с домом Сайталова – а кому понравится такое соседство? Но в ходу были, конечно, другие объяснения и даже метафизические. Мол, соседство с монастырем будем «оттенять и отделять духовную сторону городского существования от материальной», являя, так сказать «гармонию земного и небесного». Разумеется, и тут говаривали, что это был хороший способ досадить монахам и монастырю, тем более что железнодорожная ветка и так проходила вблизи от самого монастыря. Но здесь наша «фронда» преуспела лишь наполовину, так как в результате было принято «соломоново решение». Воксал был построен как раз на полпути от монастыря до первоначального проекта его постройки – уже в черте города, но как бы на его окраине. В этом был резон, так как ветку вскорости планировали продолжать и дальше – вплоть до губернского центра, и, думается, окончательное решение по месту воксала все-таки мало зависело от мнения наших либералов.
V
судебно-костюмированная ажитация
Но пора к делу. Сбор либералов у Сайталова, назначенный на час пополудни, был обставлен, ну если не конспиративно, то как бы и полулегально – только «свои» и приглашенные «своими». Собралось в результате, по оценке присутствовавшего Смурова, человек сорок-пятьдесят, разумеется, включая дам. Кстати, дамы всегда представляли собой «боевой отряд» наших либералов. Именно их настойчивость и горячая поддержка часто приводили к положительному результату те или иные «акции», без чего у последних вряд ли были бы какие-то шансы на успех. В том числе в том же «деле Смердякова». Практически все наши дамы были очень скромно, даже строго одеты – это такая либеральная мода. Никаких декольте и вычурных украшений – они только подчеркивают приниженное и зависимое положение женщины, как «украшений мужчины». А наши дамы, как говорится «и сами с усами». Сейчас многих из них нет на местах – они тоже принимают участие в ажитации и готовятся к чему-то. В широкой и просторной зале (а дом у Сайталова был большой и поместительный – он купил его у одного нашего выморочившегося помещика) стулья были расставлены вдоль двух стен и замыкали анфиладу проходных комнат. У торцовой стены было сооружено что-то типа кулис – пространство и нечто непонятное за ним было задрапировано тканями, и стояла пара гипсовых бюстов позднеклассического римского стиля. Это на что-то намекало – видимо, должно быть понято позже, когда сама эта «ажитация» начнется. Хотелось перечислить и некоторых известных лиц нашего города, но не будем задерживать повествование, тем более, что многие из этих лиц так или иначе заявят о себе в ходе «ажитации».
Еще до ее начала многие из присутствующих толпились у только что приобретенной Сайталовым у нашего знаменитого художника, Смеркина, новой его картины «Христос на Тайной Вечере». Она висела на противоположной от сцены стене залы и представляла собой вытянутое в длину полотно, где в центре был изображен Христос в окружении апостолов. Композиция картины наверно не случайно напоминала известное изображение Леонардо да Винчи, впрочем, были и другие «намеки», которые вызвали заинтересованное обсуждение и очередное восхищение талантом Смеркина. Несмотря на то что картина была написана маслом на холсте, она имитировала как бы иконную и отчасти фресковую живопись. Прежде всего цветовой гаммой, но и системой условностей. Так над Христом была изображена небольшая полукупольная арочка, от которой вниз отходили четыре тонких колонки. В иконной и фресковой символике это означало, что действие происходит не «на воздухе», а в закрытом помещении. Но у Смеркина все эти арочки и колоночки производили еще один неожиданный эффект, благодаря которому его картина либеральной публикой как-то сразу же была переименована из «Христос на Тайной Вечере» в «Христос на качельках». Действительно, колоночки у Смеркина были столь тонко выписаны, что больше напоминали четыре толстые веревки, на которых держится сидение Иисуса Христа. Сам Он покоится на нем, расставив руки, в которых держит потир и дискос, но последние были изображены такими маленькими и так монохромно выписаны на форе тех же колоночек, что казалось, будто Христос просто держится руками за передние колоночки-веревки, как держится любой качающийся на подобных «качельках» человек. Поражало еще и выражение лиц у всех изображенных. Оно было не просто живое, а даже веселое, если не сказать больше – игривое. И это тоже создавало непередаваемо «легкое» впечатление от картины, как будто на ней изображено не самое главное христианское таинство, а Христос с апостолами веселится в невинной забаве с качельками.
Но вот, наконец, публика устроилась, Смуров сел сбоку, где тоже стояли стулья, и чуть сзади, в пятом или шестом ряду, он поискал глазами Ракитина, но не нашел его, хотя и видел перед началом ажитации. Впрочем, он никуда не мог деться – скорее всего, тоже принимал в ней участие. Откуда-то из глубины сцены прозвенел колокольчиковый трезвон – это означало, что ажитация начинается. И следом раздалось вполне натуральное, хотя, разумеется, имитируемое кем-то, лошадиное ржание. Оно еще не успело затихнуть (точнее, оно несколько раз возобновлялось), как из задника сцены появилась процессия дам во главе с Венерой Павловной Коновницыной, супругой нашего уважаемого городского главы. Это была еще далеко не старая женщина под сорок, представительная, и как говорят (ох, досталось бы мне за это определение от самих либеральных дам!) породистая. Ее вообще можно назвать «правой рукой» Сайталова, так часто их можно было увидеть вместе или по отдельности, но за защитой одних и тех же «проектов». Разумеется, не обошлось и без сплетен об их связи, основанной не только на общности убеждений…



