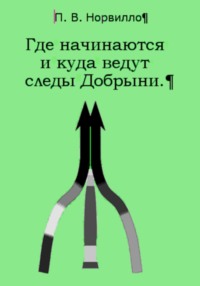полная версия
полная версияЗнание! Кто «за»? Кто «против»? Воздержался?
I
.
Сравнительный обзор истории комплектования армии и науки.
Итак, прежде всего напомним, что в истории вооружённых сил с точки зрения комплектования выделяют следующие основные этапы:
I. всеобщая воинская обязанность при отсутствии постоянной армии.
II. Наличие в стране постоянной армии при отсутствии всеобщей воинской обязанности.
III. Объединение элементов двух первых этапов, когда в стране действует армия с постоянным офицерским составом и постоянно обновляемым на основе всеобщей обязанности рядовым составом.
Примером человеческого объединения, воевавшего по первому типу, является прежде всего первобытный род, готовый поистине до последнего человека защищать свою территориально-бытовую обособленность. Очень близко к этому патриархальному образцу стоит и военная организация античного города-государства, в котором не было постоянной армии, но зато каждый гражданин зрелого возраста был готов – при принятии такого решения – выступить в военный поход. (А в случае нападения на суверенный город-крепость в его защите принимали посильное участие вообще все жители, включая женщин, детей и стариков.)
Типичными примерами армий второго этапа может служить русская армия периода 1705-1874 гг., долгое время комплектовавшаяся за счёт пожизненно мобилизуемых крестьян, а также прусская армия Фридриха II (1712-1786, прус. король с 1740 г.), комплектовавшаяся наёмниками, также по существу пожизненными (в том смысле, что преимущественно посмертными).
Наконец, третья схема комплектования, впервые введённая в революционной Франции в конце XVIII века, и поныне продолжает использоваться многими европейскими странами, хотя в последнее время кое-где происходит поворот к наёмничеству.
Сходные обстоятельства обнаруживаются и в истории наук. Ведь изучение людьми устройства внешнего мира началось отнюдь не в Греции, не в Египте и даже не в Индии. За фиксацию и первичную систематизацию наблюдений в области ботаники, зоологии, минералогии, метеорологии, астрономии, наконец, собственной анатомии и физиологии человек взялся практически сразу же, как стал активно пользоваться речью и осознал себя человеком. То есть за десятки тысяч лет до появления самого первого государства.
Понятно, что в эпоху, когда почти все силы, будь то физические или мыслительные, уходили на решение задач повседневного выживания, нашим пращурам было не до высоких абстракций. Вместе с тем опыт народов, доживших до наших дней в условиях каменного века, показывает, что, даже действуя чисто эмпирическими методами, можно заручиться достаточно разнообразными и вполне объективными сведениями об этом мире и своём месте в нём. А по части знания повадок живущих рядом с ними птиц и зверей те же африканские бушмены, австралийские аборигены или амазонские индейцы, пожалуй, ещё и дадут фору многим дипломированным зоологам.
Для нас же здесь важно подчеркнуть, что никаких специально призванных исследовать природу деятелей в первобытной общине не было. Свой вклад в общую информационную копилку мог внести любой сородич, сумевший заметить и сообщить другим нечто новое и поучительное. С другой стороны, в патриархальном обществе подростку и в голову не могло прийти отмахнуться от наставлений зрелого сородича, не говоря уже о старейшине. Так что каждый вступающий во взрослую жизнь член общины мог и должен был усваивать именно всю массу знаний (как, впрочем, и предрассудков), доступных соплеменникам. И такой порядок с полным правом может быть определён как всеобщая познавательная обязанность.
Рабовладение, создавая для победителей известный досуг, позволяет им уделять больше времени интеллектуальным упражнениям. Так что уже десятки веков назад появляются люди, целенаправленно бравшиеся за анализ данных наблюдения за окружающим миром и поиск путей практического применения полученных теоретических обобщений, и создаются труды, от которых выводят свою родословную многие научные дисциплины от геометрии до психологии. А для популяризации накапливающихся знаний формируются системы образования с чётко намеченными начальной, средней и высшей ступенями.
И всё-таки на этом этапе даже в Древней Греции объём данных, заслуживающих определения “научные”, и темпы их прироста оставались вполне умеренными. А звание философа гораздо больше говорило об образе жизни и характере деятельности его носителя, нежели о наличии у него какой-то особой профессиональной подготовки. Так что для того, чтобы по своей образованности сравняться с интеллектуальными лидерами эпохи, от гражданина требовалось главным образом желание и некоторый запас свободного времени.
Да, пришедшее на смену первобытному равенству имущественное расслоение среди граждан античных государств сказывается в том числе на их возможностях приобщения к познанию. Те же греческие философские школы, а особенно популярных наставников, держались отнюдь не только на любви к мудрости, посещение палестр и гимнасиев также требовало оплаты. И в любом случае для размышлений о сущности мироздания наследник аристократического состояния имел гораздо более комфортные условия, нежели тот, кто не мог позволить себе надолго отвлечься от забот о хлебе насущном для себя и семьи.
Тем не менее на заре цивилизации как раз скотоводы, виноделы, кузнецы, мореходы, строители, врачи, в общем, люди, собственными руками и головой обеспечивавшие свою жизнь, совершали много чисто практических открытий и изобретений. И в том числе такие, нередко случайные и не до конца осознанные находки могли становиться впоследствии отправными точками для углублённых исследований и фундаментальных теоретических обобщений.
Конечно, далеко не каждому крестьянину или ремесленнику удавалось внести хотя бы скромный вклад в постижение законов нашего бытия. Ибо для получения нового рецепта сыра, нового сплава, нового метода лечения и т. д. мало желания преуспеть в своём деле. Чтобы продвинуться дальше своих наставников и сделать нечто, чего до сих пор не делал никто, пригодится и наблюдательность, и умение сопоставлять факты, и вкус к экспериментам и ещё целый ряд качеств, объединяемых именем “творческие способности”. А по этому показателю люди никогда не были одинаковыми.
Но ведь то же самое можно сказать и про боевые умения – учились им все, однако из-за различия природных задатков и условий личного развития в одном строю сражались и более, и менее искусные воины. Так что хотя у вступающих на путь цивилизации народов реальный вклад в расширение границ известного вносила сравнительно ограниченная их часть, как принципиальная схема для таких народов наряду с воинской продолжает действовать также всеобщая познавательная обязанность.
По мере развития феодализма приобщение к знаниям, как и возможность во всякое время открыто носить оружие, становится привилегией знати, а для всех остальных даже простая грамотность превращается в редкостную диковину.
А в Новое время как война, так и разведка доселе неведомого всё больше становятся уделом профессионалов, полностью посвящающих себя однажды избранной стезе. При этом внушительные казённые затраты, которых начинает требовать развитие уже не только армии, но и познания, вынуждает капитализирующиеся государства набирать людей для боевых действий и теоретических поисков не “на глазок”, а по утверждённым штатным расписаниям. Тем не менее, начав с весьма скромных цифр, ряды кадровых исследователей пополняются опережающими темпами, достигая численности сначала дивизий, а затем и собственно армий.
При взгляде же на сегодняшний день прежде всего бросается в глаза, что статус научного работника человек получает, как правило, в начале карьеры и на всю оставшуюся жизнь. Вместе с тем получение среднего образования в более-менее развитых странах стало близким к всеобщему и при этом ученикам школ (как бы они ни назывались в разных языках) сообщается такая масса сведений, как будто в будущем им всем предстоит заниматься исследовательской работой. Что делает действующую систему пополнения научных кадров очень похожей на пожизненное рекрутирование, но уже с элементами возвращения к всеобщей познавательной обязанности.
Разумеется, даже самое близкое внешнее сходство само по себе ещё ничего не доказывает. Но оно позволяет говорить о целесообразности более глубокого изучения соответствующих явлений. Тем более что вопрос об организации познания представляет не только общетеоретический интерес. Ведь с “народным просвещением” тем или иным образом приходится сталкиваться практически каждому, но далеко не у всех после этого остаётся ощущение встречи с чем-то интересным и полезным. А если подтвердится, что отмеченные факты из истории научного поиска и военного дела являются не случайными совпадениями, а отражением единства или близости внутренних механизмов их развития, то это, вполне возможно, позволит найти новые подходы к проблемам и перспективам современного образования.
II
.
Сравнительный анализ истории комплектования армии и науки.
Поскольку, согласно нашей версии, комплектование армии прошло более полный цикл развития, нежели комплектование науки (остановившейся на очень дальних подступах к всеобщей обязанности), то и начнём мы с истории вооружённых сил. И уже с этой историей будем соотносить факты из родословия древа познания.
1. Условия смены систем комплектования армии.
Итак, возвращаясь к первобытной общине, легко видеть, что участие в возникавших столкновениях всех без исключения способных сражаться её членов определялось следующими условиями:
во-первых, малочисленность патриархальных родов, побуждавшая за все важные дела браться именно сообща и в кризисные моменты отводить “в тыл” разве что младенцев и совсем уж немощных стариков.
Во-вторых, имущественное равенство членов общины между собой и задаваемая этим одинаковая заинтересованность в объекте посягательства, будь то собственные угодья или чьи-то чужие.
И в-третьих, простота средств войны, которые, строго говоря, не являлись специально античеловеческим оружием, а всего лишь обращаемыми на дело человекоубийства средствами охоты35*.
Принципиально ту же ситуацию мы видим и в греческих полисах. Ибо хотя в античные времена военное дело усложняется и обособляется от повседневного быта человека, но всё же пока ещё не настолько, чтобы стать особой профессией. Большинство необходимых на войне навыков (техника владения копьём, луком, пращой и иными боевыми снарядами или, скажем, умение ориентироваться и маскироваться на местности) по-прежнему сохраняло наглядную связь с охотой и целиком базировалось на общефизической подготовке. Так что освоение потенциально боевых навыков юноши начинали уже в семье, а развитие их обеспечивалось включением соответствующих упражнений в программы гимнастических классов. Так что и на этом этапе боевая подготовка оказывалась почти столь же неотъемлемой частью жизни людей, как еда и питьё. И даже для отработки таких диктуемых временем специфически военных групповых упражнений, как, например, движение в строю фаланги, не возникало необходимости надолго отрывать граждан от мирных занятий, а было достаточно, выражаясь современным языком, проводить краткосрочные сборы.
Безусловно, весьма существенным отличием античного полиса от первобытного рода было то, что иноплеменники, против которых направлялась всеобщая воинская обязанность греческих граждан, находились не только вне, но и внутри полиса в виде рабов. Но, с другой стороны, как раз это обстоятельство дополнительно сплачивало не-рабское население малых государств и помогало ему, несмотря на весомые различия в материальном достатке, почувствовать себя народом, которому не выжить без внутренней солидарности. И в немалой степени поэтому армия города-государства, по сути тождественная взрослому мужскому населению, поддерживала постоянную боеготовность, требовавшуюся не только для отражения нападений извне, но и для пресечения попыток реванша со стороны однажды уже побеждённых.
Принципиально ту же ситуацию мы видим и в феодальных странах с той только разницей, что многие признаки рабства перемещаются с международных на внутренние отношения. И в качестве свободных граждан и обслуживающего их неполноправного населения здесь могут выступать представители одной, а не разных этнических групп.
В самом деле, ведь и “свободнорождённые” древнего мира, и средневековые кавалеры-рыцари, державшие поместье, лен, фьеф и пр., могли посвящать себя регулярным упражнениям в военном деле ровно потому, что некоторое число подвластных лично им людей доставляли своим господам необходимые жизненные средства и услуги. А так как это устраивало не всех, то всеобщая воинская обязанность античных греков и европейских “благородных людей” во всякое время была обращена не только против внешних врагов, но и против внутренних классовых антагонистов, будь то рабы или зависимые крестьяне. И пока на поле боя господствовало холодное оружие, а землевладельцы-дворяне являлись основным служилым сословием, феодальные государства, как и античные полисы, получали возможность не содержать в мирное время развёрнутой армии, ограничиваясь охранительно-полицейскими формированиями (всякого рода монаршии гвардии, личные отряды крупных вельмож, местечковые стражи и т. п.)
Но вот в Европе вслед за порохом появляется и начинает совершенствоваться сначала артиллерия, а затем и ручное стрелковое оружие. Причём происходит это на фоне зарождения и развития капиталистических отношений, шедшего рука об руку с развитием промышленности. Так что переплетение этих процессов уже в XVII веке создаёт условия для массового оснащения европейских армий ещё не очень дальнобойным и скорострельным, но всё-таки достаточно эффективным и разнообразным огнестрельным оружием.
А поскольку межгосударевых амбиций, побуждающих выяснять отношения силовыми методами, в цивилизованном мире всегда хватало (чего стоила одна Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.), то новые перспективы милитаризации не остались незамеченными. И если в той же русской Смуте (до 1612 г.) луки и арбалеты применялись наравне с ружьями, то к началу следующего столетия подобные “самострелы” утрачивают боевое значение и обращаются в патриархальную экзотику.
Ближайшим итогом распространения новых видов оружия становится резкое расширение оперативно-тактических возможностей пехотных подразделений и частей, завершается выделение артиллерии в самостоятельный и немаловажный род войск, а рост общего потенциала ведущих стран дополнительно способствует увеличению размаха и удлинению сроков боевых действий. В связи с чем процесс превращения “войны сражений” в “войну кампаний” вступает в свою заключительную фазу. И это делает окончательно невозможной подготовку полноценных воинов “на дому”, вперемешку с мирными занятиями; усложнившееся военное дело начинает требовать уже не просто природной склонности и одарённости, но и подлинно профессионального к себе отношения.
Здесь, пожалуй, стоит ещё раз отметить, что в принципе преимущества войска, обученного сражаться в строю, выяснились уже во времена образования первых государств. Но поскольку даже в организованном рукопашном бою его базисным элементом продолжал оставаться отдельный человек, постольку в эпоху доминирования на поле брани холодного оружия главное внимание уделялось индивидуальной выучке, а групповые навыки лишь надстраивались над ней. Истинным же субъектом порождаемого огнестрельным оружием дистанционного боя становится именно маневрирующее и ведущее огонь подразделение. Вплоть до того, что перед лицом удачных действий одной из сторон противник мог обращаться в бегство ещё до сближения на дистанцию штыкового удара. Отсюда и принципиально новые требования к качеству взаимодействия, необходимость регулярных батальонных и полковых учений, а значит, необходимость существования постоянной и достаточно многочисленной армии. И одна за другой в европейских странах начинают создаваться такие армии.
При этом “белая кость” – по традиции – принимает на себя руководство, уступая солдатскую лямку “простолюдинам”. Так что пока в той или иной стране продолжали действовать феодальные порядки, а крестьяне оставались в преимущественном распоряжении одного господина, комплектование массовой армии в соответствующей стране могло идти только за счёт выборочной мобилизации. Там же, где под натиском капитала былое внеэкономическое подчинение заменялось диктатурой кошелька, вводимая универсальная юридическая свобода граждан очень скоро и естественно позволяла сделать юридически всеобщей и воинскую обязанность.
Однако в условиях продолжавшегося развития средств войны, появления автоматического оружия, сложной боевой техники и т. д., возврат к всеобщей воинской обязанности уже не мог отменить необходимости существования постоянной армии. Ибо даже подготовка боеспособного рядового состава уже не могла и не может совершаться без отрыва от повседневных занятий, а инструкторы такого обучения, т. е. офицеры, тем более должны быть профессионалами.
А в сумме вышесказанное позволяет утверждать, что в основе динамики систем комплектования вооружённых сил человеческих сообществ лежат два основных фактора:
1) состояние вооружений и определяемый ими характер войны;
2) социально-политическая структура данного сообщества.
Соответственно, относительно простое холодное оружие ближнего боя позволяет вести военную подготовку граждан, не отрывая их надолго от обычной жизни, формировать массовую армию только на время войны, а с окончанием боевых действий распускать такую армию. А вот развитое и высокоразвитое – огнестрельное дульнозарядное, затем дальнобойное казнозарядное и, наконец, автоматическое – оружие создаёт необходимость содержания армии, резко отличающейся от мирного населения. Потому что задаваемая таким оружием технология ведения боевых действий может осваиваться только в ходе систематических групповых занятий.
При этом, в зависимости от господствующего в стране способа производства, численность армий мирного и военного времени может:
а) практически равняться при рекрутском комплектовании;
б) заметно отличаться при всеобщей воинской обязанности, позволяющей быстро и в разы увеличивать число находящихся “под ружьём” за счёт призыва в строй ранее обученного резерва.
Кроме того, общественное устройство прямо влияет на вектор силы оружия. Так что если общество бесклассовое или состоит из не-антагонистических классов, то военная подготовка в нём направлена строго вовне и владеть оружием учатся решительно все дееспособные граждане. Если же в стране имеется фундаментальный социальный антагонизм, то боевые приготовления правящих кругов ведутся на два фронта – для внешних войн и для усмирения внутренних протестов. Что, впрочем, не мешало даже античным государствам порой вооружать и ставить в боевой строй рабов. А в последующие эпохи участие социальных низов в защите в том числе своих господ становится ещё более массовым вплоть до всеобщей обязанности, побуждая “хозяев жизни” вслед за военным делом заботиться также и о постоянном совершенствовании способов контроля за лояльностью ратных людей, а особенно “нижних чинов”.
Посмотрим теперь, как на соответствующих этапах человеческой истории обстояло дело с познанием окружающей действительности.
2. Особенности развития системы образования.
2а) Первобытное образование.
При том, что на Земле активное познание появляется практически одновременно с человечеством, первых людей, конечно же, интересовали не столько общие законы природы, сколько те её элементы, правильная ориентировка в которых позволяла сохранить и облегчить жизнь, а неточные действия грозили немедленной или голодной смертью. Но и при таком предельно утилитарном подходе нашим далёким пращурам приходилось заниматься весьма обширным кругом физических, химических, биологических и социально-психологических явлений. Так что внимательным и пытливым было где себя проявить. А семейная община в целом получала тем больше шансов избежать встречи с уничтожающими воздействиями, чем быстрее распространялись в ней любые достоверные данные об окружающем мире, добытые любым из сородичей.
И все же в условиях чисто прикладной направленности и зачаточного состояния методов первобытной “натурфилософии” даже вековые накопления информации оставались в пределах интересов и возможностей усвоения всякого нормального человека. Так что для очередного вступающего в жизнь поколения выход на самые передовые рубежи познания являлся подготовкой не к специализированной работе по дальнейшему исследованию природы, а просто к жизни. Отсюда и попытки дополнительно раздвинуть эти рубежи воспринимались авторами и окружающими не как отвлечённые научные эксперименты, а как одна из необходимых составляющих общего процесса бытия, помогающая сделать это бытие более надёжным и управляемым.
А стало быть, в основе бытовавших на заре человеческой истории всеобщего обучения и познавательной деятельности мы находим принципиально те же предпосылки, на которых базировалась и всеобщая оборона родо-племенных объединений. То есть:
1) малочисленность родовой общины и потому высокая заинтересованность её членов в совместном выживании и развитии;
2) в целом зачаточное состояние исследовательского дела, пока ещё не требующего к себе специальных навыков и почти полностью растворённого в повседневной борьбе за существование.
2б) Античное образование.
На этапе формирования государственности положение меняется, но пока ещё не принципиально.
В самом деле, ведь и в странах, чей путь мы не можем проследить до самых истоков – к примеру, в том же Египте фараонов, – отчётливо просматриваются следы объединения из более мелких административно-территориальных единиц. Которые, в свою очередь, складывались с учётом прежде всего кровного родства. Из-за чего люди с общим языком, обычаями, культурой могли разделяться на множество вполне независимых, самоуправляемых и далеко не всегда дружественных областей. А затем такие раздробленные этносы через какое-то время либо сплачивались тем или иным образом (чаще силой, но иногда по общему согласию) в более централизованные государства, либо становились добычей более сильных и организованных соседей.
Для наших же целей здесь важно ещё раз подчеркнуть, что древнегреческие полисы были не уникальной страницей истории, а напротив, во многом модельным случаем. И потому на их опыт мы ссылаемся не просто как на яркую иллюстрацию, но именно как на один из самых известных и изученных примеров проявления универсальных исторических закономерностей.
Так вот в Афинах в период расцвета насчитывалось около девяноста тысяч свободнорождённых, включая женщин и детей, в Коринфе и Эгине – вдвое меньше. Так что, даже поставив в строй всех боеспособных мужчин, конфликтовать на равных ранние мини-государства могли только с себе подобными. А отразить нашествие персов древние греки сумели, только отложив на время внутренние распри и заключив оборонительный союз. Однако шагом к дальнейшему объединению этот союз не стал, и уже в следующем веке и вплоть до Нового времени Греция превращается просто в территорию, входящую в ту или иную державу. Лишний раз доказывая этим, что в глобальной перспективе вновь возникавшие патриархальные государства были обречены становиться либо центрами территориального расширения, либо материалом для него.
Но если в политике были возможны хотя бы временные соглашения, то в экономической и идеологической сферах соперничество между близкородственными сообществами не прекращалось никогда. И жившие во многом за счёт торговли полисы были кровно заинтересованы в новых идеях и технических решениях, способных повысить привлекательность и конкурентоспособность создаваемых в них материальных и культурных ценностей. Напомним также, что наряду с состязаниями атлетов в Древней Греции проводились поэтические конкурсы, победа в которых ценилась не намного меньше олимпийского венка. Наконец, продолжавшие традиции патриархального самоуправления народные собрания хотя и перестали быть в полном смысле всеобщими, всё равно по своей представительности на порядки превосходили парламенты позднейших времён. И поддерживали достаточно прямую и наглядную связь между состоянием государства и способностью большинства граждан здраво судить о разных аспектах общественного бытия.
С другой стороны, в компактном государстве-городе каждый человек был не только на счету, но и на виду. А в таких сообществах, как показывает опыт, слухи о проявленной кем-либо бестолковости распространяются куда быстрее, чем известия об интеллектуальных достижениях. И потому все, кто заботится о своей репутации, стараются выйти по крайней мере на средневзвешенный уровень эрудиции.
При этом – в силу самых разных внутренних и внешних факторов – такой общекультурный стандарт даже в соседствующих областях мог заметно отличаться. И те же афиняне не совсем уж безосновательно могли считать спартанцев варварами среди эллинов. Но даже в самых передовых странах люди, серьёзно взявшиеся за своё образование, быстро становились вровень со своими наставниками и лицом к лицу с неизведанным. После чего начинали вместе изучать мир либо брались за прокладку собственных маршрутов. (С учётом такой возможности в школе-общине Пифагора (VI – нач. V в. до н. э.) даже действовало прямое требование все открытия учеников приписывать учителю.)