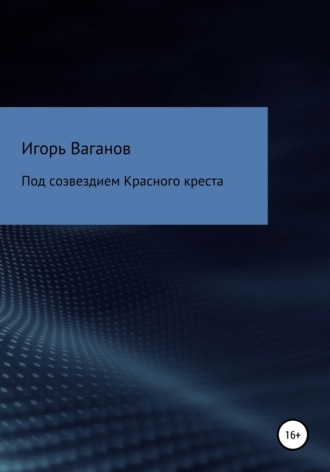 полная версия
полная версияПод созвездием Красного креста. Записки терапевта
– Я в этот день с утра трезвый был – решил еще раз работенку подыскать, – начал Забродин. – Походил по разным конторам, но все без толку. Так вот незаметно дело до обеда и прошло. Но обедать домой я не пошел, а заглянул на обратном пути в гараж и там с друзьями угостился самогоночкой. За этими делами как-то и позабыл, что у жены сегодня день рождения. Прихожу домой, почти трезвый – на своих ногах, только слегка одежда грязновата. Дома застолье – жена, племянницы, подруги жены… И жена мне сходу: «Нализался, пьяница! Уйди с глаз долой!»
Очень мне стало досадно. Мысли всякие в голову полезли. «Вот, – думаю, – пришел слегка выпивши – и пошел вон! А когда получку в дом приношу – всегда пожалуйста! Зачем и жить тогда, если в своем доме обузой стал для всех?»
Сейчас-то я понимаю, что это водка мне всякие мысли пакостные нашептывала. Но в тот момент оценивал всё по-другому. Ушел я в комнату сына (он в армии и она пустует), а по пути из кладовки нож большой, рыбацкий, прихватил. И решил я всем назло покончить счеты с жизнью. А для усиления эффекта – сделать себе харакири. Как в фильмах про самураев. Сел я на диван, расстегнул рубаху, вытащил нож из ножен и со всего маху себе в брюхо засадил. И сразу – резкая боль, сам словно в тумане нахожусь… Смутно помню лицо жены, и как в «скорую помощь» меня затаскивают. Боль при каждом толчке… Помню операционный зал, уколы мне делают. А потом отключился…
Очнулся я внезапно, и словно бы поднимаюсь, возношусь вверх к потолку. И сам-себя вижу лежащим внизу на операционном столе, и вокруг меня врачи с медсестрами суетятся, что-то делают. А я все выше и выше поднимаюсь, потом через какой-то светлый коридор промчался… и оказался на небесах. Светло вокруг. На душе так благостно и прекрасно – никогда у меня такого чувства не было. И встречают меня все мои умершие родственники – тех, которых я знал – покойная мама, дядюшки, тетушки, дедушка и во главе все моя любимая бабуся Марфа. Все они в белых одеждах, но не в полный рост, а наполовину – наподобие портрета. Бабуся сердита, хмурится, пальцем мне грозит и говорит: «Нехорошо ты, Коля, поступил! Рано тебе еще к нам. Возвращайся назад и живи. Ты еще нужен людям!»
И после этих слов я опять отключился… и очнулся только в больничной палате, в реанимации.
Вот такая со мной история приключилась. По правде сказать, неустойчив я раньше был к Богу, сомневался. А теперь, когда на ноги встану, сразу в церковь пойду, свечки поставлю, помолюсь…
Николай замолчал, выговорившись, и я, попрощавшись, оставил его отдыхать в палате.
Рассказ Забродина меня очень заинтересовал. Хотя атеистическое воспитание не позволяло мне полностью поверить в версию путешествия «на тот свет», в этом рассказе были такие детали, которые современная наука объяснить не могла. И у меня, как врача, возник ряд вопросов. Клиническая смерть подразумевает отсутствие сознания. Как же Николай мог увидеть происходящее в операционной во время своего «вознесения»? Светлый коридор и встреча с родственниками, ранее умершими, можно объяснить иллюзиями умирающего мозга. Но опять-таки это все же до сих пор только научные гипотезы. А вообще-то я был удивлен, что Вениамин удостоился «светлого коридора». Если оценивать с религиозных позиций, то такой пьяница, как Вениамин скорее бы должен попасть в «черную яму» или ограничиться забвением… Видно, много натерпелся трудолюбивый род Забродиных (дед Николая в годы коллективизации был незаконно «раскулачен» и выслан в Карелию), настрадался безвинно, и заслужили все его представители и «светлый коридор», и благодать Божию. Да и сам Николай, кроме пьянства, ни в каких грехах, а тем более, в подлостях замечен не был. Обычный честный труженик.
17.
Пока Николай отдыхал и набирался сил в больнице, его родственники переживали и каялись, виня себя за случившееся. Жена Забродина сказала соседке, что, дескать, зря она не позвала мужа к праздничному столу: пусть и пьяный был, зато здоровым бы остался.
Через два дня после посещения Николая в больнице, меня вызвали на дом к его отцу, Матвею Васильевичу. К нему я отправился сразу по окончанию приема в поликлинике. Идти пришлось на окраину райцентра – в микрорайон деревянных двухэтажных домиков.
Матвея Васильевича Забродина я знал по его нечастым посещениям поликлиники. Его судьба трагична и типична – типична для многих крестьянских семей России, испытавших в начале 30-х годов, так называемую, коллективизацию. Его отец Василий, уроженец здешних мест, был, что называется, «крепким середняком». Земля, дом, хозяйственные постройки и, главное, большая трудолюбивая семья: он сам, жена и десять детей – шесть сыновей и четыре дочери. Они не стали дробить свои участки, когда два старших сына обзавелись собственными семьями. У них фактически получился своеобразный семейный колхоз. Все трудились не покладая рук, до седьмого пота. Зимой, когда сельхозработы заканчивались, сыновья отправлялись на заработки – плотничали, столярничали, да и вообще не отказывались от любой работы. В итоге семья Забродиных не бедствовала и никогда не пользовалась наёмным трудом. И жили в достатке, на зависть местным пьянчугам и при всеобщем уважении других справных хозяев.
Но наступила «коллективизация», и спокойной жизни пришел конец. Семейный колхоз Забродиных (в котором к тому времени уже насчитывалось четырнадцать совершеннолетних работников – выросли и женились старшие сыновья) никак не вписывался в картину новой колхозной жизни. Братьев раскулачили на радость завистливым односельчанам-пьяницам, имущество Забродиных большей частью забрали в новый колхоз, а остатки растащили все те же односельчане, нынешние колхозники. А всех Забродиных, от мала до велика, отправили на север Карелии. Насколько мне было известно от Николая, горя им всем пришлось хлебнуть вдоволь! Но трехжильные вологодские мужики, привыкшие к тяжёлой работе и суровому климату, приспособились и к новой жизни. Работали на лесозаготовках, охотились, рыбачили. Так и прожили до самой войны, которая изрядно проредила этот работящий род. Среди выживших был и отец Николая, Матвей, который воевал на Карельском фронте, был ранен, после демобилизации вернулся в леспромхоз, женился. Сын Николай был первенцем. После школы и армии он работал там же в леспромхозе. А потом его отец, выйдя на пенсию, решил воротиться в родные края. И вернулся, с женой пенсионеркой, единственный из всего рода Забродиных. Через несколько лет вслед за отцом на родину предков приехал его старший сын Николай, уже женатый молодой отец.
Матвей Васильевич, худой лысоватый старик среднего роста, открыл дверь не сразу, а только после нескольких продолжительных и настойчивых звонков. Как выяснилось позднее, он был глуховат, что и не удивительно для его восьмидесяти лет. Жил он один – жена умерла несколько лет назад – в маленькой двухкомнатной квартирке, обставленной только самой необходимой мебелью.
Вызвал он меня в связи с повышенным артериальным давлением. Видимо переживал старик за сына, ночами не спал. И нынешней ночью случился гипертонический криз, давление скакнуло до немыслимых цифр. Приезжала «скорая», делали уколы, давление снизили. А утром был передан активный вызов участковому терапевту.
Осмотр проходил в так называемом «зале» – небольшой прямоугольной комнате площадью около шестнадцати квадратных метров. На стенах – недорогие бумажные обои, потолок оклеен такой же недорогой плиткой. Из мебели – диван, круглый стол, пара стульев, тумбочка, на которой стоял черно-белый телевизор «Рекорд». Пациент жаловался на умеренное головокружение. Сейчас артериальное давление было слегка повышенным для его возраста. Учитывая возможные побочные действия, я назначил несколько препаратов для снижения давления и для дальнейшего его поддержания на допустимых для данного пациента цифрах.
Когда осмотр был закончен и даны рекомендации, старик обратился ко мне слегка хрипловатым голосом:
– Не скажете, как там Коля? Когда выздоровеет?
Я знал, что все родственники Николая – в том числе и его отец, уже посетили в больнице неудачливого «самурая», но, видимо, старик хотел узнать и мое мнение, как медицинского работника.
– Выздоравливает Николай. Я думаю, что недели через две и домой выпишут – на долечивание, – заверил я старика. – Но боли, наверное, еще долго беспокоить будут.
– Эх, Коля, Коля. Грех-то какой – жизни себя хотел лишить! – вздохнул Василий Матвеевич. – А все водка окаянная! Я вот с этим зельем всю жизнь осторожничал, только слегка, да и то по большим праздникам. А сейчас вообще без нее обхожусь. А вот Веня, как с армии пришел и в леспромхозе стал работать, к водке и пристрастился…
Я не перебивал Василия Матвеевича – пусть выговорится, легче будет. Я вообще старался дать выговориться всем своим пациентам (если позволяла ситуация на приеме), а на вызовах – тем более. Возможность выговориться – потребность многих больных, особенно старых и одиноких. Выслушаешь внимательно престарелого пациента – и ему станет легче!
– Он, ведь, потом на шофера выучился, – продолжал старик. – В леспромхозе лез возил. Но выпивать не перестал. И попался на дороге выпивший. Оштрафовали его на первый раз. Не проняло! И через год вновь гаишники его заловили – с крепкого похмелья. На этот раз права отобрали. Опять Коля в лесорубы вернулся. А немного погодя сюда перебрались, так сразу здесь лесорубом и устроился. Не стал и права восстанавливать. Да и правильно: продолжает вино употреблять – а пьяному за рулем не место…
Во время разговора Василий Матвеевич не выглядел расстроенным и поникшим – передо мной сидел спокойный упрямый старик, сохранивший ясность ума и солдатскую выдержку.
И я подумал:
«До чего же крепок и несгибаем этот простой вологодский мужик – типичный представитель русского крестьянства – переживший ужасы коллективизации и раскулачивания, победивший в жесточайшей войне, осиливший послевоенную разруху, и сейчас, перешагнув на девятый десяток, не сгибающийся перед бытовыми проблемами и житейскими напастями!»
18.
Весна в этом году наступила слишком ранняя для здешних мест. Уже в начале марта воздух сильно потеплел, установилась солнечная погода, начали таять снега и потекли ручьи. А вот уже и лужи, и первые лесные проталины. Весна – пора надежд, каждый надеется на лучшее, ждет перемен и немножечко, в глубине души, маленького чуда.
В нашей семье тоже перемены – мы купили свой первый цветной телевизор – модель «Горизонт» с большим экраном. Купили по цене 850 рублей, что соответствовало моей зарплате за четыре месяца. Но в том то и дело, что даже за деньги такого телевизора не купить, в свободной продаже его нет (как нет и любых других телевизоров), нам пришлось прождать в очереди в местном универмаге целых два года. Да и вообще много чего нет в свободной продаже в наших магазинах. И сахарный песок уже по талонам продают, и на покупку у табачных изделий талоны ввели. Словно война началась!
Николая Забродина выписали из больницы, сидит дома, долечивается, периодически ходит к хирургу, проходит лечение для профилактики спаечной болезни. Пока алкоголь не употребляет. Не знаю, насколько хватит у него терпения…
Пациентов в поликлинике стало меньше – вспышка простудных заболеваний пошла на убыль. И даже хронические больные приходили ко мне только в случае крайней необходимости, предпочитая больничным стенам неспешные прогулки под мягким весенним солнышком и размеренные беседы на лавочках у подъездов. И вот, направившись как-то с активным вызовом к своему пациенту Груздеву, я встретил его у подъезда – он сидел на лавочке вместе с женой и счастливо улыбался.
– Уже гуляете? – поинтересовался я у их.
– Второй день начали на улицу выходить, – ответила жена. – Вожу его под руку, потихоньку. Надо к свежему воздуху привыкать.
– Хорошо на улице, – добавил Груздев, – душа радуется.
Я его хорошо понимал – для него, прошедшего по краешку могилы, сейчас важен каждый день, каждый луч солнца, каждое дуновение ветерка…
Этой весной я решил сделать очередную попытку получить категорию. Несмотря на длительный стаж работы в поликлинике у меня не было даже второй категории. Неохотно давали у нас категории врачам, оправдывая эти действия лимитом средств. Не то чтобы важна была для меня эта вторая категория – но почему бы и нет? Работу я выполнял исправно и никаких нарушений не было. Конечно, наличие второй категории не давало права на повышения зарплаты. Зарплату повышали только врачам первой категории, а её без предварительного получения второй не давали.
И в один из дней, когда у моего кабинета временно иссякли пациенты, я прошёл в кабинет к главному врачу. Он был на месте. И меня принял.
Мы поздоровались. И я без предисловия начал:
– Александр Николаевич! Пора бы мне на категорию сдавать. Первую пока не прошу, но на вторую у меня давно срок подошёл.
Главный врач, поправив пальцем очки, поджал губы, нахмурил брови – этот разговор ему не нравился.
– Видите ли, Николай Павлович, срок то у вас подошёл, но у нас на категории лимит, действуем в размерах выделенных средств. И на этот год категорию для вас никак не можем дать.
– Тогда давайте я буду готовиться на следующий год, – не унимался я.
– И на следующий год, боюсь, не получится. Если только через два года.
В общем, соловья баснями кормят! Уходил я от главного врача очень недовольный.
Главврач лукавил – средства у него были, но он их приберегал для выделения категорий узким специалистам. А нас, участковых терапевтов, обычно категориями не баловали, и на сегодняшний день из трёх участковых терапевтов райцентра ни у кого не было даже второй категории. Хотя тот же ЛОР-врач, работавший в ЦРБ пятый год, вторую категорию получил в прошлом году.
Медленно проходя по коридору поликлиники, я как-то отстраненно и отчётливо понял, что никаких то перспектив у меня в этой больничке не намечается. Как относился главврач к участковой службе, так сказать, «по остаточному принципу», так и будет дальше относиться. И категорию – даже вторую! – я смогу получить только в отдалённом будущем. А могут, придравшись к какому-либо промаху и вообще отказать!
19.
Сегодня у нас четверг – так называемый день профилактики. По четвергам в поликлинике, как обычно, работает только один дежурный терапевт по приему экстренных больных. Остальные врачи или проводят профосмотры, или уезжают на дальние медпункты проводить консультативный приём больных. Но сегодня никто никуда не поехал, сегодня – День Донора!
С утра, еще до открытия поликлиники в ЦРБ приехала группа сотрудников областной станции переливания крови. К десяти часам все было готово для приёма доноров.
Несколько часов я (и ещё один терапевт) принимал доноров, в основном мужчин (женщин было намного меньше), пожелавших сдать кровь. Кровь сдавали совершенно безвозмездно. Единственное, что получали доноры – талон на обед в столовой, а также справку – освобождение от работы на любой день (не считая дня Донора). Редко у кого-то выявлялись противопоказания, почти все заходившие в мой кабинет были кадровыми донорами, сдавшими кровь не один десяток раз. Пришёл и Николай Забродин, у него это была тридцать первая кровосдача.
– Как самочувствие? – поинтересовался я.
– Отличное! Я после каждой сдачи крови чувствую себя превосходно – кажется, что здоровья прибавляется…
К полудню количество доноров стало уменьшаться, а потом и вовсе не прекратился. В завершении кровь стали сдавать медработники ЦРБ. Сдал кровь и я, это у меня была уже двадцатая кровосдача, и у меня была уже первая степень донора.
В 14 часов прием доноров завершился. Все медработники собрались в конференцзале поликлиники. Главный врач поблагодарил нас за работу.
Дали слово и руководителю группы станции переливания крови – высокой худощавой женщине средних лет. Она также поблагодарила всех за участие в мероприятии, сообщила, что показатели сегодняшнего приема превысили средне-областные. И потом она произнесла следующее:
– Мы, медицинские работники, всегда работаем на благо наших пациентов, а, значит, на благо всего народа, всей страны. Наша эмблема – Красный Крест, это символ всей медицины. Образно говоря, мы все самоотверженно трудимся под созвездием Красного Креста.
Эта фраза, такая ёмкая и точная, как-то прочно отпечаталась в моей памяти. Действительно, не только эмблема змеи, обвившейся вокруг чаши, а в большей степени красный крест является символом всей нашей Российской медицины. И не случайно именно красный крест (а не эмблема со змеей) изображен на машине «скорой помощи», передового отряда медицины.
20.
Погода продолжала держаться на удивление теплой, к концу апреля повсюду зазеленела трава, на деревьях распустились почки. Земля мало-мальски прогрелась, и кое-кто уже стал сажать картошку. В совхозах, как обычно, началась подготовка к посевным работам. Всё шло по налаженному укладу жизни, и казалось, что никакие события не смогут этому помешать.
Беда, как водится пришла неожиданно! В начале мая – сразу после праздников – все врачи больницы собрались на утреннюю оперативку у главного врача.
Обычно вначале выступал фельдшер скорой помощи с докладом о прошедшем дежурстве. Но сегодня оперативку начал сам главврач. Поправив двумя пальцами очки в солидной роговой оправе, он окинул все присутствующих серьезным взглядом и сказал веским тоном:
– Коллеги! Сегодня ночью в нашем районе произошла крупная техногенная авария. Спокойная жизнь закончилась. Теперь вам придется работать, засучив рукава.
«Как будто, мы и раньше так не работали!» – подумал я и продолжил слушать речь главврача.
Из его дальнейшего рассказа мы узнали, что на железнодорожной станции Свищ (40 км от райцентра) сегодня в третьем часу ночи сошли с рельс и опрокинулись две цистерны с ядовитым химическим веществом – фенолом, который разлился по прилегающей территории и даже частично попал в тамошнюю маленькую речку Елань. Погибших не было – обошлось, но двое рабочих станции получили тяжелое отравление (да вдобавок и ожог кожи) и еще десяток – отравление средней степени тяжести. Все они уже госпитализированы к нам в областную больницу. Но следует ожидать еще случаи отравления: во-первых, потому что фенол попал в речку, а во-вторых, потому что сейчас половодье, стоит высокая вода, и фенол по грунтовым водам может дойти до колодцев. Сейчас в срочном порядке отправлена цистерна с питьевой водой в Свищ для местных жителей. И сегодня же будет направлен в Свищ врач-терапевт, который будет выявлять и госпитализировать всех пациентов с отравлением.
Судя по уверенной речи, главный врач загодя успел подготовиться и поэтому сейчас свободно ориентировался и в клинике отравления фенолом (которую он нам попутно и популярно изложил) и в перспективе возможных последствий.
В Свищ было решено командировать врача-терапевта Лобанова из терапевтического отделения. Кроме него там была еще и заведующая, Нина Степановна, так что отделение без врача не останется. А терапевтические участки пока решили не оголять, потому что терапевты и так работали с повышенными нагрузками, потому что работы и без того хватало.
Такое решение главврача меня очень устраивало. Не готов я был к командировке! Хорошо Лобанову – он холостяк, за полчаса собрал чемодан – и в дорогу. А у меня двое детей, младшая дочь только в садик пошла. Да еще в лесхозе подработка – не бросишь! Так что пусть Лобанов в командировку едет.
На следующее утро, в половине восьмого, я проверял водителей лесхоза. Все здоровые, все трезвые, все допускаются к рейсу.
Кроме водителей, в коридоре лесхоза толпились лесорубы. Сегодня они отправлялись не на делянку, а на станцию Свищ, для ликвидации последствий аварии. Подобные бригады формировались и на других предприятиях райцентра. Все это делалось по распоряжению райкома партии. Я, признаться, всегда был невысокого мнения и о райкоме партии и о райисполкоме, но в данной ситуации районная власть не растерялась, а поступила как надо – по всем правилам, оперативно и профессионально!
Закончив проверку водителей, я поспешил к выходу, чтобы проехать с одним из водителей попутно до поликлиники. На минутку остановился около лесорубов.
– Пить взяли? – спросил я у них
– А как же: термос чая на каждого да по фляжке воды! – дружно ответили сразу несколько человек.
– Все правильно! Из колодцев воду не пейте – наверняка, уже отравленная.
– Нас предупредили.
21.
Сколько я помню, наш райцентр (да и весь наш район тоже) всегда жил спокойной, прямо-таки полусонной жизнью. На просторах СССР начинались и завершались великие стройки, менялись генсеки, наконец, началась «перестройка». А у нас народ жил заботами об урожаях картошки и клюквы, и даже «перестройка» проходила плавно и аккуратно, словно делая осторожные шаги по незнакомому болоту. Нынешняя авария была свежим ветерком, а, может быть, и предвестником страшного урагана.
Прошло два дня, начался четверг. Обычно по четвергам в ЦРБ проводились профилактические осмотры или врачебные рейды по участковым больницам и медпунктам района для лечебно-консультационного приема сельских жителей. Сегодня главный врач решил одновременно совместить два важных мероприятия – консультативный прием и выявление отравлений фенолом. Нас послали на Шорборовский медпункт, который находился в 30 километров от Свища, вниз по течению реки Елань. Учитывая то, что река не течет по ровной линии, а делает различные повороты, фактическое расстояние по реке надо увеличить вдвое. А еще надо учитывать, что река имеет заводи, где скорость течения очень замедляется. Но даже при таком раскладе фенол, попавший в Елань в Свище, уже достиг Шорборово и, возможно, попал в здешние колодцы. Вчера вечером из райцентра туда была отправлена цистерна с питьевой водой, всем жителям запретили пользоваться водой из колодцев – только из родников. Но сельские жители, особенно в мелких деревушках очень недоверчивы ко всем заявлениям власти… И поэтому нашей врачебной бригаде надо быть внимательными – не пропустить бы какую-нибудь легкую степень отравления!
До села Шорборово от райцентра путь не близкий – более пятидесяти километров по обычной лесной дороге, сформировавшейся, так сказать, естественным путем, совершенно стихийно ещё со времен царя Гороха. И хотя почвы в тех местах песчаные, но весной и осенью на легковых машинах лучше не рисковать – можно засесть на какой-нибудь луже.
В поездку нам дали самый надежный транспорт – санитарную машину УАЗ-«буханку». Кроме меня, терапевта, поехали невропатолог Косарев, невысокого роста мужчина в модных очках с позолоченной оправой и отоларинголог (которого все попросту называли ЛОРом) Петровский, мой ровесник, высокий, худой, с отличным зрением и превосходным слухом.
Первый десяток километров мы проехали по удобному участку дороги с гравийным покрытием, с аккуратными дренажными канавами по обочинам. Но эта комфортная езда продолжалась недолго. Вот дорога сузилась, гравийное покрытие закончилось и в дальнейшем встречалось нам только в отдельных местах – там, где располагались особо обширные и глубокие лужи. По обеим сторонам дороги густой стеной стояли сосны и ели, но иногда то справа, то слева лесной массив прерывался и за узкую полоской чахлых кустарников начиналось обширное болото, которое через пару километров вновь исчезало за очередным сосновым бором.
Машина снизила скорость до 30-40 км/ч, местами мы и вовсе ползли, как на телеге, преодолевая очередную лужу. Иногда встречались редкие деревушки в пяток жилых домов – остальные, в гораздо большем количестве, с выбитыми или заколоченными досками окнами, тихо догнивали в своем тоскливом запустении…
Несмотря на разбитую дорогу, никто из нас на судьбу не жаловался. Все в нашей компании, включая водителя, были относительно молодого возраста – от 30 до 40 лет), и после однообразной и напряженной работы в поликлинике такие поездки воспринимались, как развлечение.
А лично у меня было не только стремление к перемене обстановки, но также обычное желание помочь людям. Я всегда с большим сочувствием относился к сельским жителям, особенно старым и немощным, доживавшим свой век в отдаленных деревушках и хуторках. Они и в свой медпункт добирались с трудом. Поэтому приезд врачей из райцентра для них радостное событие.
Спустя час такой вот неторопливой езды миновали поворот на воинскую часть: знак «въезд воспрещен» (в народе называется «кирпич»), аккуратная дорога, вымощенная бетонными плитами. Очень секретный объект, но все в районе знают, что здесь находится база ракет стратегического назначения.
И опять по обе стороны дороги потянулся лес. На этот раз, вперемешку с еловыми деревьями, попадались березы, ивы, какой-то кустарник
Пахнуло ветерком, речной сыростью, неожиданно, из-за верхушек ближайшей сосновой рощицы, навстречу УАЗу вылетели две чайки. Быстро развернулись, какое-то время летели, как бы сопровождая машину, а потом, с отчаянными криками улетели вправо… Дорога выскочила на бугорок, а потом плавно пошла вниз по склону. Впереди показалась синеватая гладь реки Елань, которая в этом месте была достаточно полноводная – около пятидесяти метров в ширину.


