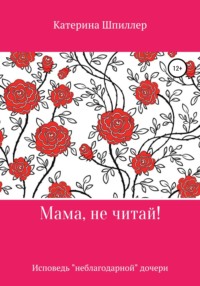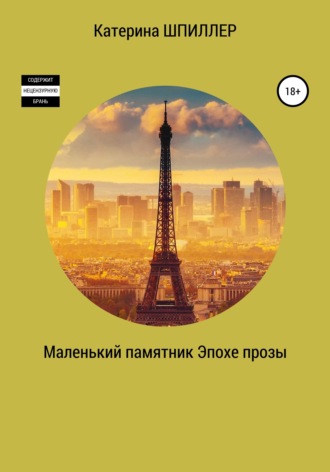 полная версия
полная версияМаленький памятник эпохе прозы
– Доча! – мама обняла ладонями моё лицо. – Это единственное, о чём я тебя прошу, умоляю! Ну, хотя бы пока. Не прописывай. Подождите, не торопитесь. Если всё будет хорошо, то… всё и будет хорошо, – неловко закончила она свою мысль. – Пожалуйста!
– Ладно, – пожала я плечами.
Собственно, Тимур и не настаивал ни на чём таком. Даже разговоров не было. А маме за просьбу-рекомендацию поклон до земли – возможно, она отвела от меня серьёзные неприятности, как показало будущее.
И была свадьба.
От свадьбы нам с Тимуром отвертеться не удалось: его серьёзные до суровости, насквозь советские родители не могли допустить, чтобы такое событие не было отмечено «как следует, как у людей, как принято». Хотя лучше бы их озаботило слишком раннее создание сыном семьи – в неполные-то девятнадцать лет! Да и моя мама тоже странно себя повела (как я теперь думаю) – не отговаривала, не уговаривала подождать, не убеждала, что, мол, некуда торопиться. Всё же перестройка меняла сознание даже совсем взрослых и немолодых людей, склоняя к убеждению, что «лучше всё разрешать, чем запрещать, а то осудят и объявят ретроградами». Но до простой мысли, что можно пожить вместе, не регистрируя свои отношения в ЗАГСе, не устраивая свадьбы, не декларируя создания семьи, советскому гражданину ещё надо было долго идти по трудному пути. Как это – не поставить в известность государство? Мы себе такое позволить не можем, да и в санатории в один номер не поселят. Кроме того, жить мужчине и женщине вместе просто так – нехорошо: сожительство общественность не одобряет.
Зато для меня регистрация давала возможность сменить, наконец, фамилию. Безусловный плюс.
Свадьба пела и плясала в ресторане, помню я ту гульбу смутно. Лишь платье нежно-розовое с блёстками забыть не могу и громкий и раздражавший репертуаром ансамбль. Когда лабухи затянули «Не сыпь мне соль на рану» к вящему восторгу публики, мы с Тимуром беспомощно переглянулись, мой теперь уже супруг захихикал, а мне захотелось сбежать. Полинка обняла меня за плечи и загробным голосом произнесла:
– Крепись, сестра. Традиции – они такие. Скажи спасибо, что без хлеба-соли обошлось, – мы прыснули.
Зато мои Малюдки хохотали и вовсю веселились. Под «соль на рану» они выкаблучивались с деланно страдальческим видом, старательно «вытанцовывая» текст. Маринка, как всегда красиво, как бы корчилась от боли, а Людка лицом изображала плач и откровенно хромала на «раненую» ногу – не шибко элегантно, но дико смешно. Моя студенческая компания, всем составом пришедшая на свадьбу, не танцевала «под такое», ожидая «нормальной» музыки, но хохотала, глядя на моих школьных подруг, веселившихся по-детски непосредственно. Эх, не видели они, что бывало, когда мы собирались без свидетелей: волшебная палочка моментально превращала нас в школьниц, в девчонок, которые дурачатся, бесятся, кривляются и дерутся подушками.
На моей свадьбе Малюдки хлебнули немного вина и расслабились, превратившись в подростков. Как же меня тянуло подурачиться вместе с ними! Присоединиться к подругам мешало длинное, колючее и неудобное платье. И немного – положение невесты.
Кстати, про Маринку. Наша Лоллобриджида чуть свадьбу не сорвала. Шучу. Все взгляды (кроме Тимуриного) были прикованы к ней. Стоило ей появиться, пусть и в довольно скромном, зато ярко-бордовом платье, с собранной в элегантную высокую причёску шевелюрой, как раздалось дружное «ах!». Для женщин мероприятие было безнадёжно испорчено. А мужчины… не знаю. Подозреваю, некоторые напились слишком быстро и чересчур сильно для интеллигентной публики по очевидной причине: Маринка.
Конечно, к ней тут же начали клеиться парни из моего института, некоторые гады побросали своих девушек, что вызвало несколько истерик в дамском туалете. Это было для меня настолько ожидаемо и привычно, что я не удивилась: где Маринка, там непременно в сторонке рыдает какая-нибудь женщина или девушка. Хорошо, если только одна.
Марина отшила всех кавалеров: в тот момент она переживала в самой начальной стадии страстный роман с гением режиссёрского факультета ВГИКа, поэтому шансов не было ни у кого.
Тут я должна признаться в стыдном.
Сказать, как я боялась момента знакомства Тимура и Маринки – ничего не сказать. Получилось так, что Малюдки впервые увидели Кондратьева прямо в день моей свадьбы.
Примерно за месяц до у меня началась паника, которую никто не заметил только благодаря моему умению делать лицо (спасибо папочке). Ночью не спалось, ныло в груди от ужаса предчувствия. Потом я всё же засыпала, и приходили настоящие кошмары: увидев Марину, Тимур забывает, кто я такая, что совершенно естественно. Я кричу ему, ору: «Тимур! Я – твоя Белка, повернись ко мне, вспомни!» А он не слышит, не замечает, ухом не ведёт. Просыпалась в слезах… В итоге за неделю до свадьбы я перестала есть и ко дню икс похудела килограмма на четыре, была бледна аки сама смерть, но, как выяснилось, мне это шло.
– Ого! – сказали мои Малюдки, увидев меня в роскошном свадебном платье, тощую и с «интересной бледностью». В этом «ого» было столько искреннего восхищения, что я посмотрела на себя в зеркало очень внимательно: оттуда сияла глазами с лихорадочным блеском белолицая, по-модному худющая принцесса в роскошном платье и с королевской укладкой рыжих локонов. На похудевшем лице особенно ярко выделялись красивые губы, тронутые модной перламутровой помадой. В общем, я себя не очень узнала.
– Как тебе… мои подружки? – с трудом сдерживая дрожь в голосе, я при первой же возможности прильнула к уху Тимура.
– Классные! – улыбнулся тот.
– А… Марина? Красивая, правда? – мой тон был спокоен, выражение лица безмятежно. Лишь сбесившееся сердце мешало нормально дышать.
– Да, очень красивая, – согласно кивнул Тимур. – А можно я тебя без всякого «горько» поцелую? – и впился в мои губы, а все радостно заверещали.
Каюсь, каюсь! Я следила за его взглядом всю свадьбу. Видали дуру ревнивую? Зато убедилась: он не потерял голову от Марины, не останавливался на ней взглядом дольше, чем на ком-либо другом. Он продолжал меня любить, ничего не изменилось. Господи, какая я кретинка!
Свадьбу сыграли в самом начале августа. Я вышла замуж и звалась теперь Беллой Кондратьевой. То есть, Белкой Кондратьевой! Мы переехали в мою квартиру, не особенно что-то переделывая в ней: там всё было более-менее в порядке, а «крутизна» нас не волновала. Тогда понятие «элитное жильё» ещё не стало навязчивым, евроремонты только начинали удивлять своим роскошеством и лишь у самых богатых.
Квартира бабушки и дедушки представляла собой идеал, мечту, рекламную картинку обстановки конца семидесятых. Всё в прекрасном состоянии, ведь бабулечка работала хозяюшкой, обожавшей своё дело. В нашем с мужем распоряжении оказалась отличная мебель а-ля совок, много идеально сохранной посуды, горы хрустящего, пахнущего мятой, кипенно белого постельного белья, милая голубая кухонька, в спальне удобная огромная деревянная кровать с отличным матрасом, тумбочки и трельяж.
В гостиной стояла знакомая многим югославская стенка, у противоположной стены диван, а перед тумбой с телевизором – два кресла. Мягкая мебель была изумрудного оттенка в крохотный золотой цветочек. На полу лежал настоящий туркменский ковёр от окна до противоположной стены. Телевизор у моих стариков в последние два года их жизни был японский, который им помогли приобрести высокопоставленные в горбачёвское время приятели. Настоящий «Хитачи», который прослужит и нам добрый десяток лет. Что ещё нужно для счастья?
Между прочим, сегодня подобный интерьер да в таком безупречном состоянии назвали бы винтажным, и стоил бы он немалых денег. Модно потому что! Но в начале девяностых он не имел никакой ценности, кроме той, что всё это наше. Хотя по сути – «бабушкин рай» и только. Впрочем, и «мамин» тоже: в те годы представления о шике и благополучии почти не менялись из десятилетия в десятилетие, стенка-ковёр-спальный гарнитур красовались в благополучных квартирах и в мечтах советских граждан победнее. Поэтому и нам, молодым, глаз не резало, а счастье заключалось в том, что у нас сразу было собственное жильё!
Две комнаты на двоих, живи и радуйся. Можно даже ребёнка рожать без раздумий – места хватит. Теоретически. Но при первой же попытке намёка от кого-то из старших насчёт возможности размножиться, мы с Тимуром чуть не хором воскликнули:
– Сначала образование! Сначала – диплом!
От нас отстали, ведь было нам неполных девятнадцать лет. Честно признаюсь: вовсе не в дипломе причина – по крайней мере для меня. Казалось безумием рожать так рано, ведь моё детство только что закончилось, лишь вчера я сама была ребёнком!
Тогда ещё я не понимала про себя почти ничего. Кто я? Что я? А если меня порой терзает ощущение, что всё самое главное и лучшее уже произошло и дальше – тишина? А если я не чувствую будущего? Или наоборот: всё, что происходит сейчас – временное, репетиция, тренаж ради чего-то важного грядущего, к которому надо идти упорно и долго, познавая себя. Какие могут быть дети, зачем? Это безумие.
– Безумие! – соглашался Тимур.
Я влюблённая по макушечку!
Маленькая революция и большое счастье
Нам с Тимуркой было хорошо. Даже очень хорошо! Сама жизнь и история страны будто подсовывали нам романтику и приключения. Когда в августе, через полмесяца после свадьбы, произошли известные события мирового масштаба, все три ночи мы провели у Белого дома. Мы и Полина – её не могло не быть там, разумеется.
С нежностью вспоминаю те дни. Пожалуй, эта неделя останется в памяти удивительным и счастливым событием. Нас, молодых, у Белого дома было очень много, все вокруг казались такими красивыми и родными, а чувство любви к миру наполняло по самую маковку. Хотелось плакать и смеяться одновременно, хотелось петь – и мы пели, рассевшись вокруг костра. В нашем кругу оказалось сразу две гитары и двое вполне сносно на них бряцали.
– Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна… – нежные девичьи голоса звенели в августовской ночи. Соседний «кружок» вокруг своего костерка пел что-то революционное, но мы слышали только себя. Я поднимала глаза к небу и видела яркие звёзды. Вокруг были друзья и единомышленники. Будущее начинало обретать удивительно радостные черты, казалось, дальше будет только лучше. Было ли нам страшно? Ни капли! Молодость же, безбашенность, романтика.
Домой нельзя, там нас с помощью телефонной связи караулили родители. Домашний дисковый аппарат цвета топлёного молока, большой, с массивной тяжёлой трубкой и спиральным проводом (это я для родившихся в «мобильную» эпоху рассказываю) нельзя было игнорировать и не отвечать на пронзительно визгливые звонки. Бедные предки чуть ни плакали от страха (что понятно), но удержать нас дома и уговорить «не соваться в пекло» оказалось выше их возможностей. Революция – дело молодых. Мы ждали этого всю свою недолгую жизнь, мы хотели и жаждали перемен. И ни черта не боялись!
Но моих Малюдок родители не отпустили «на революцию». Строго-настрого наказали сидеть дома: вот, что значит продолжать жить с родителями – приходилось подчиняться. Было немного грустно без них, так хотелось разделить восторг с моими девчонками! Зато потом я им в красках всё рассказывала, они слушали, вылупив глаза:
– Какие вы молодцы! Жаль, что нас не было с вами!
Хорошо, что тогда ещё не существовало мобильной связи, иначе мамы с папами измучили бы детей и многих наверняка продавили бы шантажом на тему «у меня будет инфаркт, инсульт, когда вас раздавят танками». Мамы-папы слушали репортажи с места событий по шипящему радио с убегающим звуком, Малюдки перезванивались между собой, на чём свет кляли своих предков и волновались за меня, обзывая «сумасшедшей», ведь им всем было по-настоящему страшно. А нам в эпицентре событий – нет.
Впрочем, там, у Белого дома, было немало народу возраста наших родителей. Мы смотрели на них немного удивлённо – что за личности, зачем они тут, им надо дома сидеть – в тепле и покое. Сейчас смешно вспоминать: речь о людях сорока-пятидесяти лет, но нам казалось, они старики, и их место у телевизора, рядом с аптечкой, валидолом и горчичниками. Куда они лезут, на кой рожон в таком возрасте?
Кстати, «старики» выглядели ещё счастливее нас! Порой их реакции на всё происходящее казались избыточными: не сдерживаясь, они начинали плакать, потом смеяться, вытирали слёзы, часто повторяя: «Наконец-то! Сколько молодых – это победа!» Они были ласковы к нам, относились бережно, всё время призывали «поберечь себя, вам ещё новую страну строить!», подчёркивали: «Ребятки, вы герои! Теперь всё будет хорошо, раз вы здесь».
Они ждали намного дольше нас и давно потеряли надежду, что это случится. Или вообще не верили в подобное. Для них те три августовских дня – нежданный подарок, нечаянно сбывшаяся мечта долгих-долгих лет.
Если бы они знали, как ошибались в оценке происходящего, в нас, в молодёжи, да и в себе тоже – что, возможно, намного серьезней. Если бы мы все знали. То нас там не было бы, никого.
Но сейчас, даже зная неведомое тогда будущее, не предам и не отдам тех воспоминаний! Запах печёной картошки, тепло плеча Тимура, рука в руке, его поющий голос, отдающийся во всём моём теле сладким томлением, разгорячённые красивые лица вокруг, фляжка с чем-то крепким, идущая по кругу… И жаркая вера, что начинается абсолютно новая, прекрасная жизнь, которую мы честно отвоюем, отстоим. Ну, да… «Мы наш, мы новый мир построим.»
И разве это было неправильно? А как правильно? Жизнь премудрого пескаря? Сейчас именно так и существует большинство. Нравится? Нечего жаловаться тогда. Всё идёт, как дОлжно. А у нас было по-другому, и мы были счастливы.
Кто мог знать, что всё будет предано, легко и непринуждённо сдано, заложено, заплёвано и растёрто сапогом? А уроки истории, как показало будущее, мы все учили не очень хорошо. Прямо скажем – отвратительно.
Но тогда мы победили! И в сентябре пошли учиться самые счастливые в мире победители Дракона – мы с Тимуром. Моя жизнь в те месяцы – какой-то горный серпантин! События сделали крутой вираж, и опять началась новая эпоха, меняющаяся на ходу, стремительно и непредсказуемо.
Формально пошёл отсчёт новой эры, но, в сущности, сразу мало что изменилось. Пока всё продолжалось, как прежде: магазины пустели окончательно и бесповоротно, люди так же ходили на работу или учились, СССР шатался и кренился, но ещё не развалился, капитализм официально не объявили, хотя уже не запрещали. Всё будто сжалось, сконцентрировалось и приготовилось к прыжку. А пока вошло в режим ожидания, инерционно катясь по проложенным рельсам, хотя и постепенно притормаживая.
Сильно изменилась лишь пропаганда, а, соответственно, пресса. Остальное «оставалось на своих местах до особого распоряжения».
Молодёжная среда бурлила и страстно приветствовала перемены. Правда, у многих возникали конфликты с родителями и более «древними» родственниками, что не обошло и нашу семью.
Тимур крепко ругался со своими «предками», которые на дух не принимали никакой антикоммунизм и, особенно, антисоветчину.
– Вы ещё нахлебаетесь этой своей свободы! – хрипло орал побагровевший свёкор, в то время как я по-быстрому застёгивала молнию на сапогах в прихожей, сообразив пять минут назад, что надо сваливать с воскресного семейного обеда – только скандала на политической почве нам не хватало! Свекровь тихонько всхлипывала, а Тимур, вскочив из-за стола, размахивал руками и кричал ничуть не тише папаши:
– Что ты несёшь? Свободы нельзя «нахлебаться», она просто или есть, или её нет! Вам, видимо, всегда нравилось быть крепостными при барыне Софье Власьевне…
– Кто крепостные? Мы с матерью? Ты ещё нас рабами обзови!
– А что – не рабы, скажешь? Не рабы, да?
– В чём рабство, где рабство?
Они стояли друг против друга – красные, всклокоченные петухи, оба высокие, широкоплечие, взбесившиеся. Тимур молодой и крепкий, отец его – тоже крепкий и вовсе не старый, всего-то под пятьдесят. Вот-вот сцепятся два придурка в рукопашной. Их разделял лишь хлипенький стол, сервированный «выходной» посудой с салатом оливье, аккуратно порезанными баночными огурчиками, красиво разложенным вкусным и незнакомым мне сыром. Где только удалось достать? – совсем некстати думалось мне, и было ужасно обидно, что я успела съесть всего один кусочек. В свободной продаже нормального сыра не было уже давно. Кое-где продавали только смешную копию адыгейского –гадкого, резинового, в рот невозможно взять.
– Ты когда последний раз просто так, по своему собственному желанию, ездил за границы эсэсэсэра, а? – вопил тем временем Тимур, сочтя тему туризма убедительным аргументом.
– А мне оно надо? Ты спросил – мне-то оно надо? – не тут-то было – им на самом деле «оно не надо». Вдруг мне показалось, что рука свёкра тянется к горлу моего супруга! И я прямо в сапогах рванула в гостиную к Тимуру, схватила его за свитер и потащила в коридор.
– Да пойдём уже, псих ненормальный! Вы ещё подеритесь…
Свекровь вскочила и унеслась. Плакать, наверное, подумалось мне. Но нет: через мгновение та появилась из кухни, неся небольшой свёрток в серой бумаге, который сунула мне в руки.
– Вот вам сырку домой – нам из Минска два килограмма привезли, – шепнула она. Тимур тем временем застёгивал куртку, причём, делал это настолько экспрессивно, что непонятно, как ему удалось совладать с молнией и не сломать её ко всем чертям.
– Ой, спасибо огромное! – светски улыбнулась я и чмокнула свекровь в щёчку. Вся сценка – абсурд и цирк. Только в тот момент совсем было не смешно, зато сейчас… Вспоминаю и хихикаю.
Нынче многие «точно помнят», что голодали. И вообще в девяностые пережили натуральный концлагерь. Не краснеют же. Мне кажется, стыдно говорить о голоде, когда просто не можешь себе позволить какие-то деликатесы, ибо не по карману. Голод – ведь это совсем другое. Постыдились бы «голодающие» так врать, зная нашу историю – голод в Гражданскую войну, в Ленинградскую блокаду… Ах, как любят некоторые для усиления эффекта бросаться сильными словами! Голод-война-разруха в девяностые, после развала СССР. В итоге гаденько и подленько выходит, потому что не усиление эффекта получается, а очень большая ложь, переворачивающая с ног на голову правду, историю, реальность.
Пока не «отпустили» цены, магазины были пугающе пусты, и перспектива настоящего голода не казалась невозможной. Но процветали рынки! И граждане, у которых не было проблем с наличностью, ни в чём себе не отказывали – на рынке можно было купить почти всё.
У нас с Тимуром были две жалкие стипендии плюс родительская помощь, составлявшая львиную долю семейного бюджета (естественно, наш дом был полон конфетами и закрутками из маминых даров). Если б не родители, то пошли бы работать, куда делись бы? Я точно знала, что могу быть приходящей няней или даже уборщицей, если потребуется. Тимур, крепкий и сильный, всегда заработал бы грузчиком или на другой какой работе, где требовалась физическая сила. Мне казалось, что он тоже был к этому готов в случае чего. Словом, пухнуть от голода не стали бы при любом раскладе. Но нам просто не понадобилось, спасибо «предкам».
Хотя, разумеется, никто нас не обеспечивал средствами, подходящими для рыночных покупок, вот уж нет. Мы крутились и выкручивались, как большинство небогатых граждан. Вели охоту за продуктами. Если нужно, томились в часовых очередях.
Через много лет после этого «романтического» периода в каком-то журнале опубликовали шуточный опросник «памяти совка», с помощью которого определяли степень «совковости». Правда, авторы назвали тест аккуратно и осторожно: «степень ностальгии по прошлому», которую определяли по шкале от нуля до ста процентов. Один из вопросов: за чем (если оно в жутком дефиците) вы готовы были бы отстоять в любой очереди, даже самой длинной и мучительной? По пунктам перечислены: духи «Красная Москва», варёная любительская колбаса, болгарские джинсы, импортные зимние сапоги, финский холодильник… А потом уже совсем экзотическое: красота, здоровье, ум, богатство, успех. Самопознавательный тест-опрос. Вот для меня совершенно очевидно: никогда и ни за чем. Даже за здоровьем! Не встану в очередь и за спасением от смерти – лучше умру.
Советские очереди сделали мне надёжную прививку навек – я к ним близко подойти не могу. Кстати, так и живу по сей день: если вижу хотя бы небольшой «хвостик» к прилавку, магазину… даже к музею или за билетами в театр, разворачиваюсь и ухожу. Со времён гибели совка и окончания дефицита я не потратила ни на какую очередь ни минуты. Лучше десять раз перебьюсь, чем встану кому-то в затылок. У меня есть всё нужное, необходимое, желанное и даже лишнее. И нервы сэкономлю хотя бы на такой гадости, как «живая очередь». Кстати, умиляюсь до сих пор этому выражению. Очередь ещё живая, пока живая, почти живая, вечно живая.
Однажды Тимур пришёл домой довольный, смеющийся, в обнимку с тяжёлым картонным ящиком, внутри которого оказалось сорок восемь банок «Сайры». Идя по улице от метро к дому, он увидел необычайное оживление у магазина «Мясо» и удивился: мясная продукция давно не подавала признаков жизни в магазинах нашего города, мы совсем перестали надеяться урвать что-либо похожее на мясо там, где оно должно продаваться. А тут – гляди-ка, народ кучкуется, пытается выстроить очередь, но это непросто. Человеческая змейка постоянно машет «хвостом» – подходят новые люди, пристраиваются с другой стороны, начинается психоз, перебегание из конца в конец, истерическое выяснение, кто за кем, и совсем без юмора звучит сакраментальное «вас тут не стояло».
Тимур рванул к месту предполагаемой торговли, быстро сориентировался и сумел застолбить себе очередь, всё же организовавшуюся благодаря парочке крикливых активистов.
– Что дают? – спросил, наконец, Тимур у близстоящих, убедившись, что уже натоптал законное место, его видели и в случае чего опознают, как своего. – Кости?
– Неизвестно пока, – был угрюмый ответ. – Но что-то точно будет, они вон готовятся, – говорящий подбородком показал на полуоткрытую, пока что перегороженную шваброй дверь, за которой суетились толстые тёти в магазинной униформе и небритые дяди в обличье то ли мясников, то ли грузчиков.
Через четверть часа всё разрешилось: магазин «Мясо» начал бурную продажу консервов «Сайра в масле». В любом количестве, хоть целым ящиком. Поэтому довольно быстро всё распродали, но Тимуру повезло: до него в очереди оказались в основном немолодые женщины, чуть не плакавшие, что не в состоянии унести столько банок, сколько хотелось. А уж позволить себе купить целый не распакованный ящик могли только крепкие мужчины.
– Может, надо было два? – засомневался муж виновато.
– Ты б надорвался. А вообще здорово! Обожаю сайру.
– Так я об этом и подумал.
– Тимурчик! Ну, не до такой же степени. Сколько ж мы эту рыбу жрать будем?
Ели мы её почти три месяца, перемежая изредка, если очень везло, «ножками Буша», котлетами из кулинарии (мы их прозвали «очередными», потому что даже за ними приходилось постоять часок в очереди), худыми курицами по прозванью «синяя птица» (зато какой получался супец!) и опять же мамиными запасами, в том числе тушёнкой, которая ого-го как пригодилась тогда.
Но с тех пор я эту сайру видеть не могла довольно долго. Лет через десять ностальгически купила – а ведь ничего, вполне съедобная штука. Правда, в молодости она казалось мне куда вкуснее. С чёрным хлебушком (лучше Бородинским!) да с варёным яичком – ах! Пища богов. Нынче… ну, сайра и сайра, ничего особенного. Есть можно.
Заканчивался исторический девяносто первый год, мне восемнадцать, я обожала своего мужа, вокруг бурлила интересная жизнь, которая для нас только начиналась. Мы с Тимуром всегда могли быть вместе – и дома, и на учёбе, шедшей своим чередом и оставлявшей достаточно времени для радостей, которых полно, когда тебе восемнадцать.
Казалось, отовсюду звучала музыка, которая нам нравилась, от которой начинала бурлить кровь, тянуло танцевать и беситься. Те, кто постарше всего-то лет на десять, не имели и толики той свободы, которая нам досталась. Как будто где-то свыше именно нашему поколению сделали роскошный подарок в прежде ханжески нахмуренной стране, забитой либо поповским православием, либо большевистской кровожадностью. Именно мы получили возможность нормальной юной жизни. Нам фантастически повезло с временем рождения! Мы наслаждались свободой, нежданно появившейся в государстве многовекового рабства. Взрослые, казалось, немного нам завидовали. Их можно понять. Им нужно посочувствовать.
– У вас будет по-другому – замечательно! – говорила мама. –Хотя и тревожно, потому что совершенно непонятно, как это будет.
– Хуже, чем было, невозможно, куда уж! – отвечала я.
– Хотелось бы верить.
Молодость – это много музыки, которую мы готовы были слушать нон-стоп. Радио, телевидение, торговые лотки на улицах взорвались тогда молодёжной музыкой. Стало можно публично и громко слушать всё, что угодно – наш андеграунд, западные группы… Больше никаких запретов и лимитов, а свобода в телеящике вообще зашкаливала.