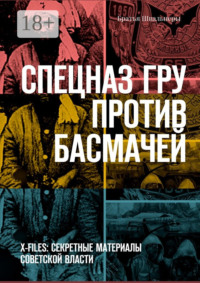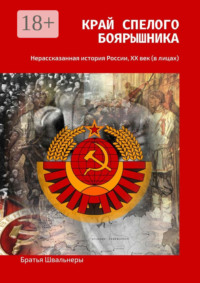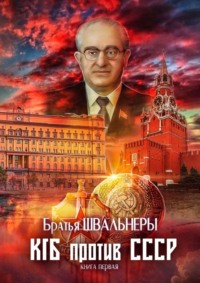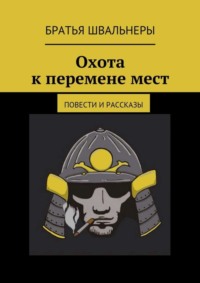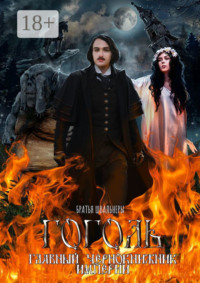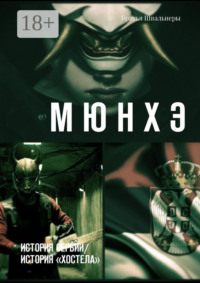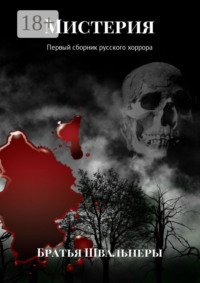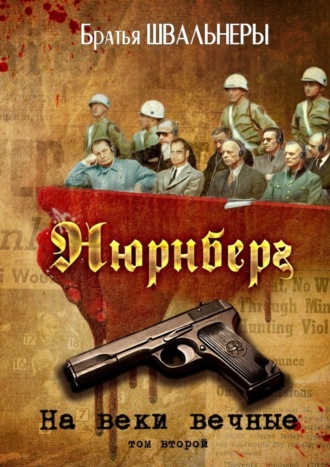
Полная версия
Нюрнберг. На веки вечные. Том второй
Сам я во главе группы из восьми беглых заключенных отправился на восток и на четвертый день они сумели пересечь старую советскую границу, перейдя вброд реку Буг. В ночь на 20 октября мы вступили на землю Белоруссии. 22 октября мы встретили недалеко от Бреста партизан из отряда имени Ворошилова. А 23 октября мы уже получили первое боевое задание…»
– Все написано грамотно, верно. Практически не придраться, – рассуждал майор Любимов, не поднимая глаз от только что прочитанного. – Ни дать, ни взять, поступок геройский. Но в своем рассказе вы совершенно не упоминаете о находках, которые были вами сделаны во время побега…
– О каких находках? – поднял вверх недоуменные глаза Печерский.
– Не помните? Странно. Ваши товарищи по побегу очень хорошо помнят. И показания дают. Например, об обнаруженных невдалеке от лагеря, по пути побега так сказать, нескольких десятков советских танков…
– Я не счел нужным об этом писать, так как они были не на ходу. Они никак нам не помогли! – развел руками арестант.
– Верно. Но попытки с вашей стороны их завести ведь были?
– А вы бы как действовали, спасая свою жизнь? – резонно парировал солдат. Следователь с ним согласился.
– Я бы всех своих товарищей запряг и кнутом бы их стегал, лишь бы поскорее оттуда ноги унести, не то, что в танк влезть… – понизив голос и все еще не решаясь поднять глаза на героя, что сидел перед ним не вполне в надлежащем качестве, отвечал Любимов. – Но дело не в этом…
– А в чем?
– В том, какие, а то есть, чьи детали вы обнаружили внутри танков…
– Ну, немецкие, и что?
– Что? Сложный вопрос. Вам, к примеру, известно, что 5 июля 1943 года Гиммлер приказал превратить Собибор в концентрационный лагерь, заключённые которого будут заниматься переоснащением трофейного советского вооружения?28 В связи с этим в той части лагеря, через которую вы бежали, началось новое строительство. Бригада, в которую было включено 40 заключённых (наполовину – польские, наполовину – голландские евреи), прозванная «лесной командой», приступила к заготовке древесины, которая требовалась для строительства в лесу, в нескольких километрах от Собибора. В охрану было отряжено семь украинцев и двое эсэсовцев. Строительство еще не было закончено, когда туда начали стягивать советское оружие, включая танки. Потом строители устроили побег, перебив всю охрану, так что идее Гиммлера до конца осуществиться было не суждено. Строительство закрыли. А танки так и остались там стоять. А внутри них находились немецкие детали…
– Никак не пойму, куда вы клоните… – пожимал плечами Печерский. – Может, они там и английские были, только я на это никакого внимания не обратил.
– А зря. Понимаете, что могут значить немецкие детали внутри танков?
– Нет.
– То, что Германия, в нарушение условий Версальского договора, не без помощи СССР тайно производила оружие и его элементы, а, чтобы их легализовать, ввозила в Союз, где на него только клеились отечественные бирки. Потом они частично возвращались в Германию (после начала войны с Польшей, что, как вы понимаете, нас не красит), а частично – продавались, а вырученные деньги пополняли казну рейха. Понимаете, что будет, если только вы проговоритесь насчет деталей?..
– Но зачем мне это надо?! – улыбнулся Печерский. – Я про них и вспомнил-то не сразу, значит, память отторгла лишнее… Да и кому мне это говорить?
Любимов вздохнул:
– Известно вам что-нибудь о Нюрнбергском процессе?
– Конечно.
– А о том, что вас хотят туда вызвать в качестве свидетеля по делу о зверствах в лагере Собибор?
– Теперь известно…
– Вот. А где гарантия, что там, надышавшись европейским воздухом, вы – человек, столько проведший в плену и состоявший неизвестно, в каких отношениях с гитлеровцами, – не вспомните вдруг об этих злосчастных деталях?
– Но…
– Нет гарантий. Так? Так. Значит, нельзя вам туда. И единственный способ вас туда не пускать – это тюрьма.
– А про болезнь, например, нельзя написать?
– Нет. Болезнь – явление временное. Трибунал подождет. А тюрьма – надолго. И, по международным законам, в случае нахождения вас под следствием и невозможности, как следствие, этапировать в занятый американцами Нюрнберг под нашим надзором, в качестве ваших показаний может использоваться заверенный следователем протокол. Для чего я и попросил вас все изложить о побеге письменно. И с задачей, как вижу, вы справились, в отличие от своих товарищей, на отлично. Поэтому после окончания процесса – все в тех же гарантийных целях – мы вас отпустим…
– Но… сколько еще..? – резонно развел руками Печерский.
– А вот торопиться вам не следует. Скажите спасибо, что к стенке не приставили. Тут уж или пан, или пропал…
19. Запрещенные приемы
18 марта 1946 года, номер Даллеса в «Гранд-отеле», Нюрнберг
Утро у Даллеса началось с того, что к нему в гостиницу явился начальник тюрьмы полковник Эндрюс.
– Вы должны нам помочь…
– Что случилось? – с порога спросил разведчик.
– Двое солдат из охраны тюрьмы погибли. Врачи еще не вскрывали тела, но предварительно, по анализам крови, диагностировали тяжелейшее отравление…
Даллес присвистнул.
– Ну и дела! А почему, собственно, вы пришли ко мне, а не к мистеру Джексону, в юрисдикции которого по прокурорской линии находится осуществление расследования уголовных преступлений?
– Я информировал мистера Джексона, он дал команду полиции. Следствие ведется. Но к вам я пришел потому, что гибель не простых граждан, а охранников тюрьмы определенно может быть делом политическим, а потому может касаться вас самым непосредственным образом.
– Логично, – протянул Аллен Уэлш, указывая посетителю на стул. – Вы уже давали показания полицейскому следователю?
– Да.
– И что он у вас спрашивал?
– Спрашивал, что эти двое ели накануне.
– И что вы ему ответили?
Эндрюс развел руками.
– Да ничего они толком не ели. Был день, даже обеденный перерыв еще не наступил. Правда, надо отметить, что оба явились утром в весьма потрепанном состоянии – ровно год назад вместе были участниками какого-то сражения, отмечали накануне победу, ну и немного выпили лишнего. И потом весь день до обеда хлебали воду, как верблюды. Потом, к обеду, стали зеленеть. Я распорядился сменить караул, а их отправил в лазарет, где они и умерли.
– А врач лазарета? Что он им давал? Какие лекарства?
– Да ничего, говорит, не успел дать. Оба пришли и почти сразу повалились без чувств. Он стал щупать пульс, да куда уж там было…
– Хотите сказать, что они умерли от отравления? – еще более удивился Даллес. – Но кому надо было травить простых солдат?..
Разведчик задумался. В его распоряжении были предоставленные Шейниным сведения о том, что среди солдат военной полиции, охранявших тюрьму и сам Дворец, были русские шпионы – канадцы, эмигрировавшие некогда с Украины, но охотно восстановившие теперь связь со своей исторической Родиной, а вернее, с ее разведкой. Знал он о том, что они часто применяли к Герингу физическую силу, а Лея так и вовсе до петли довели. Но зачем им травить своих коллег из числа простых охранников тюрьмы, пусть даже и не имевших отношение к их грязным делишкам – этого он искренне не понимал.
– А они, часом, не из Канады? Не из бывших украинских эмигрантов? – спросил он на всякий случай.
– Нет, Робертс и Стайн, они оба с Айовы…
– И конфликтов ни с кем не было?
– Абсолютно.
– Значит, остается одно… – методом простого исключения рассудил Даллес.
– Что?
– Что целились не в них. Говорите, случилось все в обед?
– Так точно.
– Когда подсудимые были в процессе?
– Так точно.
– И пили они воду из-под крана?
– Вроде да… – Эндрюс был шокирован открытием, которое само просилось на язык, но озвучить его не решался – очень уж пугающим было оно для него самого. – Хотите сказать, что им всем просто повезло, а Робертсу и Стайну – нет?
Даллес ничего не успел ответить, только пожал плечами, когда в дверь снова постучали. Он открыл – на пороге стоял помощник Эндрюса, лейтенант Мак-Кинли.
– Простите, сэр. Я к полковнику Эндрюсу… Разрешите обратиться, сэр?
– Слушаю.
– По вашему приказу химики обследовали кружки Робертса и Стайна и краны в здании тюрьмы – на них обнаружены сверхмалые дозы летучего вещества непонятного происхождения, в составе которого обнаружен мышьяк. Предварительно говорят, что это мог быть яд, но мгновенного действия. Следы свои он оставляет и через час, но уже не срабатывает. Срабатывает же в первые несколько минут после попадания в организм и при непосредственном контакте с ним…
Хозяин и гость переглянулись.
– Хотели отравить подсудимых?
– Выходит, что так, – опустил глаза Эндрюс. – Потому я и пришел к вам, что подозрение в первую очередь падет теперь на меня. А зачем мне бы это понадобилось?
– Вам – нет, но вы – американский солдат, – развел руками Даллес. – Если это станет достоянием гласности, все, по умолчанию, будут считать, что американцы решили сорвать процесс и уничтожить обвиняемых. И докажите потом, что никто из вашего начальства, включая Джексона и Трумэна, не был в этом заинтересован.
«И Советы решают все свои проблемы одним махом… – добавил он к своему спичу, уже мысленно. – И обвинения в попытках срыва процесса, и смерть Зори, и нежелательные разговоры о тесной дружбе с Гитлером после начала войны в Европе, и тень от раздела Польши – все стирается как по мановению волшебной палочки».
– Теперь вы меня понимаете…
– Однако, любопытно, – продолжил Даллес. – Почему больше никто не отравился?
– Наверное потому, – предположил Эндрюс, – что воду из-под крана кроме солдат никто не пьет. Более-менее статусная обслуга, судьи и прокуроры пьют нашу «колу» и вермахтовскую «фанту», запасы которой тут почти неиссякаемы. Да и, как я уже сказал, все были в процессе – не до питья им. А тут… Ума не приложу, что теперь делать?!
– Доказывать ваше алиби. На водоканал!
– Покажите план-схему сооружений холодного водоснабжения города, – махнув перед лицом обалдевшего начальника водоканала Крюгера удостоверением, потребовал Даллес. Тот безропотно выполнил его требование, искренне недоумевая о причинах визита в его скромную контору столь высоких гостей.
Однако, спросить что-либо на первых порах не решался. Молча наблюдал, как Эндрюс и Даллес изучали непонятную карту. Дождался, пока заговорили с ним первые.
– Покажите здесь контур, который ведет к зданию Дворца правосудия…
– Вот… А что, что-нибудь случилось?
– Как давно на нем были поломки или аварии, требующие человеческого вмешательства?
– Вчера… днем… часов в 12…
Посетители переглянулись. Все сходилось с их худшими подозрениями.
– Кто туда выезжал?
– Сантехник…
– Фамилия?
– Вейцман.
– Давно он у вас работает?
– Год. С прошлой весны. Когда пришли американцы, с тех пор и работает… Он с ними пришел. Бывший узник концлагеря. Семья погибла, а лагерь освободили союзники, ему идти некуда стало, вот он к ним и прибился, – Крюгер все еще не понимал цели визита гостей из-за океана, и потому принялся тараторить что было сил, стараясь оправдаться, непонятно от чего. – Кадров не хватало. Все на фронт ушли. Работал тут я, я инвалид, да мой напарник, Лемке. Да он пьян все время, какой ему поручить серьезную работу? Вот мы его и приняли. А вчера авария, трубу прорвало… Позвонили… Я же знаю, что там, во Дворце, сейчас всех этих негодяев судят. А Хаим – он серьезный человек, специалист хороший. Вот я его и отправил.
– Где он сейчас?
– На объекте…
– Когда вернется? – Даллес забрасывал несчастного вопросами, не давая ему опомниться и не давая никаких пояснений.
– Через час, может, раньше… А что?
– Видите ли, – наконец заговорил разведчик, – вчера в тюрьме Дворца правосудия, отравившись водой из-под крана, скончались два охранника. Ничего, кроме воды, они не употребляли. Мы решили проверить… и вот…
– Думаете, Хаим отравил водопровод целого города? Да вы что?!
– Мы пока ничего не думаем. Где переодеваются у вас служащие?
– Их шкафчики там… – Крюгер показал рукой в сторону своеобразного предбанника перед входом в водонапорную башню.
– Эндрюс! – скомандовал Даллес. – Пошлите кого-нибудь обыскать. Господин Крюгер, помогите солдатам…
Пока те ходили, полковник и разведчик снова разговорились.
– Нет ничего проще, чем подбросить в контур яд именно во время починки, – рассуждал Даллес. – А кто еще имеет туда доступ? Никто, решительно. Так что все подозрения падают на него! И главное – мотив. Кто, кроме узника концлагеря, решил бы вдруг таким изощренным способом отомстить садистам, процесс над которыми с каждым днем все больше заходит в тупик?!
– Думаете, он сам?!
– Сильно сомневаюсь…
– Но почему поломка? – недоуменно развел руками Эндрюс.
– А какой еще повод отправить туда сантехника, у которого по счастливой случайности оказался пузырек яда? Или вы думаете, он туда сам попал, по воздуху?
– Нет, я о другом. Кто мог ее организовать? Все коллекторы и колодцы как объекты инфраструктуры охраняются нашими солдатами днем и ночью!
– Поверьте, – натянуто улыбнулся Аллен Уэлш, – что даже в рядах военной полиции имеются шпионы.
– Это те украинцы?.. Я догадывался…
Вещей у Вейцмана было немного – обыск закончился буквально в считанные минуты. Мак-Кинли вошел в кабинет Крюгера и, не говоря ни слова, прошествовал к столу, за которым стояли и разговаривали у схемы очистных сооружений Даллес и Эндрюс. Поравнявшись с ними, он вытянул вперед руку со сжатым кулаком. Разжав, продемонстрировал находку – это был маленький пузырек с надписью по-русски «Опасность. Внутрь не употреблять».
Даллес начал учить русский со дня начала судебного разбирательства и понял значение маркировки.
– Но почему он бросил ее здесь? – развел руками Эндрюс.
– А где? На месте преступления? Там еще легче обнаружить. Понятно ведь, что сначала следствие ринется к колодцу… – рассуждал вслух замглавы УСС. – Но теперь важно не спугнуть. Никаких перехватов и общегородских тревог. Оставайтесь здесь и ждите его возвращения. Как только вернется, арестуйте и препроводите в камеру. Потом ждите моих дальнейших указаний.
– Мистеру Джексону доложить?
Даллес задумался.
– Вообще-то не надо было бы… Но закон есть закон – все-таки это его юрисдикция. Однако, не раньше, чем арестуете его!
Вернувшись к себе, он быстро набрал номер канцелярии Донована и велел в срочном порядке отыскать среди архивов Эйзенхауэра какие-нибудь сведения об освобожденном его людьми весной 1945 года из концлагеря Хаиме Вейцмане.
Вскоре сведения появились. Уже вечером следующего дня ему позвонил сам Билл Донован и рассказал, что в концлагере Вейцман познакомился с Аббой Ковнером, вместе с которым они создали нечто вроде подпольной организации, главной целью которой была месть всем немцам за Холокост. И сейчас они явно вступили в контакт со сталинской разведкой, которая, реализуя свои цели (заткнуть рот подсудимым), помогала им в достижении их собственных.
– Вы уверены в этом? – уточнил Даллес.
– А ты нет?
– А доказательства?
– Есть. Сегодня нашими дешифровщиками из проекта «Венона» была перехвачена радиограмма кого-то из представителей местной резидентуры в Москву.
В 1943 году Федеральное агентство по связи США конфисковало незаконные радиопередатчики в советских консульствах, и в спецслужбы США стали поступать в большом количестве зашифрованные телеграфные сообщения между консульствами и Москвой. В том же году 1 февраля в Арлингтон-Холле был начат проект по расшифровке советских сообщений под кодовым названием «Венона».29 За три года работы они вскрыли не один десяток советских «пианистов», и продолжали успешную работу по сей день, дешифровывая самые сложные комбинации противника…
– Вот, что там сказано по поводу этого события… – продолжал Донован. – «Заряд цели не достиг (погибли два солдата из охраны), но эффект устрашения имеется. При проведении операции, если таковая потребуется, следует использовать яд более длительного действия, пусть и не такой ударной силы. В целом пробная акция прошла сравнительно успешно, так как мы всем показали свою решимость довести дело правосудия до конца…»
– Это была только акция устрашения?! – негодовал Даллес.
– Да. Но мы должны прижать хвост, Аллен. Террориста отпустить.
– Почему?!
– Потому что в следующей шифровке они пишут про то, что тебя надо срочно вывести из игры. Для этого они планируют – если ты не остановишься – массовый вброс в союзническую печать в Германии информации об операции «Санрайз» и о твоих отношениях с генералом СС Вольфом…
– И вы хотите сказать, что мы должны остановиться?! Когда они прямо обсуждают подготовку следующей операции, уже с учетом сделанных ошибок?!
– Ты не умеешь читать между строк, Аллен, – спокойно отвечал Донован. – Они пугают нас, но сами боятся. Нам надо сделать вид, что мы не собираемся афишировать Катынский расстрел и конкретные обстоятельства сговора Гитлера и Сталина. Что мы забыли про убийство этого несчастного русского обвинителя. Что ничего не знаем и не собираемся узнавать про «Четвертый рейх». И тем более – что не собираемся сажать в тюрьму их агентов… Тогда…
– …тогда они перебьют всех подсудимых! И какой смысл в процессе?
– Нет. Тогда они успокоятся. Расслабятся. Потеряют бдительность. Предоставят нам позицию для основательного удара, который отобьет все их позиции. Сейчас они очень разгневаны и могут наделать глупостей. А надо их расслабить. И, проиграв битву, выиграть войну.
Слова Билла звучали убедительно. Но Даллес все же не унимался.
– Думаете, компромат в их руках серьезный?
– А ты как думаешь? Твои отношения с генералом СС Вольфом могут быть поняты очень и очень превратно… Так что я бы на твоем месте отпустил этого Вейцмана и как можно скорее…
Даллес положил трубку и задумался. Он думал о генерале Вольфе…
Информация к размышлению (Карл Вольф). «Без Вольфа Гиммлер редко решался что-либо предпринять, все предварительно обсуждалось с ним», – так говорил руководитель РСХА Рейнхард Гейдрих о своем шефе и главном адъютанте, обергруппенфюрере СС Карле Вольфе. К этому следует добавить, что ранг обергруппенфюрера соответствовал званию генерала (рода войск) или генералу войск СС и до 1942 года был высшим в системе СС. Выше было только «звание» (а вернее, титул) рейхсфюрера СС и шефа германской полиции (соответствовало генерал-фельдмаршалу), которое было только у Генриха Гиммлера. Звание оберстгруппенфюрер СС (генерал-полковник) было введено 7 апреля 1942 года (по состоянию на 20 апреля 1945 года Карл Вольф был всего лишь одним из четырех оберстгруппенфюреров СС и генерал-полковников войск СС). Вообще статус Карла Вольфа был специфичным. В течение многих лет он не был ни командующим войсками, ни полицейским начальником или администратором. Фактически он исполнял обязанности дипломатического и политического советника при рейхсфюрере СС.
Он сравнительно легко поднимался по служебной лестнице благодаря, как считали многие, способности оказывать влияние на людей и ладить с ними. Аллен Даллес считал его человеком, который был «способен сдерживать свои чувства и поэтому обрел в нацистском созвездии темпераментных и бурных личностей особое место, нечто вроде министра без портфеля».30
Карл Вольф родился 13 мая 1900 года в Дармштадте в семье земельного советника. В апреле 1917 года добровольцем вступил в армию – в звании лейтенанта служил при штабе 115-го лейб-гвардии полка великого герцога Гессенского. За боевые заслуги награжден Железным крестом II и I класса. После окончания Первой мировой войны стал адъютантом генерала Ф. фон Эппа, командовавшего в 1919 году отрядом контрреволюционных офицеров, и участвовал в расстрелах рабочих, создавших Баварскую Советскую Республику. Демобилизовался 31 мая 1920 года в звании лейтенанта. Получил торговое образование, долго работал в коммерческих фирмах, банках, создал собственное адвокатское бюро.31

Карл Вольф
В 1931 году вступил в НСДАП и СС, а в марте 1933 года был назначен адъютантом имперского наместника Баварии фон Эппа. 25 июня 1933 года прикомандирован к штабу рейхсфюрера СС, 1 сентября 1933 года стал его адъютантом.
Карл Вольф играл важную роль в финансировании СС, т. к. был связан с деловыми кругами. Он содействовал созданию «Кружка друзей рейхсфюрера СС», в который входили руководители множества фирм, регулярно отчислявших деньги на счет СС в Дрезденском банке, к которому имел доступ Карл Вольф. Его образованность, дипломатический талант и связи с самыми различными кругами сделали его незаменимым человеком для Генриха Гиммлера, который назначил его 9 ноября 1936 года руководителем Личного штаба рейхсфюрера СС.
Кроме того, как ни парадоксально, он принимал активное участие в разработке символики и идеологии СС. Входил в узкий круг доверенных лиц Генриха Гиммлера, где был известен под прозвищем «Woelffchen» («Волчонок»).
С 1940 года был офицером связи между Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером, сопровождал последнего в его фронтовых поездках. Другие руководители СС часто обращались к нему за помощью и поддержкой, пользуясь тем, что фюрер явно благоволил молодому, воспитанному и образованному Вольфу.32 До такой степени, что Вольф даже позволял себе иногда обращаться к фюреру через голову Гиммлера. Один из таких случаев вызвал размолвку между Вольфом и Гиммлером в 1943 году, когда Гитлер разрешил Вольфу развестись, вопреки запрету Гиммлера. Именно после этого Вольф, до того начальник личного штаба рейхсфюрера, и получил назначение в Италию.
23 сентября 1943 года Карл Вольф был назначен верховным руководителем СС и полиции Италии. Тогда же Даллеса назначили руководителем резидентуры УСС в Берне. Но познакомились они позже…
К концу зимы 1945 года единственным гитлеровским анклавом в Европе, за который с рейхом вели бои союзники, оставалась Северная Италия, где объединенной группировкой войск вермахта командовал фельдмаршал А. Кессельринг. Понимая, что конец войны близок, высшие силы рейха, морально смирившись с поражением, решили искать контактов с союзниками в надежде на капитуляцию перед ними в Италии как на залог индульгенции их «грехов прошлого». Даллес, возглавлявший резидентуру УСС в приграничной, хоть и сохраняющей нейтралитет, Швейцарии, стал получать предложения из Берлина касаемо этой самой индульгенции взамен на капитуляцию в Италии. Почти все он отвергал, включая предложения заместителя Кальтенбруннера Вальтера Шелленберга, который ему почему-то не понравился… А Вольф понравился. Во многом по причине того, что контакт с ним исходил от нейтральных швейцарских властей. Зачем им это?
Швейцария была заинтересована в скорейшем завершении войны у своих итальянских границ, и желательно без разрушения инфраструктуры Северной Италии, с которой была тесно связана экономически. Кроме того, швейцарские власти опасались, что недобитые эсэсовцы, спасаясь от наступления союзников в Италии, станут искать убежища в Швейцарии. В силу своего нейтралитета Швейцария не могла оказывать официальную помощь воюющим сторонам. Тем не менее неофициально миссия Даллеса тесно сотрудничала со швейцарскими спецслужбами.33 Именно при их посредничестве состоялась встреча Вольфа и Даллеса все на ту же тему – капитуляция в Италии взамен на индульгенцию руководства Вольфа в Берлине и его самого.
В 10 часов вечера 8 марта 1945 года Даллес и Вольф впервые встретились на конспиративной квартире УСС в Цюрихе. Вольф сразу же заявил, что считает военное поражение Германии неизбежным, готов предоставить в распоряжение американцев все подчиненные ему силы СС, оказать влияние на Кессельринга, как командующего войсками вермахта, и обеспечить приезд Кессельринга или его заместителя в Швейцарию. Вольф особо подчеркнул, что действует совершенно независимо от Гиммлера и Гитлера и втайне от них. Даллес, в свою очередь, заявил, что речь может идти только о полной капитуляции всей немецкой группировки и что эти переговоры никоим образом не означают нарушения обязательств союзников перед СССР как членом антигитлеровской коалиции. Он очень опасался, что миссия Вольфа может оказаться провокацией с целью поссорить Сталина с англо-американцами. При этом перспективу без боя овладеть Северной Италией Даллес считал чрезвычайно важной не только в военном отношении. Такая быстрая победа позволила бы американцам опередить Красную Армию на юго-востоке Европы и таким образом расширить здесь зону своего послевоенного влияния.34
После встречи с Даллесом Вольф оставил ему краткий план своих действий в обеспечение будущей капитуляции, включая секретные сведения о дислокации войск вермахта в Северной Италии (в последующем именно они помогут союзникам развернуть там успешную наступательную операцию!) и 9 марта вернулся в Италию. Здесь он получил вызов от начальника РСХА Кальтенбруннера – тому явно не понравилось, что Вольф ездил в Швейцарию без его ведома. Вольф уклонился от встречи, сославшись на неотложные дела. Чтобы иметь оправдание перед Гиммлером и Кальтенбруннером по поводу контактов с противником, Вольф задним числом придумал легенду: он собирался похлопотать перед американцами об освобождении из плена оберштурмбаннфюрера Вюнше, любимца Гитлера. Вольфа ждала и другая новость: Кессельринг 8 марта выехал в Берлин в ставку Гитлера по срочному вызову. Но зачем? Об этом Вольф узнает позже.