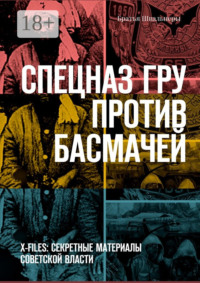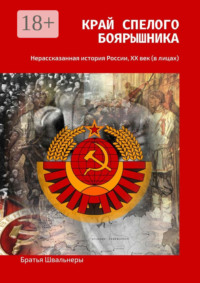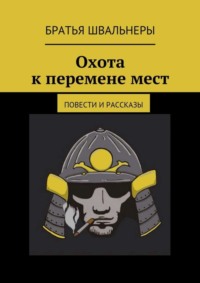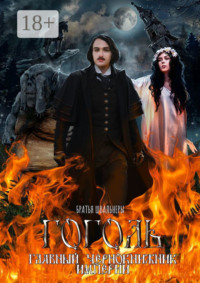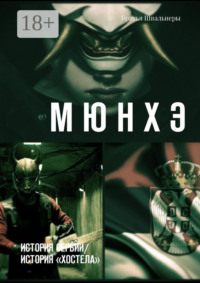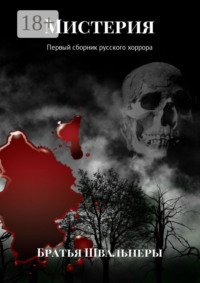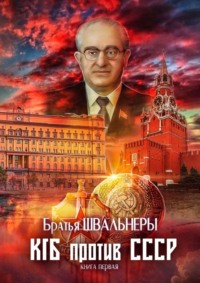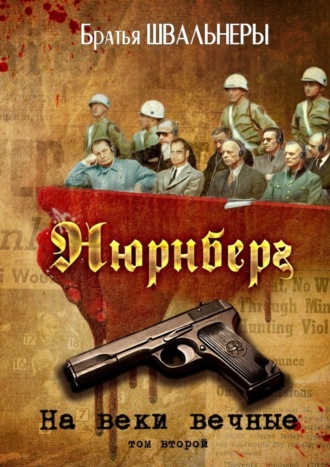
Полная версия
Нюрнберг. На веки вечные. Том второй
Даллес после бессонной ночи вернулся утром 9 марта в бернский офис УСС и составили доклад в штаб союзного командования в Казерте. Он предложил подготовить нескольких офицеров достаточно высокого уровня к переговорам с Кессельрингом. В этот же день появилось название операции – «Восход солнца» («Санрайз»), символизирующее надежду на крупный успех.35
Во исполнение плана операции, в Швейцарию инкогнито прибыли представители союзнического командования – заместитель начальника штаба войск союзников в Казерте американский генерал Лаймен Лемнитцер и начальник разведки при штабе Александера генерал Теренс Эйри. К переговорам, запланированным на территории швейцарской Асконы, все было готово. Между тем, как выяснилось, Кессельринг получил новое назначение и уехал из Италии на Западный фронт, сменить фон Рундштедта на посту командующего. За этим Кессельринга и вызывали в Берлин! Место Кессельринга занял генерал-полковник Фитингхоф, за которого Вольф не мог ручаться в той же степени, как за Кессельринга, хотя и был с ним в хороших отношениях. Фитингхоф был аполитичным генералом старой прусской закалки, безоговорочно преданным долгу и присяге. Вольф никогда не посвящал его в свои намерения и вообще не заговаривал с ним о капитуляции…
Утром 19 марта Вольф прибыл в Аскону. Встреча проходила в три этапа. В первой половине дня 19 марта с Вольфом беседовал Даллес. После обеда к ним присоединились Лемнитцер и Эйри. Даллес представил генералов Вольфу, как своих военных советников, не называя имён и чинов. На встрече рассматривались возможные варианты действий в создавшейся обстановке: Вольф либо прямо обращается к Фитингхофу и пытается убедить его капитулировать, либо действует через Кессельринга, либо рассчитывает только на свои силы. Последний вариант был явно самым слабым. Вольфу в Италии непосредственно подчинялись около 50 тыс. человек, из них – только около 10 тыс. боевого состава почти без тяжелого вооружения. Эти войска занимали некоторые важные позиции, но были рассредоточены, к тому же состояли большей частью из национальных частей СС. Остановились на втором варианте. Вольф просил отложить на несколько дней планируемое наступление союзников в Италии, чтобы успеть съездить к Кессельрингу и поговорить с ним. Дело осложнялось тем, что Кессельринг из Берлина убыл сразу к месту нового назначения, даже не заехав в Италию попрощаться с Муссолини и со своим штабом. В течение пяти-семи дней Вольф обещал добиться, чтобы Кессельринг повлиял на Фитингхофа. Вольф обязался в пределах своих полномочий ограничить антипартизанские и карательные мероприятия в Северной Италии, постараться не допустить реализации тактики выжженной земли и сохранить жизнь политзаключенным.36
Надежда на капитуляцию и сохранение инфраструктуры Италии, на прекращение войны и снижение числа человеческих жертв, пусть и слабая, еще была, но в дело вмешались советские шпионы в Овальном кабинете. Это был Гарри Декстер Уайт. Будучи приближенным к Рузвельту лицом, он узнал о переговорах и сообщил о них Сталину. Коба пришел в ярость, как теперь представлялось Даллесу, от того, что, вступив в столь тесный контакт с союзниками, высшие силы рейха могли передать им сведения о взаимодействии двух стран в период 1939—1941 годов. Это бы привело если не к третьей мировой, то, во всяком случае, к разладу среди союзников и крушению его геополитических планов в отношении Восточной Европы, захваченной Гитлером, на которую он, на правах освободителя, уже имел виды как на колонию.
22 марта британскому послу в СССР была передана резкая нота по поводу сепаратных переговоров с Германией. Последовала оживленная переписка на уровне дипломатических ведомств и непосредственно между Сталиным и Рузвельтом.37 Сталин прямо обвинил союзников в сговоре с противником за спиной СССР. Рузвельт отвечал в том смысле, что ничего особенного не произошло, речь шла только о чисто военном вопросе – капитуляции немецкой группировки в Италии, а Сталин дезинформирован своими дипломатами и разведкой. Сталин его не слышал и только обвинял, обвинял, обвинял. В итоге 11 апреля Рузвельт написал короткое послание Сталину: «Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся». Сталин получил послание 13 апреля, уже после скоропостижной смерти Рузвельта.38
Гитлер же, вызвав Вольфа к себе, тоже пришел в ярость и дезавуировал его полномочия. Коль скоро переговоры шли за сего спиной, он понял, что ценой индульгенции заговорщики сделают его жизнь. Ни о каком сепаратном мире с союзниками при его жизни не могло идти и речи – за военные годы он скомпрометировал себя настолько, что, по сути, стал политическим трупом. Смириться с этим он не смог. Не смог смириться и Сталин. Советские войска начали Берлинскую наступательную операцию. Операция «Санрайз» провалилась. Война продолжилась, неся все новые жертвы и потери уставшей от нее за 7 лет Европе.
Даллес понимал, что Донован прав. Эти, на первый взгляд, незначительные переговоры год назад ни к чему не привели и только камнем преткновения стали в отношениях союзников. Сейчас этот камень мог произвести новый оборот вокруг своей оси – Даллеса, как и всю американскую сторону, могли обвинить в «ведении сепаратных переговоров», сделать персоной нон-грата и ограничить участие в процессе. Это было чревато скандалом и утратой какого бы то ни было контроля над деятельностью Трибунала. Если выбирать из двух зол меньшее и следовать шахматному правилу гамбита, Вейцмана, конечно, следовало отпустить. Даллес поднял трубку и набрал номер полковника Эндрюса…
20 марта 1946 года, Нюрнберг, Дворец правосудия
Следующий день Даллес, пришибленный таким указанием шефа, просидел в зале №600, где продолжался процесс над теми, кого, как выяснилось, союзники должны были не только судить, но и стеречь, как зеницу ока. Он смотрел на невозмутимое лицо Руденко, продолжавшего процессуальные действия.
– В связи с такими показаниями обвиняемого Кальтенбруннера, которые, – Руденко демонстративно откашлялся в кулак, – ставят под сомнение позицию обвинения о причастности высших должностных лиц рейха к геноциду мирного населения, а также словами обвиняемого Кейтеля о непричастности к нему войск вермахта, обвинение просит, не прерывая допроса подсудимых, допросить в качестве свидетеля бывшего командующего Объединенными войсками полиции и СС в Польше, России и Белоруссии, гауляйтера Белоруссии Эриха фон дем Бах-Зелевского.
Суд, посовещавшись, удовлетворил ходатайство. Минуту спустя в зал вошел педантичного вида человек в очках с видом школьного учителя – без формы он никак не напоминал палача СС, ответственного за убийство каждого четвертого белоруса.
– Скажите, – начал допрос Руденко, – вы командовали войсками СС и полиции на оккупированной территории СССР с лета 1941 года по ноябрь 1944 года?
– Да.
– Вам известно о количестве убитых партизан и вообще мирного населения в ту пору на территории, входящей в вашу юрисдикцию?
– В общих чертах.
– И что вы можете сказать относительно этого?
– Только цифры. Они свидетельствуют о том, что численность войск полиции и СС на той территории была примерно в 5 раз ниже численности войск вермахта, которые в тот же период базировались во вверенном мне оперативном районе.
– О чем это свидетельствует?
– О том, что к убийствам мирного населения они причастны не меньше, а то и больше возглавляемых мной сил СС.
Правом на вопрос пожелал воспользоваться адвокат Кальтенбруннера. Суд удовлетворил его ходатайство.
– Скажите, подсудимый Кальтенбруннер когда-либо выдавал вам какие-либо указания о ведении партизанской войны или уничтожении мирного населения, в том числе Белоруссии, в том числе в концлагерях?
– Я не подчинялся Кальтенбруннеру.
– А кому вы подчинялись? От кого исходило общее руководство вашей текущей деятельностью?
– От Гиммлера.
– И перед ним же вы отчитывались? Ему докладывали оперативную обстановку? Его указания выполняли?
– Да.
– Знаете ли вы, что донесения, которые вы посылали Гиммлеру относительно мероприятий, проводимых вами, Гиммлер передавал непосредственно фюреру? – спросил адвокат Кальтенбруннера, определенно намекая если не на полную невиновность своего подзащитного, то на причастность к его преступлениям и иных лиц, в том числе покойников. Свидетель как будто не понял его и начал неистово рапортовать.
– Разрешите мне ответить на этот вопрос более подробно, – чеканил он. – Сначала я имел постоянный штаб у Гиммлера. Мой начальник штаба постоянно находился в штабе, в то время, когда я находился на фронте. Между военными инстанциями, то есть ОКВ, ОКХ и моим штабом существовал постоянный контакт. Ведь дело обстояло не так, что донесения о действиях партизан сначала поступали ко мне, поскольку существовали такие ведомственные каналы, которые проходили через ОКХ. Это значит, что от этих военных инстанций я получал столько же донесений, сколько и сам посылал им. То, что эти донесения затем обобщались в моем штабе, является фактом. Затем каждый день эти донесения передавались Гиммлеру, а тот передавал их дальше.
– Кому передавал? – гнул свою линию адвокат.
Свидетель кивнул на скамью подсудимых:
– Господа из ОКВ, будучи уже в плену, подтверждали мне, что об этих донесениях докладывали во время обсуждения военной обстановки.
Не выдержав этого «пригвождения к позорному столбу», Геринг подскочил с места и завопил:
– Это грязная вероломная свинья! Он ведь самый кровавый убийца, продающий свою душу, чтобы спасти свою вонючую шею.
Лоренс снова осадил его, как и день назад, во время допроса Кальтенбруннера. Допрос продолжал Руденко. Он спросил у Бах-Зелевского:
– Известно ли вам, что Гитлер и Гиммлер особенно хвалили вас за жестокость мероприятий, которые вы проводили в отношении партизан и за которые вас и наградили?
Тот категорично ответил:
– Это неправда. Никаких наград за борьбу с партизанами, безусловно, входившую в мои полномочия гауляйтера, я не получал. Все мои награды, начиная от пряжки к железному кресту, я получил за действия на фронте от военного командования.
– И, соответственно, получается, что особенных заслуг у вас в этой сфере не было?
– Скажем так, – подумав, протянул Бах-Зелевски. – Я считаю, что, если бы вместо меня кто-нибудь другой занимал этот пост, было бы еще больше горя. Все-таки я не сосредоточивался только на борьбе с партизанами, уделяя больше места в работе гауляйтера вопросам обеспечения инфраструктуры и создания у населения видимости заботы о них со стороны рейха. При этом многие мои коллеги, включая того же Коха на Украине или Тербовена в Норвегии куда больше места в работе уделяли именно борьбе с подпольщиками и участниками Сопротивления, за что поощрялись наградами вполне официально, а не на словах Гитлера или Гиммлера.
– С чем это, по-вашему, может быть связано?
– С тем, что начальство всех мастей – начиная от ОКВ и заканчивая высшим эшелоном СС – везде и всюду, постоянно требовало больше и больше крови и невинных жертв. Такова была идеология, следование которой если официально и не входило в должностные инструкции, то было залогом успешного продвижения по службе и получения новых и новых наград. В своих речах и выступлениях они требовали этого постоянно. Да, быть может, в отличие от Гитлера и Геббельса, не писали об этом книг и статей – но только потому, что толком писать и не умели. Речь же и поступки этих людей говорят сами за себя и свидетельствуют об их постоянном и обязательном требовании уничтожать мирных людей только потому, что они – представители иной, не арийской расы. Невыполнение этого требования было чревато негативными последствиями…
– А вы, что, были против такой идеологии? – уточнил Руденко.
– Скажем так, я не всегда был ее проводником. Так, в августе 1941 года Гиммлер приехал ко мне в Минск и попросил организовать для него массовый расстрел партизан. Я был против мероприятий подобного рода, и тогда Гиммлер обратился с этой же просьбой к приехавшему вместе с ним начальнику полиции рейха Артуру Небе.39 Он быстро собрал зондер-команду и организовал публичную казнь. Когда мы с ним наблюдали за ее осуществлением, он спросил у меня о причинах моего отказа. Я ответил ему, что, на мой взгляд, акции подобного рода делают из наших солдат абсолютных варваров и невротиков. Гиммлер задумался, вгляделся в эту картину и, вникнув в правоту моих слов, расчувствовался до такой степени, что ему стало плохо.40 Однако, сути проводимой им и его товарищами из Берлина политики это не изменило.
Руденко прервал его рассказ:
– Обращаю внимание суда на то обстоятельство, что материалами следствия собраны данные, подтверждающие эту историю, это факт!
Допрашивая очевидно выгодного свидетеля, Руденко, к удивлению наблюдавшего за процессом Даллеса, выступал не как обвинитель, но как адвокат. В таком его поведении, как считал разведчик, явно крылось что-то неладное…
Прокурор меж тем продолжал:
– Принимая во внимание, что ваше поведение шло несколько вразрез с требованиями идеологии и ее проводников – главарей рейха, – многие из которых сейчас на скамье подсудимых, скажите, не повлекло ли это для вас каких-либо неприятностей по службе?
Свидетель замялся.
– Нельзя сказать, чтобы это были неприятности в классическом смысле. Но до войны я был депутатом рейхстага, а меня оттуда сняли и кинули после сравнительно тихого и сытого Бреслау в Минск – якобы для борьбы с партизанами, хотя я не полицейский, а кадровый военный.41 Сами решите, можно ли это классифицировать как неприятность…
Руденко понимающе покачал головой.
– Вернемся все же к идеологии главарей рейха. Только ли Гиммлер… вернее, считаете ли Вы, что речь Гиммлера, в которой он потребовал уничтожения 30 миллионов славян, отражала его личное мировоззрение, или это мировоззрение, по Вашему мнению, являлось вообще национал-социалистским?
Бах-Зелевски как по писанному протараторил:
– Сегодня я считаю, что это явилось логическим следствием всего нашего национал-социалистского мировоззрения.
– Сегодня? – уточнил глава советской делегации обвинителей.
– Сегодня, – кивнул его собеседник.
– А какое мнение у Вас было в то время? – в вопросах такого рода в исполнении Руденко Даллес увидел обыгрывание той части спектакля, которая отвечает за правдоподобность слов допрашиваемых. Делать из матерого гитлеровца и палача здесь борца за справедливость было бы излишне, а потому все же маленькое черное пятнышко он решил примерить на себя добровольно – ну или потому, что знал, какова может быть месть могущественного советского обвинителя.
«Да, кстати, – подумал Даллес, – а почему советского? Он ведь арестован американскими оккупационными властями… Видимо, жест доброй воли друга Роберта другу Роману… Хотя, почему, если арестован, на нем нет робы? Почему он сравнительно прилично одет? Надо бы адресовать этот вопрос главе нашей делегации обвинителей…»
Размышления его прервал ответ Бах-Зелевского:
– Тяжело прийти немцу к такому заключению. Мне многое потребовалось для этого.

Эрих фон дем Бах-Зелевски
В целом, этот тайм явно выигрывал Руденко. Последний его удар был решающим.
– Господин свидетель, – уточнил он, – как могло случиться, что несколько дней тому назад выступал здесь свидетель Олендорф, который, давая показания, признал, что он с эйнзатцгруппой уничтожил 90 тысяч человек и что это не согласуется с национал-социалистской идеологией?
– Ну, у меня другое мнение по этому поводу. Если десятилетиями проповедуют, что славяне являются низшей расой, что евреи вообще не являются людьми, – неминуем именно такой результат… Что до мнения других свидетелей, я за него отвечать не могу. Хотя бы потому, что, если человеку самому приходит в голову вдруг, ни с того, ни с сего уничтожить 90 тысяч человек, его явно нельзя рассматривать как нормального и уж тем более – как полноценного свидетеля в уголовном процессе.
Допрос окончился. Когда Бах-Зелевски уходил, проходя мимо скамьи подсудимых, Геринг схватил его за рукав и воскликнул, вскакивая с места:
– Господин председатель! Почему он не на скамье? Почему не с нами? Неужели он не виноват?!
Аналогичные мысли гуляли в голове Даллеса. Никитченко спокойно и формально ответил ему:
– Подсудимый, предоставьте обвинению самому решать, кого и куда сажать. Пока речь идет о вас, а не о нем.
Когда слушание закончилось, Даллес и Джексон встретились на пороге Дворца правосудия. Утомительный судный день и нервное перенапряжение в свете событий последних дней дали обоим право на перекур (родным «Кэмел»! ) и непринужденный разговор двух земляков, оказавшихся на чужбине – без посредников и посторонних глаз, без погон и шевронов, просто, по-свойски.
– Что скажете, Аллен? – спросил прокурор от США у своего товарища. – Какие ваши прогнозы? Чем все это закончится?
– Вы спрашиваете меня о прогнозах? – усмехнулся Даллес. – Вы, юрист?
– Да, но вы-то – разведчик. Должны знать больше остальных…
– Форменное заблуждение. Я, например, совершенно не понимаю, что только что произошло с этим Бах-Зелевски. Почему палач спокойно покинул зал заседаний? Не одному же Герингу в зале бросилась в глаза эта вопиющая несправедливость…
– Возможно, – Джексон окинул собеседника нервным взглядом с головы до ног и выкинул сигарету. – Но вопрос задан не по адресу. Это вам надо спросить у русских!
Даллес хотел было прояснить последнюю фразу, но было поздно – прокурор показал ему спину и зашагал в сторону отеля, где сегодня вечером обещала состояться очередная грандиозная пьянка.
20. За все надо платить
Июль 1962 года, Москва, здание Генеральной прокуратуры СССР на Большой Дмитровке
Генеральный прокурор СССР Роман Руденко вызвал к себе на прием заграничного корреспондента «Комсомольской правды», 30-летнего Юлиана Семенова. Принимал его лично – очень уж щепетильный предстоял разговор.
– Ты в Мюнхен ездил недавно, если я не ошибаюсь?
Семенов, привыкший к тому, что вопросы подобного рода обычно задают в КГБ, удивился:
– Да. А почему вас это интересует?
– Ну ты не забывай, что я – генеральный прокурор. Меня все интересует. Особенно, если учитывать, что целью твоей поездки было освещение процесса над Эрихом фон дем Бах-Зелевски, верно?
– Сами же все знаете, – улыбнулся журналист.
– Я-то знаю, – вздохнул Руденко, – а вот ты, кажется, недопонимаешь некоторых политических моментов важности этой фигуры. Тебе известно, что он в качестве свидетеля в Нюрнберге показания давал?
– Известно, Роман Андреевич, – загорелся Семенов. – Я потому туда и поехал. Он ведь тогда сухим из воды вышел, хотя это вызвало недоумение у всех присутствующих, включая Геринга. Так ведь?!
– Смотри, какая осведомленность. Ну допустим…
– Мне такая трактовка кажется неслучайной. Тут явно прослеживается рука империалистических разведок. Человек командовал войсками СС и полиции на территории РСФСР и Белоруссии, его руки даже не по локоть, а по плечи в крови, а он спокойно уходит из здания Дворца правосудия! И потом еще 15 лет никому совершенно нет дела до него и его роли в войне и уничтожении мирного населения, заметьте, нашей страны. И тут вдруг, 15 лет спустя, его арестовывают и судят – но не за то, что он утопил в крови оккупированные восточные территории, а за то, что в 1934 году, в «Ночь длинных ножей», в Кенигсберге чуть ли не случайно убил какого-то эсэсовца!42
– И ты, понятное дело, разразился гневной статьей по этому поводу?!
– А как быть, когда такое творится?! Советский читатель должен знать правду о сговоре империалистов и нацистов, пускай даже столько лет спустя…
Руденко снова тяжело вздохнул и окинул журналиста взглядом:
– Ты не обижайся, но я эту твою статью приказал притормозить…
– Но… почему?!
– Потому что ты не знаешь всего. Не думаешь же ты, что там, в Нюрнберге, решения принимали одни только американцы?! По твой логике получается, что мы там были на правах то ли клоунов, то ли вообще пустого места?
– Но тогда выходит…
– Решение проявить снисхождение к Бах-Зелевскому было принято наверху… с участием советского руководства. И нынешняя его судьба тоже не проходит мимо нас.
Семенов выпучил глаза и, не в силах произнести ни слова, смотрел на хозяина кабинета как на сумасшедшего.
– Но… но…
– Погоди. Я с тобой так откровенен, потому что знаю и уважаю твоего отца, старого большевика, которому когда-то помогал реабилитироваться после сталинских репрессий. Потому рассчитываю на твое понимание…43 Я знаю, что ты скажешь – этот Бах нацистский преступник и все прочее. Конечно, ты прав. Но ты же знаешь, что идеальной законности, как и идеальной справедливости, не существует. Везде и всюду вмешивается политика, будь она неладна. Конечно, это плохо, но это жизнь. Не мы такой порядок выдумали, не нам его и ломать. И, согласно этому порядку, Бах-Зелевского мы должны были отпустить. Мы ему это обещали…
– Мы?! Но за что?! Что он такого сделал?
– То-то, что сделал. Ты не знаешь, а в 1944 году он уничтожил злейшего врага Советской власти – бывшего главаря Локотского самоуправления, гауляйтера Орловской и Брянской областей Бронислава Каминского. Останься он тогда в живых, еще неизвестно, чем бы война кончилась, и кто бы на скамье подсудимых в Нюрнберге оказался. Он, можно сказать, сделал первый шаг к падению военного влияния рейха в СССР. Сделал сам. И мы не могли такого не заметить и не оценить…
– Каминский… Каминский…
– Ты мог о нем слышать в связи с его участием в подавлении Варшавского восстания осенью 1944 года. Тогда он и его эсэсовцы много крови полякам пустили…
– Но, насколько мне известно, – парировал Семенов, – львиную долю участия там приняли войска того же Бах-Зелевского…
– Еще раз говорю: тебе известно не все, – отрезал Руденко. – Я расскажу тебе кое-что, но ты про это забудешь. И про статью свою тоже. А чтобы тебя к этому простимулировать, вот…
Он открыл ящик письменного стола, вытащил оттуда конверт и положил его перед Семеновым.
– Это письмо для Бах-Зелевского от меня. Поедешь в Мюнхен, «статью дорабатывать» и заодно передашь. Только не вскрывать и в собственные руки!
– И что будет написано в новой статье? – все так же недоуменно спрашивал журналист.
– А ничего. Ее вообще не будет, – отрезал прокурор. – Вместо этого будет статья о твоих поисках Янтарной комнаты, вывезенной гитлеровцами с территории СССР. Ты же, кажется, этим вопросом вплотную занимаешься? А Бах-Зелевски как раз войсками СС на оккупированной территории командовал, может тебе помочь в этом вопросе. В письме я прошу его оказать тебе содействие.
– Ну и дела, – присвистнул Семенов. – Такие милости от генерального прокурора! Видать, и впрямь этот Каминский был настолько опасен, что за неразглашение данных о его убийце я все это получаю…
Информация к размышлению (Бронислав Каминский). Руденко говорил правду. Август-сентябрь 1944 года – трагическая дата в истории Польши. Жители Варшавы восстали против гитлеровцев, не в силах более терпеть их гнет. Бунт их был жестоко подавлен. По усреднённым данным, за 63 дня восстания погибло около 10 тысяч повстанцев и до 200 тысяч мирного населения. Главным «подавителем» Варшавского восстания вермахт назначил Эриха фон дем Бах-Зелевского, получившего богатейший опыт в массовых расстрелах евреев на территории Белоруссии. Группировка сил под его командованием в Варшаве насчитывала 16 тысяч бойцов. В нее входили также украинские, белорусские, мусульманские формирования. На помощь к нему зачем-то отправили сводный полк коллаброционистской РОНА (Русской Освободительной Народной Армии) под командованием Каминского, который составлял всего 1,7 тысячи бойцов. Расклад сил очевиден. Да и можно ли было сравнивать бойцов РОНА, к примеру, с уголовниками бригады СС Дирлевангера, запятнавшей себя крайней жесткостью при подавлении партизанского движения в России, Польше, Белоруссии?!
Кроме того, сводный полк РОНА находился в Варшаве всего 10 дней – с 9 по 19 августа 1944 года. За время боёв от немецких солдат начали поступать сигналы о том, что каминцы стреляют им в спину. Это подтвердил на допросе командир сводного полка РОНА Иван Денисович Фролов.44 В один из тех дней в ответ на резкое требование бросить части в Варшаву Каминский ответил: «Во-первых, я по происхождению поляк, во-вторых, я русский патриот. Я и мои солдаты борются только против большевизма, за свободу России. Польские повстанцы борются за свободу своей Родины. Я не могу участвовать в борьбе против них».45