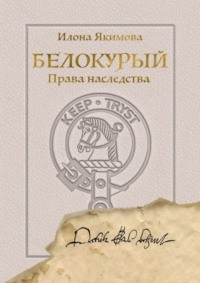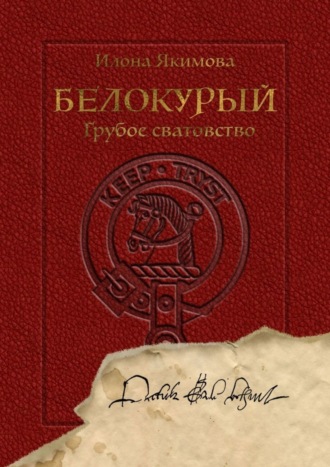
Полная версия
Белокурый. Грубое сватовство
– Кларет, Ваше величество?
– Горячий сидр… немного.
Леди Флеминг пережила с ней все, что было в Шотландии, с первого дня – свадьба, короткое счастье первого года брака, трое родов, две утраты, дни черной меланхолии мужа, теперь вот – вдовство, скорбь, тревогу и заточение. Умная, язвительная, скорей привлекательная, чем красивая, она стала для королевы больше подругой, чем фрейлиной.
– Англичанин отбыл, Ваше величество?
– Да…
– Что вы сказали ему?
– Правду, моя дорогая. Что моя дочь здорова, а регент держит нас взаперти. И достаточное количество неправды, да просит меня Господь, чтобы обезопасить нас обеих.
– И он поверил?
– Узнаем позже. Теперь мне было достаточно вбить клин между ним и графом Арраном. Но, боюсь, я зря упомянула при нем о кардинале… – она приняла из рук леди Флеминг чашу с сидром, от которого шел острый запах имбиря, корицы и кардамона, горячее шершавое серебро под ладонью было грубоватым и осязаемым, телесность… вот именно то, что ей нужно сейчас, что отделяет ее от смертности, заставляет собрать все силы и жить. – Вы можете поприветствовать своего супруга и поблагодарить его от моего имени, в эту пору года и время суток он выдержал долгий и тяжелый путь, чтобы сопроводить сюда посла.
– Благодарю вас, Ваше величество, – фрейлина вновь присела, а когда повернулась к королеве проститься и пожелать доброй ночи, мигающий свет свечей, оплывающих в шандале, оросил брызгами золота волосы оттенка темного меда, двумя крыльями уходящие от середины лба под чепец, резкий профиль, широко расставленные яркие глаза, тонкую складку губ… и Марию де Гиз сейчас больно укололо в чертах леди Флеминг сходство с тем человеком, который недавно прибыл ко двору, тем паче, что и само имя его прозвучало мгновеньем позже.
– Я слыхала, – молвила леди Флеминг, чуть поколебавшись и помолчав, – что мой кузен почтил родину своим присутствием, что он третьего дня был во дворце… Ах, дорогая мадам, поверьте моему вещему сердцу: приблизить Босуэлла для вас куда худший выбор, чем обещать свою руку Ленноксу!
– Дженет, – королева редко называла ее по имени, а потому леди Флеминг дорожила каждым таким мгновением, – дорогая Дженет, знаю, вы меня любите, но ваша забота порой бывает чрезмерной. Приближение Босуэлла или обещание Ленноксу – только средства… Мне нужна коронация моей дочери, коронация любой ценой. И мой Стерлинг, где до нас не доберется никто. Ради этой цели, видит Бог, я стану улыбаться и самому дьяволу!
У самого дьявола было крещеное имя.
Патрик Хепберн, третий граф Босуэлл. Белокурый Люцифер, как назвал его Джеймс в Сент-Эндрюсе, в прежней жизни, тысячу лет назад, представляя кузена супруге. Три обвинения в государственной измене, два заключения, одно изгнание – без срока, с конфискацией всех владений и доходов, так скоро оборвавшееся только со смертью короля. Когда он третьего дня преклонил колено перед ней, выходящей из большого зала Линлитгоу, когда за спиной его во тьме коридора колебались факелы в руках кинсменов… в трауре, в черной тафте плаща, шуршащего по плитам пола, словно змеиная кожа, он выглядел посланцем мрака, несмотря на светлое лицо архангела – и думала она о нем вот уже третий день, даже теперь, стоя на молитвенной скамье. Лицо его не переменилось в изгнании и лишениях, не поблекло с возрастом или от распутства, как можно было ей надеяться для собственного спокойствия, но не о внешнем облике думала Мария де Гиз, вдова Джеймса Стюарта. А о той силе, власти, мощи бывшего Лейтенанта Юго-востока, Хранителя Средней Марки и Долины, что таились под тафтяным плащом с вышитыми алыми львами и розой. Львы, охраняющие розу. Или дерущиеся за нее…
Роза и львы, кровь Плантагенетов и Стюартов.
Он был отчаянно нужен королеве.
Минуя греховные мысли, которые этот мужчина, к великому смущению, продолжать пробуждать в ней – он нужен был Марии, как королеве. Стоило только Патрику Хепберну два года назад ступить за границу королевства, как в Лиддесдейле, лэрдом которого, формально, он не являлся уже давно, начался форменный ад. Люди короля не осмеливались приближаться к Долине, прямо твердя, что это земля греха, и живым оттуда не выберешься. Рейдеры, озлобленные на Стюарта еще с тридцатого года, либо встречали клинком, либо уходили в леса и болота, заматывая погоню. Разбой шел волной, смывая своих и чужих, Спорные земли кипели угонами скота, поджогами, убийствами целых семей. Кровная вражда и сопровождающая ее резня вышли на новый виток. Закаленный в любых передрягах Бранксхольм-Бокле наружно пытался вернуть на сворку и своих парней, и ошалевших от крови и безнаказанности Эллиотов, лукаво сетуя, что в сии трудные времена с людьми вовсе сладу нет, однако в Спорные земли не совался и он. Подняли голову Армстронги, и лэрд Мангертон, как прежде, стал королем воров – брат его Дэви в своих налетах жег фермеров заживо. Отличились все – и Маршаллы, и Тернбуллы, и особенно, в Средней марке, Керры, вновь перегрызшиеся даже между собой. На этих бесстыдных тварей невозможно было положиться в час войны, в годину бедствий. На Солуэй отправились люди равнин, непригодные для войны в холмах, а также те, кто вышел в рейд на Артурет-Чёрч за наживой, те, кто остался верен своим лэрдам, но не королю; с неприятным изумлением Мария узнала, что именно там впервые показался стяг Белой лошади после двух лет тишины – и прочла этот знак именно так, как граф и задумал, угрозой. И после она ждала Босуэлла ко двору – ждала дольше, чем предполагала ждать. Это было неизбежно, его возвращение, как любого другого изгнанника, волей покойного короля лишенного чести, земель и родины. Но она и смертельно боялась возвращения Босуэлла – тысячу раз да – не только потому, что ее волновал мужчина, но потому, что беспокойством сводил с ума враг. Она не питала иллюзий насчет его верности – его верность стоит столько, сколько сможет она заплатить, но казна сейчас в руках графа Аррана, лорда-правителя королевства, ее же собственные средства, как вдовы, удерживались регентом именно с целью, чтобы она не сумела купить себе сторонников. Граф Босуэлл, из-за Джеймса Стюарта утративший в Шотландии всё, несомненно, захочет вернуть свое достояние, но тот, первый взгляд, обращенный на королеву, вполне объяснял его подлинные притязания, помилуй Бог. Так что же по-настоящему привяжет его – возврат земель и доходов, который по силам регенту, или мужское вожделение, для которого королева стала теперь беззащитной целью? Чью сторону он изберет? Или, как всегда, как про него злословили – сразу обе? Или все три, если учесть его тесную связь с англичанами, которую, впрочем, еще никому не удалось подтвердить документально? Если кто и знает, так только его троюродный брат и ближайший друг при дворе, ее доверенное лицо, член регентского совета Джордж Гордон, граф Хантли.
– И если этот клятый приграничник останется сидеть за твоим столом, а не лежать под ним, считай, я с тобой в ссоре, Хантли! – буркнул, выходя, граф Аргайл.
Патрик Хепберн только улыбнулся ему вслед. Гиллеспи Роя Арчибальда Кемпбелла, четвертого графа Аргайла, он знал еще с юности, со времен бесшабашных каникул у Джорджа в гостях, и, право, за последние пятнадцать лет тот ничуть не изменился. Излишняя чувствительность, как таковая, была вовсе не свойственная племяннику епископа Брихина, однако Белокурый впервые за два с лишним года наконец-то снова был как рыба в воде. Попойка в честь возвращения Босуэлла ко двору удалась: лорд Джордж Ситон, конечно, ушел своими ногами, но графа Сазерленда, миловидного юношу восемнадцати лет, слуги вынесли четвертью часа раньше – молодому Джону Гордону не удалось угнаться за четырьмя тридцатилетними выпивохами, двое из которых были горцы, а третий – рейдер.
Теперь старые друзья остались вдвоем.
– Итак, ты вернулся?
Камин в покоях графа Хантли пылал, как в аду, что ничуть не лишне в холодном марте. И виски отменный – с собственных вискикурен Хантли, с золотой искрой, с торфяным дымком, Босуэлл наслаждался каждым глотком, перекатывая жгучую влагу на языке.
– Вернулся, Джорджи…
– Надолго ли?
– Там посмотрим.
– И что ты намерен делать?
– Что делать? Ну, почему мне все задают этот странный вопрос? Ничего, ровным счетом ничего, Джорджи… развлекать себя в меру своей испорченности, насколько это возможно при дворе благочестивой вдовы.
– Ничего?! Ах ты, скользкая тварь! Кому ты врешь, Босуэлл? Ты нагло врешь родственнику, другу и сообщнику по стольким невероятным проказам! Как будто я поверю тебе хоть на миг… но откуда ты взялся, черт везучий?! Да еще так вовремя? Никто ж не знал про твое возвращение, и я слышал, как там ахали в галерее, пока ты проходил меж людьми – да, это было красиво! Держу пари, ни одна живая душа не подозревала, что ты уже здесь, и явился требовать свое законное место при дворе.
– Ну, почему ж… кое-кто знал. Хей и Клидсдейл, к примеру…
– Твои рейдеры не в счет.
– И те, кто не поленился прочесть штандарты на Солуэе…
– Там была пятиконечная звезда Бинстонов.
– И все прочие, кому достало ума отступить от моих земель, прослышав о возвращении хозяина – Скотты. Старина Уолтер, чтоб вовремя примкнуть к сильным и справедливым, неоднократно пытался выведать, за кого будет стоять Босуэлл…
– И за кого он будет стоять?
– Пока не понял.
– Ясно, – Гордон усмехнулся, приподнял бокал в адрес собутыльника. – Значит, за себя, как обычно.
– Ну, это как водится. И – да, мне очень пригодился ваш тартан, в пути и по возвращении.
– Всегда пожалуйста, ты же на четверть – наш…
Собственно, их кровь была перемешана до полной путаницы – с тех пор, как Стюарты изрядно потоптались по каждому знатному роду Шотландии, все кругом были друг другу кузены. Аргайл и Сазерленд оба приходились родней Хепберну через Джорджа Гордона.
– И далеко ты скитался?
– И не спрашивай… как-нибудь расскажу тебе отдельно.
– У сассенахов?
– У них тоже, посмотрел, как Большой Гарри подбирал себе новую жену… было весьма занимательно. Он ей через полгода голову отрубил, но я уже этого не дождался. Отправился на континент – Дания, Фландрия, Франция, Италия… даже до Венеции добрался.
– А правду говорят, – и глаза Хантли блеснули, – что у них там шлюхи… венецианские – особенно умелые, а?
Сияющая улыбка Фаустины мелькнула в памяти золотым видением и пропала.
– Шлюхи как шлюхи, – пожал плечами Босуэлл. – Но дороже наших, это точно. Да, кстати… я же теперь – протестант.
– Кровь Христова! – Гордон даже слегка протрезвел. – В самом деле?! И как тебя угораздило, Патрик?
Босуэлл окинул кузена совсем не хмельным взглядом, потом засмеялся, похлопал того по плечу:
– Ладно, Джорджи, не пугайся так… я пошутил.
– Ну и шутки у тебя, родич… ты смотри, при королеве не пошути так.
– А что, это сильно уронило бы меня в ее глазах?
– Сам думай, коли у нее – по четыре мессы в день.
– Н-да, – пробормотал Босуэлл. – Это создает определенные трудности…
Если случился в ней трепет чувств, то только от внезапности, поначалу. Королева-мать была поглощена своим благочестием и своими заботами, и не только не предложила Босуэллу остаться жить во дворце, но и вообще никак не отметила его появление среди придворных. Она не призвала графа к себе для беседы, не стала расспрашивать Ситона или Хантли – не произошло ровным счетом ничего вообще. Если ее и снедало беспокойство от неизвестности планов Босуэлла, оно никак не проявило себя – и несколько дней спустя граф Хантли решился напомнить государыне о Белокуром.
– Вы недобры к моему кузену, Ваше величество.
Мария де Гиз подняла взгляд от вышивания напрестольного покрова в церковь Архангела Михаила, чей вычурный шпиль виднелся в окно покоев – ее пальцы работали точно и споро, пока душа блуждала в воспоминаниях, пока королева размышляла.
– Вот как, граф? К которому? И почему вы так решили?
– Я полагал, что граф Босуэлл… – леди Флеминг на другом конце комнаты встрепенулась, прислушиваясь, наблюдая за лицом королевы, – мог бы встретить и более теплый прием здесь, в Линлитгоу. Он так спешил предложить вам свою верность…
На слове «верность» со стороны леди Флеминг донеслось насмешливое восклицание, однако добрая дама воздержалась от вмешательства в разговор.
– Верность – самое ценное, что требуется мне и моей дочери теперь от наших лордов, – согласилась королева, – и то, чему я более всего обрадовалась бы от графа Босуэлла…. если бы имела основания верить в искренность его намерений служить нам. Покамест, Хантли, признаюсь честно, я не знаю, как принимать вашего кузена при дворе, не нарушая правил приличия и доводов здравого смысла. Его вольномыслие, его дерзость и непокорство, так огорчавшие моего покойного супруга, его слава неисправимого распутника…
– Что ж, проказы юности, Ваше величество… с тех пор он смирил свой нрав.
Королева быстро улыбнулась:
– А обвинение в государственной измене тоже отнесем к проказам юности, добрый друг мой?
– Кого только не пятнало подобное обвинение, госпожа моя, во времена оны!
– Но и мало кому оно подходило с большим основанием, чем вашему кузену, мой друг, – веско отвечала королева.
Если бы можно было защититься от себя самой этими словами – она защитилась бы безусловно. Хантли отступил и умолк.
Прибыв в Линлитгоу и посетив дворец, Белокурый в дальнейшем повел себя как нельзя более осмотрительно. Он не досаждал королеве своим вниманием. Выбрал дом в городе, не в самом благородном месте, к слову сказать, и образовал там себе берлогу, а во дворце показывался не чаще, чем раз-другой в неделю. Без собеседников Патрик не скучал – Хантли наезжал пьянствовать к нему почти ежедневно, привозил с собой Ситона, Аргайла и последние сплетни. Так, после своего приветственного визита Босуэлл вернулся во дворец только к воскресной мессе. Королева, уже успевшая перевести дух с первой встречи, прождавшая его дня три, затем уверившаяся, что граф, представившись ей после изгнания, вероятно, вернулся к себе на границу, по дороге в церковь принимая поклоны вельмож, вдруг среди прочих вновь увидела его – коленопреклоненного по-прежнему, а после, поднимаясь с колен, он выслал ей тот же взгляд, долгий, пристальный, властный… на нее никто не смотрел подобным образом, даже покойный Джеймс… и вновь Мари ощутила, как перехватывает дыхание, как жидкий огонь разливается по жилам. Но прошла мимо как ни в чем не бывало. Он же вступил в церковь за ней следом и встал сзади, поодаль. Всю службу королева не могла отделаться от ощущения, что он смотрит на нее, и того, что чувствовала себя обнаженной под этим взглядом. Молитва замирала у нее на устах, и сердце пропускало удары. Но когда обернулась к выходу по завершении службы – Босуэлла там уже не было.
– Кой черт тебе это надо? – негодовал Хантли, которого Патрик не имел желания посвящать в свои планы. – Приехать в этот паршивый городишко и жить не во дворце?! Да что ты себе позволяешь?
– Меня никто не приглашал во дворец, да и что мне там делать? – возражал Белокурый. – Все, что мне нужно знать, ты и так расскажешь… Пить? Это куда сподручней дома. В карты я играть не люблю. Если кто из дам невыразимо соскучился по мне за два года, так снизойдут и сюда. И обвинения в измене никто не отозвал, кстати…
– Ну, так отзовут! Ты подавал прошение в Парламент?
– Прошение? Кузен, ты что-то путаешь, Босуэлл просить не умеет!
И оба захохотали.
– Джордж, – в заключение беседы небрежно спросил кузена Белокурый, и глаза его характерно блеснули, – а чем тут у вас вообще занимаются скучающие люди? Расскажи-ка подробнее…

Дворец Холируд, Эдинбург, Шотландия
Шотландия, Эдинбург, март 1543
Март в Мидлотиане – это время черного снега, грязи, нечистот, всплывающих в быстрой оттепели, мерзлых луж и торчащих из сугробов красноватых, голых ветвей ракитника. Март в Мидлотиане – это время от постоя до постоя, время тяжелого, словно саван, плаща, вымокшего насквозь под ледяным дождем, и сырых сапог, время хлопьев снега, залепляющих глаза в поздней метели. Март – это адово время, когда только лютая воля и крепкий виски держат тебя в пути. И никто, как Патрик Хепберн, не радовался сейчас этому едкому марту, ибо он снова был в Мидлотиане, снова в седле.
Солнце Италии померкло в его внутреннем взоре. Тот, кто вернулся, утаил в сердце теплый отблеск, но забыл имена и лица. Тот, кто вернулся, видел цель и рвался к ней, не считая усилий и утрат. Вороной пал под ним еще по дороге в Стерлинг, загнанный больше от лихорадочного возбуждения всадника, чем по необходимости, гнедая кобыла, подарок зятя Клидсдейла, роняла с губ клочья пены, дышала с хрипом, но держалась в колее, пока граф Босуэлл гнался за своей судьбой. Почтовые голуби опережали его и приносили в ответ не вести, но всадников – десяток, два, три, четыре десятка, все больше и больше таких же злых и голодных, как и он сам – пока по камням Хай-стрит в Эдинбурге не прогрохотали копыта коней двух сотен кинсменов, не запрудили волнами площадь перед Парламентом, где Джеймс Гамильтон, второй граф Арран, верховный лорд-правитель и регент королевства Шотландия, двадцатишестилетний молодой человек, которого Генрих Тюдор считал глупцом, Ральф Садлер – хитрецом, а Дэвид Битон – подлецом, восседал во главе лордов возле пустого кресла, символизирующего отсутствующую королеву-младеницу Марию Стюарт, и выслушивал присных.
Аррану было спокойно и скучно, потому что на съезде его Парламента большинство составляли люди доверенные и предсказуемые, кто – родня ближняя и дальняя, а кто – купленная подмога, и потому регент не соизволил взволноваться на стук отворяемых дверей и топот десятков ног, решив, что, наконец, прибыл Ангус, которого поджидали еще с полудня. Сейчас говорили о Спорных землях и бесчинствах Мангертона.
– Что за адов котел воров эта Долина… – морщась, подвел черту лорд-правитель. – Желал бы я видеть рядом с собой человека, лорды, могущего сварить в нем порядочную похлебку.
Граф Арран сказал это, ни к кому, в сущности, не обращаясь, но ответ на свое пожелание получил мгновенный – и весьма для него неожиданный.
– Лояльность Приграничья, лорды, вы получите только в одном случае – когда вернете мне моё.
Повисла долгая пауза. Кое-кто из лордов уронил боннет и полез за ним под лавку, иные начали перешептываться, молодые прелаты перекрестились…
Посредине зала совета стоял, в окружении своих мрачных бойцов, Белокурый граф Босуэлл собственной персоной. Сказать, что здесь, в Парламенте регента, его не ждали – значило не сказать ничего, и вот он возник, черт, словно из-под земли. Ходили, впрочем, разговоры, что два года назад пропавший красавчик объявился недавно при дворе вдовы Стюарта… кое-кто видел его Бинстонов на Солуэе, кое-кто слыхал, как воют похоронные волынки на стенах Хермитейдж-Касла. Но одно дело – слухи, а явление самого Босуэлла во плоти, как есть, произвело эффект, подобный воспламенению черного пороха.
Худшее для регента было в том, что Босуэлл не просто стоял посреди зала – он ведь еще и говорил:
– Покойный король, Царствие ему небесное, будучи удручен темной ночью души, возвел на меня неправое обвинение в измене… ныне я требую рассмотрения дела и возврата мне моего достояния – по закону и старинному праву Шотландии!
– Как, по-вашему, – вполголоса поинтересовался мастер Томас Эрскин у соседа, графа Ротса, – у кого достанет духу ему возразить, при условии, что его аркебузиры окружили зал снаружи?
– Не у регента-правителя точно, – хмыкнул Ротс, – но я бы не стал отдавать ему обратно Долину… на эту рожу взгляните-ка, Эрскин! Ни один из Хепбернов никогда не отличался покладистым нравом там, где можно урвать жирный кусок.
Граф Арран и вправду молчал. Настроение у него испортилось и приняло форму некоторой тревоги. Черная фигура Босуэлла посреди зала мешала его уютной, стройной картине мира, словно песчинка в глазу – сколько ни смаргивай, никуда не денется. Перед Арраном стоял человек, который одним своим возвращением в Шотландию вынимал из кармана регента пару тысяч фунтов ежегодно – не считая собственно платы за лояльность, и это соображение так явственно пронеслось в глазах верховного лица государства, что Босуэлл улыбнулся. Более того, известная увертливость Босуэлла не обещала его верности Аррану даже и в случае возврата земель и доходов, и от этого соображения у Джеймса Гамильтона уже сейчас начинали ныть зубы. Крайтон и Хейлс, Хаддингтон и Нанро, Бинстон и Ваутон – последние куски самой жирной земли Лотиана уплывали из рук регента благодаря одному только появлению этого черта на родине… но прежде, чем он подобрал слова для должного ответа, в тишине прозвучал мягкий низкий голос:
– Какая приятная неожиданность, граф… А мы уж и ждать вас отчаялись!
Босуэлл острым взором выхватил из числа людей, собравшихся подле регента, точно трутни возле пчелиной матки, знакомое лицо – и улыбнулся старому врагу широко, как старому другу.
Джордж Дуглас Питтендрейк, младший брат графа Ангуса, недавно перевалил за половину пятого десятка, но внешне был все тот же обаятельный проходимец, что и в Лондоне, что и во времена юности Белокурого, когда им первый раз выпало померяться силами. Старое вино вражды в новых мехах пьянило не хуже свежего мартовского ветра. Глаза, темные, словно маслины, поблескивающие опытом и умом, черты лица правильные, но без тяжеловесности Ангуса, длинная челюсть Дугласов, мягкий сытый рот, сложенный в приятную усмешку. Сколько лжи изливалось из этого рта – не хватит всей воды Тайна смыть, и сколько ненависти мерцало в этих хитрых глазах – не утолить и за семью семь казней египетских.
– Отчего же? – медленно спросил его Хепберн, улыбаясь. – Или вам солгали о моей смерти, дражайший сэр Джордж? Так те люди не желали вам добра… велите скормить их псам. Мне выпало добираться домой намного дальше, чем вам – вот и все.
Недурной намек для собравшихся, среди которых было довольно и ненавистников Англии, и родственников тех, кто сейчас, после Солуэя, пребывал в плену – намек, где именно братья Дугласы провели время своего изгнания, кем именно были так тепло приняты. Ропот и смешки в публике были ответом Босуэллу – о, это же Шотландия, где союзники первыми готовы осмеять тебя за спиной. Но совсем молодой человек – лев, вышитый на плаще, пышный боннет, венчающий тонкое, узкое лицо, нервная линия рта – стоявший по левую руку от Джорджа Дугласа, смотрел на Босуэлла так, словно одним взглядом лил тому в кровь гадючий яд:
– Мы-то хоть были на виду, а вот вы по каким клоакам отсиживались, граф?
– У шлюх Венеции, – отвечал Белокурый с присущим ему изяществом речи, – приобретал политический опыт. Питтендрейк, это… кто?
И спросил ведь с такой брезгливостью, словно Джон Лайон был чем-то средним между мышиным пометом и харкотой чахоточного. Лицо лорда Глэмиса побурело от бешеной крови, шурин, граф Марискл, схватил молодого человека за кисть руки, препятствуя обнажить палаш… тут гневно окликнул Лайона и граф Арран тоже.
История всегда повторяет себя самое – в виде комическом либо трагическом.
Первый раз прибыв ко двору Джеймса Стюарта, Босуэлл походя получил оскорбление от Ангуса, сейчас же на него лаял того самого Ангуса припадочный племянник.
– Бойкий! – заметил Босуэлл, смерив Глэмиса с ног до головы скептическим взглядом, и небрежно кивнул. – Я к вашим услугам.
Но Марискл оттер возмущенного зятя плечом в толпу, а Питтендрейк мягко промолвил:
– Приношу извинения, граф, за дерзость моего племянника – его семья так пострадала от рук покойного короля, что всякого, кто прежде славился благоволением монарха, он принимает за собственного, личного врага… а ваша-то верность Джеймсу Стюарту была широко известна!
Не устоял проехаться по прежней, столь противоречивой карьере Босуэлла… Белокурый испытывал острое наслаждение от этих бесед с Питтендрейком, полных подножек и обманных финтов – как от пролога к удару дагой. Подлинная вражда, подлинная ненависть будет послаще женской ласки порою. Он прибыл вовремя. Три сословия признали Джеймса Гамильтона, графа Аррана, правителем королевства и наставником королевы Марии Стюарт. Арран и его восемьдесят семь ближних лордов приняли решения, которые изменят лицо государства, Дугласам и Глэмису вернули все достояние, было разрешено читать Библию народу, несмотря на противодействие большей части клира, а также в общих чертах обсуждалась английская помолвка королевы. Кардинал Битон в заточении, на католические службы наложен интердикт… и Ральфа Садлера Босуэлл опередил разве что на пару дней. И прибыл вовремя – в тот самый момент, чтоб начинать драку из нижней позиции, подгрызая брюхо любому верхнему, и выжирать их, верхних, и побеждать. По правде говоря, он и сам – отличный приз в этом соревновании, ибо – последний, кто официально покамест никем не куплен.