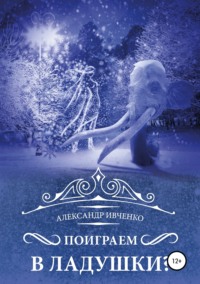полная версия
полная версияСнимать штаны и бегать
Дочитав, Харитон Ильич хихикнул, прикрыв усы ладошкой, но потом посерьезнел, покачал головой и снова горестно вздохнул:
– Не вышло бы чего… Особенно с этим, ядрен-батон, бережением на 500 миллионов.
– Не беспокойтесь! – воскликнул Кирилл уверенно. – Прорвемся! А в случае чего… Где не хватает львиной шкуры, там пришивают лисью.
«Это он намекает, что я седину хной закрашиваю?» – подумал Харитон Ильич с неудовольствием, но промолчал.
«Ох, и Василий! А, может, проще было все-таки звонки на выключатели поменять?» – подумал Голомёдов, но тоже промолчал.
Глава 17. Монументальное вдохновение
Раздайбедин прислонился спиной к крашеному железу и изо всех сил стукнул пяткой в металлическую дверь. Глухой удар, подобно грому, прокатился внутри помещения, находящегося под запором. Василий обернулся и присел около замочной скважины.
– Андриан Эрастович! Открывайте! – крикнул он. – Открывайте, я знаю, что вы там! Мне соседка доложила! Ну, открывайте же! Я уже руку отбил!
Дверь ответила молчанием. Тогда Василий, придав голосу максимально загробную тональность, пробасил:
– У ваших дверей генерал Бубнеев! Он принес вам много-много бюджетных рублей!
Последние слова возымели свое волшебное действие: за дверью послышался звон падающей стеклотары и торопливые шаги. Железная дверь со скрипом отворилась, и на пороге показался скульптор Сквочковский. Он суетливо приводил в порядок растрепанную шевелюру, и спешно запахивался в халат из плюша. Потертый плюш имел когда-то пурпурный окрас, утраченный ныне под воздействием беспощадного времени. Впрочем, утрату с лихвой компенсировал цвет лица скульптора, который являл всю палитру оттенков красного цвета – от темно-бордового мясистого носа, до девственно-розовых белков глаз.
– Простите, я… – начал Сквочковский, угодливо кланяясь и улыбаясь в лицо визитеру, но выдыхать при этом стараясь чуть в сторону.
– Немного заработались! – подсказал Василий. – Я понимаю, не объясняйте. Увлеченность темой, небывалый душевный подъем, буйство фантазии, хоровод образов – словом, творческий запой.
– Нет, что вы! – испуганно кукарекнул Сквочковский. – Мы запоями – никогда! Ну, в смысле…
Василий кивнул головой и тактично помолчал. Но на этом запасы его деликатности кончились. Он вытащил из кармана шорт банку пива, сунул ее Сквочковскому, и, не слушая его стыдливо-благодарные причмокивания, решительно шагнул в мастерскую. Обширное полуподвальное помещение на первый взгляд, пожалуй, мало чем отличалось от других цехов ваятельного искусства. Но Василий испытал странное двоякое чувство. С одной стороны, ему показалось, что глазам чего-то не хватает, с другой – он ощутил неясное дежавю, словно пережил встречу с чем-то виденным давно и в избытке.
– Мастерская для художника не просто место работы, это практически его второй дом! – подобострастно хихикая, пояснил Скочковский. – Но в моем случае – первый и единственный.
– Из квартиры поперли? – догадливо поинтересовался Василий.
– А! – безмятежно воскликнул скульптор. – Художника каждый обидит! Но так даже удобнее. В мастерской художник проводит значительно больше времени, ведь рабочий день творца не нормирован! Кроме того, в мастерскую приходят гости, собираются друзья. Творческая атмосфера особенно притягательна…
Раздайбедин сделал серьезное лицо и, подражая интонации Сквочковского, многозначительно произнес:
– И благодаря этой атмосфере, каждая мастерская имеет свое лицо и может многое рассказать о ее владельце!
С этими словами он катнул ногой пустую коньячную бутылку и вышел на середину помещения. Оглянувшись, он все отчетливее ощутил необъяснимый зрительный дискомфорт. И вдруг догадался. Его взгляду не хватало… скульптур. В самом деле, случайный посетитель мастерской ваятеля вправе рассчитывать на созерцание жизни, застывшей в глине, гипсе, терракоте, мраморе и бронзе. В мастерских обычно прямо на полу, воль стен на полках, на специальных вращающихся станках, подиумах или случайных тумбочках и верстаках – иногда целиком, иногда запчастями – размещаются детища скульптора, поражающие разнообразием размеров и поз.
В мастерской Сквочковского тоже были многочисленные стеллажи и станки. Из углов противопехотными заграждениями топорщились каркасы, проволока, мешки с гипсом и прочие подсобные материалы. Любая горизонтальная поверхность была занята всевозможным скульптурным мусором – от комочков пересохшей глины до готовых произведений. Но вот эти самые готовые произведения почему-то не производили на Василия впечатления скульптур. Не смотря на наличие всех необходимых компонентов и относительное соблюдение пропорций, все эти нимфы и купидоны, Венеры и Аполлоны почему-то казались Василию обычными глиняными и металлическими глыбами. Вместе с тем, каждая из скульптур почти пугала его чем-то до боли знакомым и ранее виденным. Чем – он не мог сообразить.
Сделав несколько шагов, Василий остановился напротив гипсового изваяния и начал его пристально изучать. Если разговор о половой принадлежности вообще уместен по отношению к скульптуре, то пол, несомненно, был мужским – на это косвенно указывали отсутствие пышной груди, лысина и объемный фиговый листок на причинном месте. Определиться с остальным было сложнее. С первого взгляда Василию показалось, что статую раз и навсегда скрутил жестокий приступ радикулита. Казалось, несчастный гипсовый мужчина, ощутив внезапный прострел острой боли, попытался опуститься на одно колено, чтобы облегчить свои страдания. Но очередной спазм не дал ему довести задуманное до конца. В пользу этой версии говорили и гипертрофированно вспученные кубики брюшного пресса, и беспомощно разбросанные руки. Левая бессильно упала куда-то на уровень колен, а правая, откинутая назад, судорожно сжимала неизвестный округлый предмет – возможно, гигантскую таблетку обезболивающего. Однако, не смотря на мучительные страдания, гипсовая физиономия изваяния выражала сосредоточенную мудрость. Глаза, полные Великого Ничего, с прищуром смотрели вдаль, а губы складывались во всепрощающую улыбку.
– Вижу знатока! – с плохо скрываемым самодовольством воскликнул Сквочковский. – Знаменитый Дискобол древнегреческого скульптора Мирона. В моем, собственно, исполнении, но… Я считаю, хорошо, если в мастерской есть образцы античной пластики. Они как камертон создают высокую ноту для творчества…
– Редкий образец эстетически совершенного и органически завершенного произведения ваятельного искусства! Очень редкий! – саркастически произнес Василий и поинтересовался: – И какой нынче спрос на ремейки античности?
– Да как вам сказать… – горестно всплеснул руками скульптор, – Такие уж нынче времена, сами знаете! Падение нравов, засилье пошлости. О каком искусстве может идти речь, если систему государственного заказа подменяют собою такие вот, с позволения сказать, меценаты, как уголовник Брыков!
Василий рассеянно слушал, двигаясь вдоль полок и стеллажей.
– Наличие заказов от государства – есть индикатор потребности нации в искусстве, разве не так? – рокотал скульптор, и голос его набирал силу, по мере того, как пустела пивная банка. – Ведь раньше-то, раньше, а?! Кипела работа! Как с конвейера, творения сходили. А теперь – что? Я вынужден осваивать малые формы – лепить русалок с пятым размером бюста для частных бань, и пошлых купидонов для будуаров! Я, потомственный художник-монументалист!
Василий согласительно хмыкнул, пытаясь сообразить, кого ему напоминает купидон с ямочками на щеках, призывно вскинувший руку над головой.
– …дед начинал лепщиком на императорском фарфоровом заводе, а прадед по деревням печи ладил, то есть, тоже работал с камнем и глиной… – жизнерадостно повествовал Андриан Сквочковский. Василий же невнимательно кивал, разглядывая очередной шедевр с полки – мощного коня с коротким грушеобразным туловищем, расширяющимся к крупу, и длинными суставчатыми ногами. Жажда сурового подвига, граничащая с маразмом, застыла на одухотворенной конской морде, которую из-за густых командирских бровей хотелось назвать, все-таки, лицом.
– …ведь есть скульпторы, которые сосредоточенны на станковых произведениях и малых формах, а есть монументалисты, создающие памятники. Я тяготею к последнему – по широте замыслов и силе, так сказать, таланта. Памятники – это ведь, согласитесь, на века?!
Раздайбедин, наконец-то оторвавшись от созерцания работ Сквочковского, присел на помост в обширной тени толстозадой гипсовой нимфы и задал вопрос по существу:
– И как обстоят дела с тем памятником, который вы должны изваять на века по нашему заказу?
– О, один момент! – Сквочковский засуетился, и стал напоминать индюка. Все раздуваясь и что-то квохча, он вперевалку засеменил по мастерской и остановился, наконец, у ванны, предназначенной для хранения сырой глины. Достав оттуда ворох каких-то бумаг, он торжественно заговорил:
– Генерал Бубнеев. Лев Аристархович. Земляк, воин, герой. Символ, как выразился уважаемый Харитон Ильич. Какой он? Эта задачка не каждому по зубам! С чего начать? Я взял бумагу, карандаш и… И начал рисовать. Рисовать, не напрягая разум, но доверяя сердцу. Я отдался провидению, решив, что оно само направит мою руку!
Первый же эскиз мне показался более чем достойным. Передо мной на бумаге появился воин, стратег. Человек властный, быть может даже жестокий. Но как иначе – ведь война! А его пышные усы? Взгляните! С ними он непременно будет внушать зрителю чувство трепета и невольного уважения.
Сквочковский потянулся и передал Василию эскиз, второпях набросанный углем на серой бумаге. Взглянув на рисунок, Василий сначала оторопел, потом на его лице отразилась напряженная работа мысли и, наконец, он улыбнулся. Но Сквочковский, не замечая этого, увлеченно продолжал:
– Потом я задумался над тем, что в Славине генерал появился, все-таки, после выхода в отставку – на пенсию, так сказать. С нашим городом связаны последние годы его жизни. Я постарался представить, как он мог бы выглядеть в эти последние годы. Еще крепкий старец, умудренный жизненным опытом… Быть может, чуть уставший, быть может, смерть уже наложила невидимую печать на его чело. Но он непреклонен и все так же внушает уважение и трепет.
Андриан Эрастович передал Василию второй эскиз. Тот приподнял одну бровь и хмыкнул.
– Однако потом я вспомнил, что в дни баталий Отечественной войны 1812 года он был молодым человеком, почти юношей. И это повлекло за собой новый пластический ход, иную тематическую линию! Мне захотелось создать образ парня, которого каждый сможет назвать своим другом и братом. Близкого, понятного, улыбчивого, но готового в любую минуту пожертвовать своей жизнью ради других!
Третий эскиз уже откровенно развеселил Раздайбедина, и он с трудом сдержал восторженный смешок.
– Но я не мог успокоиться. Я осознавал, что каждый из вариантов хорош, но каждый имеет свои недостатки. Окончательный вариант памятника явился мне во сне. Да-да, вы не поверите! Во сне! Я увидел образ человека – не молодого и не старого, бесконечно мудрого, но по-юношески улыбчивого. Мне показалось, я уловил это настроение. Я смог воссоздать тот тип лица, перед которым каждый испытывает невольное благоговение. Вот!
И скульптор Сквочковский с отрешенным видом человека, полностью опустошенного творческим поиском, передал Василию последний эскиз. Взглянув на него, Василий засмеялся в голос. Смеялся он долго и звучно, как умеют смеяться люди, которым нет особого дела до чужих чувств. Андриан Сквочковский обиженно засопел и нахмурил брови.
– Что вас смешит, позвольте поинтересоваться?!
– Помилуйте, Андриан Эрастович! – воскликнул Василий, – Я вас не виню, но все это уже было!
– В каком, то есть, смысле «было»? – ревниво закудахтал скульптор.
– Как же? Разве ваш первый «жесткий стратег с пышными усами» вам самому никого не напоминает? Ну же! Ведь это же Иосиф Виссарионович – не смотря на эполеты и мундир царской армии. Генералиссимус Сталин собственной персоной – нужно только посмотреть повнимательнее!
Сквочковский взглянул на свое творение остановившимся взором.
– Второй, «умудренный опытом и уставший от жизни» вариант – это Брежнев. Наш дорогой Леонид Ильич на последнем издыхании. Третий – «свой парень» для всей огромной страны – это первый космонавт Юрий Гагарин. А четвертый… Может быть вы сами?!
– Бог мой! – воскликнул Сквочковский ошарашено. – Какой конфуз! Неужели это он?!
Скульптор-монументалист подбежал к этажерке, завешенной пыльной холстиной и сорвал с нее материю. С центральной полки на Василия с мудрым прищуром смотрели бюсты вождя мирового пролетариата. Ленин был отлит в гипсе и бронзе, кое-где попадались небольшие скульптуры в рост. Одни головы Владимира Ильича взирали на Василия доброжелательно, другие – словно осуждая его оранжевые шорты, третьи – будто призывая потолковать о мировой революции за бутылочкой доброго виски. Но во всех без исключения прищуренных глазах затаилась не меньшая загадка, чем в знаменитой улыбке Джоконды.
Этажом выше и ниже расположились бюсты Сталина, Брежнева, Горбачева и каких-то неизвестных Василию членов политбюро. Чуть в стороне оказался и Гагарин. В некоторых вариантах его улыбающаяся голова покоилась на блюде, которое по замыслу скульптора должно было олицетворять круглый воротник космического скафандра.
Василий взглянул на мастерскую новыми глазами. Работы монументалиста Сквочковского, в одночасье лишенного государственного заказа на скульптурные портреты видных деятелей советской эпохи, и вынужденного осваивать малые формы, наполнились для него смыслом и содержанием.
Толстозадая Нимфа вдруг обрела знакомые черты знаменитой Девушки с Веслом. В ее фригидно-фанатичном взгляде застыла та же непреклонная верность делу Партии. Но если оригиналу было поручено нести в широкие массы физкультуру и спорт посредством агитационного весла, то Нимфе ее создатель никаких высших задач не ставил, и никаких орудий производства, кроме наготы, не дал. От этого Нимфа выглядела несчастной, будто ее обобрали в темной подворотне неизвестные негодяи.
Гипсовые Купидоны играли гагаринскими ямочками на щеках, словно готовясь крикнуть историческое «Поехали!». А призывно поднятая по-гагарински рука передавала этим крылатым малышам полное ощущение сопричастности к первому космическому полету.
Дискобол замахивался на зрителя с невинным лицом последнего Генсека ЦК КПСС и по совместительству – первого российского Президента Горбачева (для полного тождества не хватало лишь родимого пятна на лысине). Вероятно, болезненная поза олицетворяла последние муки совести, поскольку правой рукой Михайло Сергеевич не то выдергивал опорный камень из фундамента социализма, не то готовился швырнуть в народ перестрочными реформами.
И даже голова дикого коня с кустистыми бровями и взором, исполненным воинствующего маразма, вполне могла заменить любой из скульптурных портретов Генсека Брежнева, когда-либо отлитых и установленных по всей необъятной территории СССР.
– Какой конфуз! – прошептал Сквочковский.
– Что же вы так краснеете?! – ласково похлопал его по плечу Василий. – Ведь не зря говорится, что повторенье – мать ученья. Я считаю, это сильный ход – воплотить в нашем памятнике лучшие черты и образы ушедшей эпохи.
– Вы и впрямь так считаете? – плаксиво поджал губы монументалист.
– Я в этом убежден! – заверил Василий. – Только вам бы, любезный, чуть поспешить в ваших творческих поисках. Время не терпит.
Скульптор потупил взор и по-мышиному пропищал:
– Да… Да, само собой. Но… На каком варианте мне остановиться?
– Завязывайте вы с муками творчества, я вам как друг говорю! Возьмите собирательный образ. А еще лучше – придайте скульптуре черты героев современности. Например, Харитона Ильича. Но с бакенбардами…
– Ясно. Но…
– Но?
– Мне бы… Аванс…
– Аванс? Ведь вы уже получали?
– Оплата аренды мастерской, материалы, творческий поиск, словом…
– Словом, исчерпали фонды?
– Я не…
Василий порылся в карманах, достал несколько смятых бумажек и строго сказал скульптору:
– Вот. Это на пиво. Но чтоб кроме пива, никаких других жидкостей, способствующих творческому процессу. Ясно? Приступайте к лепке. Да, и приберитесь. Завтра журналисты зайдут.
Глава 18. Три смертных приговора для одного памятника
Ангелина Бутончикова:
«Заходя в мастерскую Андриана Скочковского, его скульптуры просто поражают воображение. Этому мастеру выпала непростая творческая задача – материализовать давно ушедшего героя войны, нашего земляка генерала Бубнеева. Он любезно пригласил нас, чтобы приоткрыть завесу творческой тайны.
Обширное помещение, рассеянный свет. Заходишь и будто бы попадаешь в другое измерение: просто проваливаешься в атмосферу. И кажется, что здесь работает какой-то совершенно неземной человек, полубог – творит, колдует, создает новую жизнь…
Интересно подобранная экспозиция мастерской скульптора будто преобразуется в сюжет какой-то неведомой сказки. Творения мастера словно оживают и начинают вести свой внутренний диалог. Хочется разглядывать все это часами!»
Вениамин Сергеевич Брыков со злостью отшвырнул газету и скрипнул фарфоровыми коронками.
– Вот чувырло лохматое! – прошипел он и заметался по своему кабинету, как плененный тигр. Но вместо тигриной ярости в сердце зрела постыдная заячья паника. Шестым чувством, обретенным за долгие годы пребывания за колючей проволокой, Вениамин Брыков ощущал, что его собираются кинуть. Он прямо-таки видел, как отдаляется от него желанное звание «Почетный гражданин», уплывая к подлому скульптору Сквочковскому. В самом деле: с момента исторического совещания в приемной Харитона Ильича прошло довольно много времени, а со стороны городской Думы не было и намека на позитивное развитие событий. Хотя оговоренная сумма первого меценатского транша была успешно переведена на счета, которые указали московские консультанты Зозули. Но деньги исчезли в полном молчании, словно их засосало в невидимую воронку. Ни благодарности, ни телефонного звонка – в этом чувствовалось что-то зловещее.
Вениамин Сергеевич схватил трубку телефона, послушал унылый гудок. С ненавистью он посмотрел на крученый провод, словно обвиняя его в отсутствии хороших новостей, и швырнул трубку на рога аппарата.
– Походу, вляпался я в блудную! – зло пробормотал Вениамин Сергеевич. – Но ведь тут на раз не просечешь, что за макли этот фуфлыжник крутит…
Он еще раз схватил газету и с ненавистью прочел:
«– Кто из нас способен осознать великие пути Провидения? – поясняет Андриан Сквочковский, не отрываясь от работы. – Быть может, и мой отец, и мой дед, и прадед, которые работали с камнем и глиной, поколениями накапливая мастерство, генетически готовили меня к этой работе? Быть может, я рожден именно для того, чтобы воплотить в холодный металл этот горячий символ? Символ мужества и исторической памяти…»
– Не, ну ты, Овца! Куда ты роги мочишь! – возмущенно крикнул меценат, швырнул газету в мусорную корзину и снова заметался по кабинету, злобно бормоча:
– Тебе, обиженник, на насесте кукарекать, а не умняка в газетах корчить!
Неожиданно Вениамин Сергеевич остановился у серванта красного дерева. На одной из полок красовался коллекционный набор оловянных солдатиков, изготовленный именитым столичным мастером военной миниатюры в подарок знакомому меценату (свое небывалое мастерство, скрупулезность и усидчивость, столь необходимые в таком тонком ремесле, как отливка оловянных миниатюр, умелец давным-давно шлифовал на соседних с Вениными нарах).
Не смотря на крохотные размеры, каждый из оловянных воинов готовился к предстоящей битве со своим индивидуальным настроением и выражением лица. Один молодой безусый солдат глядел куда-то вдаль задумчиво и в то же время беспечно, другой умудренный годами боец всецело был поглощен чисткой ружейного ствола. Особняком встали оловянные офицеры, склонившись над миниатюрной картой, на которой один из них торопливо набрасывал расположение вражеских батарей, флешей и редутов.
Чуть поодаль разместился, оперев правую ногу на походный барабан, важный генерал. Он напыщенно надувал щеки и брезгливо оглядывал свое воинство, словно выискивая, кому устроить разнос.
Меценат Брыков, прищурившись, уставился на оловянного генерала и безотрывно смотрел на него не менее двух минут. Потом он протянул руку, опустил указательный палец на генеральскую треуголку и начал раскачивать оловянную фигурку из стороны в сторону. Из горла Вениамина Сергеевича начал вырываться нервический смешок. Чем сильнее наклонялся генерал, тем громче смеялся меценат Брыков. Наконец, оловянный полководец, жалобно звякнув, опрокинулся на спину. Вениамин Сергеевич с видом победителя установил указательный палец на его выпуклом животике, и злобно прошептал:
– Ну ладно, фуфел коцаный! Танцуй, пока танцуется. Памятник поставить намылился? Подожди – надену я те бирку на ногу…
* * *Тем временем на другом конце Славина в совершенно другом интерьере, но совершенно с такой же яростью, просматривал прессу поэт Александр Александрович Шашкин. Если откровения скульптора Сквочковского он встретил с презрительной улыбкой превосходства, то дальнейшее чтение повергло его в состояние устойчивого стресса.
«Восстановить исторический портрет Льва Аристарховича Бубнеева помогла наука.
– Это была большая работа! – делится с нами эксперт, известный Славинский историк-краевед Николай Пилюгин. – До нас, к сожалению, не дошли достоверные изображения генерала. Но лично мною был разработан инновационный метод реконструкции внешности. Всех секретов я открывать не буду. Проведу лишь некоторые аналогии с известной системой криминалиста Чезаре Ломброзо. Напомню, он, основываясь на антропологических, то есть, внешних чертах человека (например, размере и форме ушей) определял его склонность к тем или иным преступлениям. Я усовершенствовал метод. По сути, развернул его в обратном направлении. Анализируя поступки и свершения нашего героя и земляка, я определял антропологические параметры, черты его внешности с точностью до 85–90 %!
Другим очень существенным направлением стал анализ исторического материала. Так, в частности, я беседовал с потомками жителей деревни Бубнеевки – бывшего генеральского поместья. Тщательно фиксируя рассказы о генерале, которые поколениями передавались из уст в уста, я выделял общие черты, составлял описание внешности.
Но вообще – не пытайтесь понять. Для того, чтобы освоить мой авторский метод реконструкции внешности, нужно обладать особым зрением. Чутьем, интуицией, даром, если хотите! Этот дар у меня есть.
Николай Николаевич Пилюгин по секрету открыл нам большую творческую тайну. Оказывается, в ближайшее время он намерен выпустить ряд публикаций в СМИ, подготовить к печати книгу, а так же выступить с рядом лекций относительно своего новаторского метода».
Александр Александрович Шашкин не сразу понял, что насторожило и расстроило его в интервью краеведа Пилюгина. Больно царапнули чувствительную творческую душу слова «особое зрение», «чутье» и «дар». Как и любой служитель муз, поэт Шашкин довольно ревниво относился к случаям, когда у других вдруг обнаруживались те качества, наличие которых он допускал исключительно у себя и считал авторскими.
Но, перечитав отрывок статьи, поэт Шашкин понял, что гораздо сильнее ревности беспокоит его чувство преследования. Он уже видел мысленным взором, как в недалеком будущем на творческих встречах с интеллигенцией, на тематических лекциях в вузах, на уроках патриотизма в школах, на торжественных митингах и прочих мероприятиях, буквально наступая ему на пятки, лезет на трибуну Николай Пилюгин. Вместо обстоятельного рассказа поэта Шашкина о ценности и важности Слова; вместо задушевной беседы с аудиторией об упадке нравственности и культуры; вместо компетентной оценки сложной международной обстановки, в которой великое богатство Русского Литературного языка остается едва ли не единственной ценностью – этот Пилюгин будет забивать головы слушателей глупыми россказнями про генерала Бубнеева и о своей идиотской методике. Потрясая перед носом читателя публикациями и книгами, краевед постепенно втиснется в нишу известных Славинских литераторов, а дальше – чего доброго – вытеснит из нее Александра Шашкина!
– Пусть попробует, выскочка! И не таких видали! – пробовал хорохориться поэт Шашкин. Но в душе он чувствовал, что однозначно предсказать финал битвы литературных титанов будет довольно сложно. Конечно, «Торжественная Ода» и юбилейные медали Шашкина были сильным оружием. Но этот новичок даже в проходной газетной статье так и «давил интеллектом», позволяя себе, походя, упомянуть Ломброзо, антропологию, параметры, реконструкцию, авторский метод и прочие не в полной мере понятные поэту Шашкину слова. Александр Александрович чувствовал, что ему попросту нечем ответить на такой неожиданный наглый выпад.