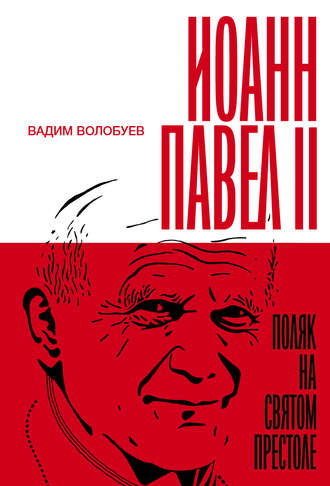
Полная версия
Иоанн Павел II: Поляк на Святом престоле
Спустя год он снова посетил Палестину и написал об этом поэму «Путешествие по Святой земле» – набор едва ритмизованных фраз с очень темным содержанием, напоминающий видения пустынников.
Мое паломничество – к подлинности. Не к камням, из которыхСложен фундамент дома или мостовая, а может, печь.Бывает подлинность пейзажа. Туда мой путь.В места святые.Гора Фавор: вид подлинности с высоты. Медленно вверхПоднимается Галилея своими (сколько труда!) полями, каждымКибутцем, свечением своим он вечером напомнит о себе. ОзнобЗаходящего солнца картину эту дополнит.Генисаретские берега. Подлинность, когда находишьсяВ Капернауме, Вифсаиде иль Магдале. В мелкой прибрежной водеНесколько камней найдешь, чтоб положить на рабочую рукуРыбака над Нотецьей.В простор войти и выйти из него.Подлинность отдохновения.Места единения скорее в нас самих, не на земле 351.Девятнадцатого декабря 1963 года правительство Польши выдало санкцию на занятие Войтылой митрополичьей кафедры в Кракове. «Вот вы и получили, кого хотели», – подытожил Вышиньский в беседе со Свежавским, имея в виду польских сторонников церковной реформы352.
В этой фразе действительно слышится некоторая неприязнь к Войтыле, который своим поведением, скажем прямо, не очень соответствовал образу архиепископа, да еще в такой важной епархии, ведь глава краковской кафедры имел право на дворянский титул как обладатель (пусть и номинальный) Северского княжества. А тут, изволите ли видеть, какой-то сын поручика, даже не благородного происхождения (впервые в истории), простецкий в одежде и общении, поэт, вдобавок приятель своевольных умников из «Знака» – нелепость!
Давали о себе знать и расхождения во взглядах на развитие католицизма. К примеру, Вышиньский и часть епископата холодно отнеслись к «оазисному» движению, инициированному ксендзом Франтишеком Бляхницким, в то время как Войтыла однозначно поддержал его – очевидно, под влиянием воспоминаний о «Живом розарии» Тырановского353.
Бляхницкий являл собой пример ретивого неофита. В молодости атеист, он уверовал после того, как провел несколько месяцев в нацистской тюрьме. Известность к нему пришла благодаря активной кампании по борьбе с пьянством. Он организовал движение под названием «Крестовый поход за трезвость», но власти его запретили, а самого ксендза посадили на четыре месяца в тюрьму за создание «нелегальной организации». Там у Бляхницкого вышел характерный диалог с мелким вором, который в первый день с изумлением спросил священника: «Я-то здесь из‐за водки, потому что украл по пьяной лавочке. А вы здесь из‐за чего?» – «И я из‐за водки, сын мой»354.
В тот раз епископат решительно вступился за ксендза перед Управлением по делам вероисповеданий. Но вот «оазисное» движение, где приобщали к вере без участия священников, уже не нашло поддержки у примаса. Вышиньский с подозрением отнесся к этой инициативе, поскольку она не контролировалась церковью и слишком уж смахивала на протестантские образцы вербовки членов. Не помогло даже то, что сам Бляхницкий воспринимал ее как средство избавления страны от коммунистов и советского влияния355. Войтыла, однако, всемерно одобрил работу энергичного ксендза, а в 1973 году в резиденции движения зачитал акт его передачи под опеку Непорочной Девы Марии, Матери Церкви356.
Активно поддержал Войтыла и фестиваль религиозной песни sacrosong, инициированный ксендзом Яном Палюсиньским в 1969 году. Первый такой фестиваль прошел в Лодзи, а затем всякий раз менял место проведения. Когда очередь дошла до Кракова, Войтыла взялся лично организовать мероприятие357.
Его интронизация прошла 8 марта 1964 года. Он сам выбрал этот день – в память о своем знаменитом предшественнике, Винценте Кадлубеке, первом ученом и писателе из Польши, авторе исторической «Хроники», которая задала тон польской литературе на много веков вперед и в немалой степени определила самосознание поляков. По сей день поляки используют крылатые выражения из «Хроники», часто даже не догадываясь об их происхождении. Как раз в 1964 году отмечалось 200-летие канонизации Кадлубека, и перед посвящением Войтыла молился у его гроба в Енджееве, где этот видный представитель христианского гуманизма окончил свои дни 8 марта 1223 года, постригшись в монахи-цистерцианцы.
Ecce Sacerdos Magnusqui in diebus suis placuit Deo 358 —прогремел антифон из «Литургии часов», когда Войтыла под звон «Сигизмунда» ступил под своды кафедрального собора на Вавеле, одетый в ризу из красного аксамита с ягеллонскими орлами понизу (вклад Анны Ягеллонки – жены Стефана Батория), с посохом времен Яна Собеского – победителя турок в великой битве под Веной в 1683 году. На пальце его тускло отсвечивал золотой перстень епископа XI века Мауруса, найденный археологами еще перед войной в вавельской крипте святого Леонарда – той самой, где Войтыла служил свою первую мессу. Грудь его закрывал драгоценный наперсник – символ могущества краковских архипастырей, одних из четырех ординариев в мире, которые имеют право на этот атрибут священства (кроме них, эту привилегию получили также владыки в Падерборне, Айхштетте и Нанси).
Было четвертое воскресенье Великого поста. «Мы рады тебе, – провозгласил глава капитула. – Кто-нибудь мог бы сказать, будто мы оттого так рады, что знаем твои способности, твой прекрасный ум, глубину твоего учения. Но в наших сердцах говорит больше та великая доброта, сколь неизмеримая, столь и простая, которая открывает сердца и привлекает их к себе». Затем произнес речь куриальный канцлер Миколай Кучковский. Именно ему довелось когда-то проводить клирика Войтылу из его дома в тайную семинарию, оберегая от гитлеровских патрулей. После речи Кучковского зачитали папские буллы и поздравление от Вышиньского. Снаружи Войтылу приветствовали красочно одетые делегаты со всей епархии и профессора из Люблина. Так прошла его интронизация359.
***Третьего июня 1963 года скончался Иоанн XXIII. Спустя три недели кардиналы избрали его преемником миланского архиепископа Джованни Монтини, взявшего имя Павла VI. Новый римский папа продолжил дело предшественника. Открывая вторую сессию вселенского собора, он обратился к другим деноминациям с просьбой о прощении, использовав фразу из Горация: «Veniam petimusque damusque vicissim» («Мы прощаем и сами просим прощения»)360. Эти слова, столь неожиданные в устах главы католического мира, запали в память и сдвинули с мертвой точки дело христианского единства: римский первосвященник и приехавший на собор Константинопольский патриарх наконец-то, спустя почти тысячу лет, сняли друг с друга взаимные анафемы, когда-то вызвавшие раскол церкви на две части – католическую и православную.
Столь изумительный эффект вдохновил поляков на похожее свершение: спустя два года епископат Польши тоже произнес громкие слова Горация. На этот раз – обращаясь к немецким братьям по вере. И теперь уже это послание достигло слуха не только христианских иерархов, но и простых людей.
А начиналось все с церковной программы Великой Новенны, запущенной Вышиньским в 1956 году. Программа была рассчитана на десять лет и увенчивалась грандиозными мероприятиями в честь тысячелетия крещения Польши. Символическим стартом Великой Новенны явилось то самое паломничество к Черной Мадонне 26 августа 1956 года, когда местоблюститель архиепископского престола Михал Клепач зачитывал текст обета Деве Марии, написанный Вышиньским в изоляции.
Примас полагал, что именно в Польше решается судьба коммунизма: «Если Польша охристианится, превратится в большую моральную силу, коммунизм сам падет… Польша покажет всему миру, как управляться с коммунизмом, и весь мир будет ей за это благодарен». Программа Новенны превращалась таким образом в масштабное столкновение католичества с партией и вообще со всем социалистическим лагерем361.
А тут еще подоспел собор – тоже переломный момент в истории церкви. Случайно ли так совпало – вселенский собор и тысячелетие крещения Польши? У Господа нет ничего случайного!
Собор закрывался в начале декабря 1965 года, а на следующий год как раз выпадал пресловутый юбилей, в честь чего польские иерархи пригласили всех католических епископов поучаствовать в торжествах. Обычный жест вежливости. Но в случае с немцами этот жест превратился в элемент политики. Обращение к ним составил тот самый епископ Коминек, которого не хотели выпускать из страны польские власти, обвиняя в прогерманских настроениях.
Немцы тоже шли на сближение. Хороший контакт установился у Вышиньского с мюнхенским архиепископом Юлиусом Депфнером, не устававшим повторять, что надо налаживать диалог. Именно Депфнер на пару с кельнским архиепископом Фрингсом сделал решающий шаг навстречу, когда в октябре 1963 года предложил полякам совместно выступить за канонизацию Максимилиана Кольбе – францисканского монаха, добровольно принявшего смерть в Аушвице ради спасения чужой жизни. Трудно было отыскать лучшую кандидатуру для символического примирения двух народов, чем этот полунемец-полуполяк, за которого уже давно ратовали францисканцы362.
Главной проблемой во взаимоотношениях двух народов оставался вопрос западной польской границы. Коминеку предстояло решить неподъемную задачу: как составить обращение, чтобы не обидеть ни одну из сторон? Разумеется, польские иерархи осознавали всю щекотливость своего положения. Они могли бы отделаться формальным приглашением, умолчав о расхождениях. Однако примас решил иначе. Когда, если не теперь, залечивать вековые раны, соединяясь в общей молитве? Поступая так, он действовал наперекор традициям польской церкви, которая обычно ставила во главу угла интересы нации, а уж потом евангельские заповеди. Но и времена наступили иные. Собор напомнил епископам, что все они – прежде всего братья во Христе. В эпоху глобальной церкви ютиться в национальных квартирах было уже не с руки. И Вышиньский принял этот вызов.
Составленное Коминеком обращение было выдержано в примирительном тоне. Оно подробно живописало, сколь многим поляки обязаны культурному влиянию немцев, не избегало трагических моментов взаимной истории, и выражало сочувствие тем жителям Германии, кого послевоенное изменение границ согнало с насиженных мест. Коминек вроде бы даже оправдывался перед немецкими пастырями, говоря, что после утраты восточных земель поляки не могут отказаться от новоприобретенных территорий, иначе страна опять скукожится до размеров генерал-губернаторства. Большую смелость надо было иметь, чтобы заявить такое во времена, когда всякое напоминание о кресах влекло подозрение в подрыве польско-советской дружбы, а следовательно – в государственной измене. И все же Коминек, а вслед за ним епископат, пошли на это, чтобы представить немецким епископам картину во всей полноте. Они не хотели спорить с ними, они пытались объяснить!
«И несмотря на все это, – говорилось в обращении, – несмотря на то что все мы обременены прошлым, именно в такой ситуации, достопочтенные Братья, призываем Вас: попытаемся забыть. Хватит полемики, хватит холодной войны! Пусть завяжется диалог, к которому стремятся Собор и папа Павел VI». И уже в самом конце прогремели знаменитые слова, которых никто не ждал: «Исполненные христианского, но вместе с тем человеческого духа, мы протягиваем Вам, сидящим на скамьях этого Собора, наши руки, прощаем Вас и сами просим прощения»363. Так слова древнего поэта, потрясшие католический мир двумя годами раньше, прозвучали вновь, чтобы потушить огонь вражды между двумя народами. И под ними подписались люди, прекрасно помнившие, как «высшая раса» старалась низвести их до положения рабов.
Войтыла был одним из немногих, кого примас допустил к редактуре текста. Более того, именно ему наравне с Коминеком Вышиньский доверил передать «Обращение» представителям немецкого духовенства перед его публикацией. Польские власти не были официально уведомлены о происходящем, что и понятно: контакты внутри церкви их не касались, церковь ведь отделена от государства. И все же, во избежание недоразумений, Коминек опосредованно поставил в известность свое правительство, передав текст «Обращения» римскому корреспонденту газеты «Трыбуна люду». Корреспондент заверил епископа, что у руководства страны нет претензий к иерархам. Но говорил ли он правду? Существует предположение, что амбициозный журналист изобразил дело таким образом, будто документ попал к нему окольным путем и вопреки воле епископата364.
Это письмо, исполненное евангельского духа, разожгло нешуточные страсти в Польше. Гомулка, ознакомившись с ним, впал в ярость. Как! Его сограждане посмели обратиться к немцам через голову дипломатического ведомства, да еще взялись рассуждать о государственной границе, будто не партия здесь решает, а они! Масла в огонь добавил сдержанный ответ немецкого епископата, в котором не было и речи о признании новых границ (что понятно, ведь иерархи не могли нарушить закон своей страны).
Немедленно с цепи были спущены пропагандистские псы. «Прощение? Примирение? – язвила популярнейшая газета „Жиче Варшавы“. – Ну да, мы охотно прощаем поляков и миримся с ними… при условии изменения границ и исправления вреда, нанесенного немцам. Диалог? Дискуссия? Охотно поболтаем, если все будет, как указано выше. Вот ответ, который получили из ФРГ авторы „Обращения“. Неужели они не понимают эту ситуацию? Или притворяются, будто не понимают?»365
Прелаты, только что вернувшиеся с собора, будто попали под ледяной душ. Все государственные СМИ принялись изощряться в обвинениях, изображая епископов чуть ли не слепым орудием германского реваншизма. Просить прощения у немцев? За что? За шестилетнюю оккупацию, гибель миллионов и разрушенную Варшаву? И кто уполномочил руководство клира говорить от лица всего народа? Такими вопросами задавались жители страны, потерявшей наибольший процент населения во Второй мировой.
По накатанной дорожке шло разжигание общественной истерии. На предприятиях и в учреждениях созывались митинги, где принимались резолюции с осуждением епископата, причем тон этих резолюций был куда более резок, чем тон статей в прессе или передач по телевидению. «Категорически протестуем против любых попыток безответственных лиц продать интересы польского народа…– заявлялось в резолюции рабочих завода железобетонных и бетонных конструкций в Кракове. – Требуем заклеймить враждебную Польше позицию польского Епископата. Требуем пресечь потуги безответственных клерикалов представлять интересы польского народа и слать от имени этого народа унизительные декларации»366.
Работники фабрики соды, где когда-то трудился Войтыла, направили ему открытое письмо: «С огромным возмущением и изумлением мы узнали о вашем участии в предварительных переговорах с немецкими епископами, а также в редактировании и подписании „Обращения“, где содержатся панибратские высказывания о жизненных интересах нашего народа… Мы не спрашиваем, забыли ли вы об Освенциме, где между прочим от рук немецких молодчиков тысячами гибли польские священники; забыли ли о выселении детей из Замостья и о кошмарных условиях этого выселения; забыли ли о других чудовищных мерах биологического уничтожения. Этого нельзя забыть. Поэтому мы утверждаем, что наше национальное самосознание оскорбляет ваше участие в редактировании „Обращения“, где идет речь о мнимой вине поляков перед немцами. Немцам нечего нам прощать, поскольку непосредственная вина за разжигание Второй мировой войны и ее жуткий характер лежит исключительно на германском империализме и фашизме, наследником которых является Федеративная Республика Германия. Зная вас как рабочего нашего предприятия во время гитлеровской оккупации, мы выражаем глубокое разочарование вашим негражданским поступком»367.
Разумеется, все эти резолюции писались не возмущенными рабочими, а совсем другими людьми, отвечавшими за идеологию и пропаганду. Штампованные формулировки и однообразные обвинения настолько бросались в глаза, что даже сотрудники Управления по делам вероисповеданий жаловались на «автоматизм пущенной в ход пропагандистской машины» и «шаблонность» действий368. И все же на этот раз пропаганда попала в точку. Многих действительно возмутил поступок церковной элиты. С мест сообщали о многочисленных проявлениях общественного гнева. Даже приходские священники – и те в большинстве осудили «Обращение». Во Вроцлаве горячие головы предлагали запретить архиепископу Коминеку возвращаться в город. Во время митинга в тамошней Высшей школе экономики избили человека, пытавшегося защищать мнение епископов. Сам Коминек пребывал в страхе, опасаясь возобновления репрессий против костела и даже арестов, как при Беруте. Находясь в Австрии, он пытался уговорить Депфнера дать совместное интервью, а затем, 5 января 1966 года, сам выступил перед западногерманскими тележурналистами, объяснив, что «Обращение» не носило политического характера, что оно отражает дух собора, а границы на Одре и Нысе не подлежат пересмотру. В том же ключе было выдержано и заявление епископата от 15 декабря 1965 года, которое цензура не допустила к печати, ибо в нем недвусмысленно указывалось на искажение государственными СМИ содержания письма немецким епископам369.
Не только Коминек, но и другие иерархи растерялись, оказавшись под таким обстрелом. Двое из них вообще отреклись от «Обращения», заявив, что не согласны с ним. Еще трое, вызванные в президиумы воеводских советов, осторожно покритиковали некоторые положения документа. Остальные сорок шесть, с которыми провели беседы представители местных властей, напирали на то, что документ был превратно понят370.
Фракция «Знак» попыталась оградить епископат от нападок, но сделала это весьма неуклюже. Выступая 14 декабря 1965 года в Сейме, Ежи Завейский призвал закончить «дискуссию» об «Обращении», поскольку она может вселить во врагов Польши надежду на то, что в стране произошел раскол в отношении «возвращенных земель»371. Аналогичным образом высказался месяц спустя главный редактор «Тыгодника повшехного» Ежи Турович. Журналист выступил на заседании руководства предвыборного блока в присутствии самого Гомулки, а потому удостоился высочайшей острастки: «Дело заключается в том, что епископат, и особенно кардинал Вышиньский, желают противопоставить 1000-летие крещения Народной Польше. Эта тенденция чувствуется во всем Обращении… Если кардинал Вышиньский или архиепископ Коминек и другие епископы хотят выражать мнение по разным политическим проблемам, мы этого не запрещаем, но пусть это будет соответствовать нашей политике, пусть костел не противопоставляется государству. Пусть не думают, что властвуют над душами. Эти времена бесповоротно ушли в прошлое и никогда уже не вернутся»372.
Примас же ни в чем не оправдывался, наоборот, несколько раз повторил в проповедях, что церковь независима от государства, а епископы как граждане свободного государства вольны писать письма и приглашать в страну кого угодно. Он настаивал, что «Обращение» подняло престиж польской церкви, так как опровергло все упреки в шовинизме и национализме, раздававшиеся в мире.
Эта несгибаемая позиция аукнулась Вышиньскому тем, что правительство аннулировало его заграничный паспорт373. Кроме того, власти не разрешили участвовать в юбилейных торжествах Павлу VI, который также получил приглашение и намеревался приехать. А ведь случись визит папы, Польша уже тогда прогремела бы на всю планету. Папство лишь начало открываться миру, и международные вояжи первосвященника были еще в новинку. Павел VI, который завел эту моду, до того успел посетить только Палестину, Индию и США. Окажись в этом ряду Польша, это весьма подняло бы международный авторитет страны. Уже была заготовлена знаменитая Золотая роза – дар, который понтифики преподносят избранным местам, святыням или людям. Павел VI хотел возложить ее к подножию образа Черной Мадонны – в знак особого почитания и в память о своей поездке на Ясну Гуру в 1923 году, когда он несколько месяцев работал в Варшаве под руководством Акилле Ратти. Польские власти не захотели рисковать, и папа остался в Риме, но разве под силу кому-то изменить предреченное на небесах? Золотую розу Павла VI спустя много лет доставил в Ченстохову папа-поляк Иоанн Павел II.
Как водится, массы увидели лишь вершину айсберга, да еще в таком виде, в каком это было выгодно власти. В действительности обращение к немецким братьям по вере составляло один из кирпичиков грандиозного здания, возводимого примасом. И пусть кирпичик этот в очах миллионов поляков выглядел сомнительно, в контексте всей постройки он превратился в замковый камень польско-немецких отношений новейшего времени. Этот шаг стал первым в череде других, направленных к взаимному примирению. Без него и без проходившего тогда же франко-немецкого сближения не было бы, пожалуй, единой Европы.
***А что же Войтыла? Как он повел себя в этой ситуации? 21 декабря 1965 года, спустя три дня после возвращения с собора, он встретился Вышиньским. Оба понимали, что власть будет стараться поссорить их, изобразив краковского архиепископа более умеренным деятелем, чем примас. Войтыла твердо считал: надо быть заодно374.
Насколько он был прав в своих подозрениях относительно уловок партии, сказать трудно. К тому времени местный Отдел по делам вероисповеданий уже не смотрел на него как на лояльного режиму церковника. Заведующий отделом (тот самый, что когда-то дал положительную характеристику на Войтылу) в том же году доносил в Варшаву: «Отказавшись от внешних атак на власть и государственные предписания, а также создавая видимость, будто он является позитивным епископом… архиеп. Войтыла через доверенных лиц убеждает духовенство и верующих, что его деятельность одобряется властями. На практике же… мы наблюдаем прямо противоположную деятельность архиеп. Войтылы. На конференциях, совещаниях… он так настраивает низовой клир, чтобы тот не следовал закону о регистрации, заключении договоров и подачи отчетов о деятельности пунктов катехизации, не вел инвентарных книг и не платил слишком высокие налоги. Кроме того, он совершенно не признает государственный надзор за духовными семинариями»375.
Двадцать второго декабря в одной из краковских газет Войтыла увидел открытое письмо к нему от работников фабрики соды, и у него сдали нервы. В тот же день он дал интервью, где отрицал, будто являлся соавтором «Обращения». А спустя два дня, в Рождественский сочельник, столкнувшись с противодействием цензуры, разослал по приходам краковской епархии свой ответ рабочим – пожалуй, самый гневный и раздраженный текст, который вышел из-под его пера за всю жизнь. Войтыла обвинил рабочих, подписавших письмо, что они не ознакомились как следует с «Обращением», и дальше перечислил те вещи, которые уже до того разъяснял епископат: что приглашение немецким иерархам рождено в атмосфере обновления церкви и выдержано в евангельском духе прощения врагов, что польская сторона не умолчала в своем тексте о винах немцев перед поляками, что никто не ставит под сомнение нынешние польские границы, и наконец, едва ли не единственный раз в жизни, Войтыла взялся защищать свое доброе имя: «Я отвечаю на это письмо прежде всего как оболганный человек. Оболганный потому, что меня публично оскорбили и опорочили, не пытаясь выяснить факты и подлинные мотивы».
Письмо все-таки опубликовали в одной из краковских газет, но лишь 13 января и с язвительным комментарием: мол, работники «Сольвея» «изумлены и разочарованы» таким поведением архиепископа. Интересно, что летом 1966 года, отмечая тысячелетие крещения Польши, Войтыле преподнесли альбом фотографий с воспоминаниями о нем его прежних коллег по работе в каменоломне и на фильтрационной станции, где не было ни слова о каком-то разочаровании и изумлении. Кто же тогда стоял за открытым письмом? Вопрос риторический.
Рождественскую мессу он отслужил в Нове Хуте, под открытым небом, затем провел тихую службу в домашней часовне, пригласив на нее старых знакомых с фабрики соды, а в последующие дни выступал с проповедями в краковских храмах, где не упускал случая разъяснить пришедшим смысл «Обращения» и всего того, что произошло на соборе376. 1 февраля 1966 года его, как и других епископов, вызвали для дачи объяснений в президиум горсовета. Войтыла, подобно сорока пяти собратьям по сану, не стал осуждать «Обращение»; напротив, заявил, что благодаря ему немцы впервые признали свою вину, и вообще письмо никакого отношения к политике не имеет, а что касается принадлежности западных территорий, то еще Иоанн XXIII назвал их «возвращенными», и польский епископат, разумеется, целиком разделяет такой подход377.
Как он воспринимал шумиху вокруг письма немецким епископам? Мы, возможно, никогда не узнали бы этого, если бы не вездесущесть польских спецслужб. Понятно, что во дворце архиепископа работала прослушка. И вот 9 февраля 1966 года там состоялась любопытная беседа: Кароль Войтыла обсудил пропагандистскую кампанию властей с друзьями из «Тыгодника повшехного» – Ежи Туровичем и ксендзом Адамом Бардецким. В начале беседы Войтыла заявил, что религия и марксизм несовместимы, коммунисты стремятся уничтожить веру на корню, и католикам ничего не остается как сопротивляться. Такое положение дел породило спрос на сарматскую этику, на возрождение идеалов «бастиона христианства» с его жертвенностью и борьбой. А поскольку за польскими марксистами стоит «Россия», которая, по мнению Войтылы, и вдохновила нападки на «Обращение», в народе растет протест против русских, подобно протесту против немцев при оккупации. Поэтому, при всем желании, в Польше нет подходящих условий для внедрения соборных реформ во всей полноте: вместо открытости к иным течениям мысли церковь вынуждена закрываться, чтобы уцелеть, а вместо персонализма на первый план выходит массовость.





