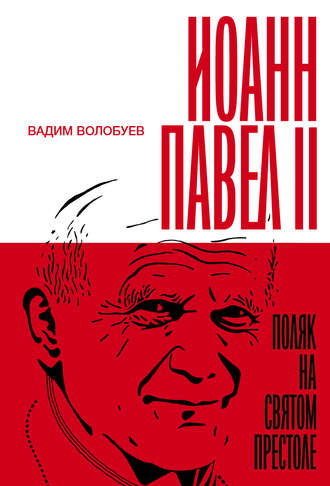
Полная версия
Иоанн Павел II: Поляк на Святом престоле
Спустя пять лет, в августе 1968 года, он посетит французское Тэзе, где встретится с основателем знаменитой экуменической общины братом Роже (Р. Л. Шюц-Марсошем) – швейцарским кальвинистом, создавшим особого рода монашеский орден, в рамках которого было возможно общение с католической церковью. Пройдет еще одиннадцать лет, и брат Роже скажет в базилике Святого Петра римскому папе Иоанну Павлу II: «Я обрел свою идентичность как христианин, примиряя в себе веру в мое происхождение с тайной католической веры, не нарушая общения с кем-либо»328. А спустя еще двадцать пять лет, когда этот подвижник падет от ножа сумасшедшей, погребальную церемонию будет вести католический кардинал в присутствии президента Германии и министра внутренних дел Франции. Так рождалась единая Европа – капризное дитя, которое еще добавит Иоанну Павлу II немало седых волос.
Профессор Свежавский предполагал, что Войтыла повлиял на содержание конституции «Lumen gentium» («Свет народам»), определявшей устройство церкви, права и обязанности ее членов. Именно этот документ обговаривал понятие «народа Божьего» и отмечал присутствие даров Христовых в других христианских церквях, хотя и подтверждал положение католицизма как единственной истинной веры329. Исследователь жизни Войтылы ксендз Адам Бонецкий отметил, кроме того, что его герой – единственный среди участников собора, кто обратился к присутствующим со словами: «Достопочтенные отцы, братья и сестры!», подчеркнув тем самым участие в церковной жизни женщин. Это произошло в связи с дискуссией об апостольстве мирян, то есть о возможности светских лиц нести слово Божье, как это делал, например, Тырановский.
Войтыла отстаивал и декларацию о религиозной свободе «Dignitatis humanae» («Достоинство человеческой личности»), вокруг которой ломались копья на протяжении всех сессий: консерваторы никак не хотели признавать равенство конфессий в тех странах, где католики составляли подавляющее большинство. В итоге собор признал вопрос вероисповедания делом совести каждого, но при этом включил в декларацию требование свободы деятельности церкви – очень важный момент для духовенства из социалистического лагеря, где религиозные культы подавлялись. Войтыла вместе с коллегами из социалистических стран (лодзинским епископом Клепачем и епископом Цетиной из Скопье) добился также изменения формулировки, гласившей, что религиозные свободы могут быть ограничены соображениями общественного порядка, – это был постоянный аргумент польских властей при запрете тех или иных мероприятий церкви. Кроме того, он требовал, чтобы декларация исходила из нравственных, а не юридических норм, так как последние меняются, а первые – нет330.
Свои идеи краковский епископ излагал в соборных речах и записках, подаваемых в комиссии. Сам он, в отличие от целого ряда других прелатов из Польши, долгое время ни в одну комиссию не входил. Так продолжалось до четвертой, последней, сессии собора, когда Войтылу за его активность включили в группу по разработке пастырской конституции о положении церкви в современном мире «Gaudium et spes» («Радость и надежда»). Именно здесь он и сделал себе имя. Что интересно, в комиссию вошел и Конгар, который в ходе ее работы совершенно изменил свое мнение о поляке: «Войтыла произвел прекрасное впечатление. У него доминирующая личность. В нем есть какая-то живость, магнетическая сила, пророческая мощь, полная покоя, которой невозможно противостоять»331.
По свидетельству Конгара, Войтыла с подачи своих товарищей по епископату особенно налегал на то, что конституция должна дать ответ на вызов марксизма как одной из главных атеистических идеологий, – тема, которую авторы предварительного текста не обсуждали вообще, предпочтя говорить о социальной справедливости. Правда, Войтыла оказался не самым радикальным критиком атеизма. Он хотя бы проводил различие между атеизмом как личным выбором и навязанной идеологией. Куда более воинственными оказались те иерархи, которые пострадали от коммунистических репрессий (словаки Гнилица и Русняк, украинец Слипый). Они требовали посвятить отдельный раздел конституции осуждению коммунизма, но не нашли в этом понимания даже у Вышиньского с Войтылой, назвавших такое предложение «политиканством»332.
Воспользовавшись перерывом в заседаниях, Войтыла привез из Кракова уже готовый проект конституции, но его, к возмущению автора, почти целиком зарубили, так как он оказался несовместим с написанным подготовительной комиссией, хотя и вызвал большой интерес, поскольку более четко определял место и роль церковного учения в мире общества потребления (на Западе) и директивного атеизма (на Востоке). Зато мнение Войтылы учли при обсуждении раздела о браке и семье. Здесь он пользовался поддержкой де Любака, который, как и краковский архиепископ, увлекался персонализмом333. Текст конституции был утвержден папой 7 декабря 1965 года.
***Дискуссии о христианском отношении к личной жизни сподвигли Войтылу написать еще одну пьесу на эту тему – «Сияние отцовства», этакое продолжение предыдущей. Но если «Пред магазином ювелира» касалась, так сказать, горизонтальной связи в семье (муж – жена), то эта обратилась к вертикальной (родители – дети). В «Сиянии отцовства» Войтыла усилил черты «стиля рапсодов»: герои теперь в принципе были лишены индивидуальности, представляя собой обобщенные типы – «отец», «мать», «дочь» (хотя каждый имел имя). При этом автор соотнес персонажей с главнейшими фигурами христианства – Христом и Богородицей, что позволило наглядно изобразить ключевую мысль: земная жизнь должна быть отражением небесной. Примерно так же в свое время строились средневековые мистерии, показывавшие сразу несколько уровней происходящего. Войтыла, зная это, тоже назвал свое творение «мистерией» и предпослал эпиграфом строки из Первого послания апостола Иоанна: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1 Ин 5: 7–8)334.
О каком-то сюжете в этом произведении говорить сложно. Вся пьеса – размышления персонажей, обращенные к себе, к Богу и друг к другу. Здесь опять, как и в предыдущем произведении, появлялся герой по имени Адам, но теперь это уже был не альтер эго автора, а обычный человек, делавший свой жизненный выбор: впустить в себя Христа (что влекло большую ответственность перед родом человеческим) или остаться независимым и одиноким. Адам склонился в пользу одиночества, тем самым объединившись с образом того самого, первого Адама, от которого пошли все люди. «И вот нас двое в истории каждого человека: я, от которого начинается и родится одиночество, и Он, в коем одиночество пропадает, и рождаются дети»335.
Однако такая судьба показалась Адаму невыносимой, и он удочерил маленькую девочку, Монику, общение с которой заставило его пересмотреть взгляды на жизнь. Получалось, что всякий человек, дабы зачать детей, сам для начала должен ощутить себя чадом Божиим. А поскольку Христос, принесший на землю любовь, тоже был Богом Сыном, то каждый истинный отец как бы отождествляет себя с Ним и становится в позицию Бога, породившего себя. Эта головоломная концепция понадобилась Войтыле для обоснования его воззрений на родительскую любовь как продолжение любви небесной.
Журнал «Знак», куда Войтыла, как обычно, отнес свое творение, внезапно отверг его, и тогда автор представил сокращенную версию под названием «Размышления об отцовстве»336. Получился этакий монолог, обращенный к Богу, напоминающий не то «Исповедь» Августина, не то молитву Иоанна Креста, но уже без богородичного мотива, который присутствовал в полном варианте.
Рокко Буттильоне, написавший книгу о философии Войтылы, предположил, что «Размышления об отцовстве» первоначально являлись частью пьесы «Пред магазином ювелира», но автор убрал ее оттуда, чтобы не нарушать конструкцию произведения. Догадка неверна, но исступленная молитва Адама в «Размышлениях» действительно подошла бы одноименному персонажу предыдущей пьесы: всякий человек – сын Божий, и если он отрекается от Создателя, то тем самым теряет отца и впадает в одиночество. В «Размышлениях об отцовстве» Адам вспоминал свое стремление уподобиться Богу и стать господином природы, с раскаянием отмечая, что путь человека – не в преобразовании мира, а в развитии его собственной личности, которая может проявиться лишь через отношение к другой личности. Таким образом преодолевалось чувство одиночества, которое (тут Войтыла безапелляционен) свойственно всем людям, особенно же атеистам. Человек отчаянно ищет опору в этом мире: одни находят спасение в присоединении к массам (коммунисты), другие – в Боге. Но лишь Христос, сливаясь через любовь с человеческой личностью, в силах избавить человека от извечного одиночества, давая ему возможность стать одновременно отцом и чадом337.
«Разве мог я стать сыном? Не захотел я им быть. Не захотел принять страдания, к которым неминуемо приводит риск любви. Я считал, что не вынесу его. Слишком пристально я всматривался в себя, в свое я, и видел одни лишь возможности. Явился Твой Сын, а я по-прежнему – общий знаменатель внутреннего одиночества человека. Твой Сын решился в него проникнуть. Потому что Он любит. Одиночество противостоит любви. Однако там, где кончается одиночество, любовь проявляет себя в страдании. Твой Сын страдал. Потому что во всех нас сидит общий знаменатель непреобразованного одиночества. Для Тебя, Отче, это одиночество противится тому простому смыслу, который вкладываешь ты в слово „мое“»338.
Здесь в зародыше видна та мысль, которая потом оформится в призыв: «Не бойтесь!», ставший одним из лозунгов понтификата Войтылы. Не бойтесь открыться Христу – не страдания Он несет, но любовь. И здесь же, кажется, невольно прорывается скрытая тоска самого Войтылы по заповеданному для него отцовству.
***За литературными и богословскими занятиями Войтыла не забывал и о польских делах. В мае 1963 года, между первой и второй сессиями собора, он открыл на Вавеле памятную табличку в честь Адама Хмелёвского и Юзефа Калиновского – двух повстанцев, чье участие в восстании столетней давности, по его словам, «явилось этапом на пути к святости». А вернувшись в Рим, подал в Священную конгрегацию обрядов петицию за подписями всех польских епископов с просьбой канонизировать брата Альберта339. Чуть позже поднял в Ватикане вопрос о канонизации Фаустины Ковальской и королевы Ядвиги – жены Владислава Ягайло.
Эпизод с открытием таблички – один из кусочков большой мозаики настроений, связанных с юбилеем восстания 1863 года. Годовщина явилась поводом для острой полемики в Польше между прагматиками из «Знака» и наследниками романтической традиции в церкви и в партии. В полемике этой, внешне имевшей чисто исторический характер, слышались актуальные политические нотки. В марте 1963 года Станислав Стомма на страницах «Тыгодника повшехного» резко прошелся по восстанию и его зачинщикам, заявив, что все эти восстания – бессмысленное пролитие крови и ничего больше. Каждый, кто читал эти строки, понимал, что депутат клеймит не столько давно почивших бунтарей, сколько тех, кто восторгался подвигом варшавских повстанцев 1944 года. Тем самым Стомма опосредованно защищал линию движения «Знак» с его неукоснительным следованием «реальной политике» и заигрыванием с партией – то, чего не могли простить «новым позитивистам» разного рода враги социалистического строя, особенно в эмиграции. Подобный взгляд на историю, между прочим, отразился в те годы и на польском кино, где Анджей Вайда и Анджей Мунк сняли несколько фильмов, разоблачавших безудержно патриотический взгляд на прошлое («Канал», «Летна», «Пепел», «Эроика», «Шесть превращений Яна Пищика»). По совпадению, схожие мысли проповедовал за рубежом и знаменитый писатель-эмигрант Витольд Гомбрович, высмеивавший штампы польского сознания (например, в «Трансатлантике»). Противоположную позицию занимал Вышиньский, который произнес 27 января 1963 года в варшавском костеле Святого Креста пламенную проповедь в честь борцов за свободу, закончив ее громогласным «Gloria victis!» («Слава побежденным!»). По иронии судьбы единомышленником примаса в этом вопросе оказался идеолог патриотического течения в партии писатель Збигнев Залусский, который годом раньше выпустил громкую книгу «Семь главных польских грехов», где брался защищать национальную традицию от нападок «очернителей». Войтыла, как видим, оказался в этом споре ближе к романтикам, чем к позитивистам340.
***Второй Ватиканский собор – место возрождения старых связей и завязывания новых знакомств. Именно здесь краковский епископ узнал многих из тех, кого он позже сделает кардиналами или наоборот, подвергнет проверке на ортодоксальность веры. В Риме Войтыла снова встретил своего научного руководителя Гарригу-Лагранжа, который выступал экспертом на соборе – одним из трех десятков, приглашенных папой. Довелось Войтыле пересечься и с товарищем по краковской семинарии Анджеем Дескуром – тот успел сделать солидную карьеру в Ватикане, получив должность в папской комиссии по вопросам СМИ. Но самая удивительная встреча произошла у него, собственно, не в рамках собора, а частным порядком – в Польский институт внезапно позвонил друг детства Ежи Клюгер! Оказалось, он уже восемь лет жил в Риме и занимался доставкой и наладкой транспортных средств. О Войтыле услышал случайно: прочел в газете о некоем епископе из Польши со знакомой фамилией и решил проверить, не тот ли это Войтыла, с которым они ходили по Бескидам. Кроме Клюгера, Войтыла встретил и другого знакомого по гимназии – Здислава Бернася, тоже ветерана битвы при Монте-Кассино, который после войны осел в Эболи, где работал дантистом. Еще один свидетель этой битвы, главный капеллан польской эмиграции Юзеф Гавлина, в ночь перед сражением служивший мессу в палатке-часовне, скончался как раз во время собора, в сентябре 1964 года. Его похороны превратились в настоящий слет польской эмиграции. Прибыли на церемонию прощания и участники собора из Польши. Обряд утверждения в должности сменщика Гавлины Владислава Рубина (еще одного выходца с кресов!) в римской церкви святого Станислава провел Кароль Войтыла – краковские ординарии традиционно считались опекунами этого храма341.
Не забыл Войтыла и отца Пио. Правда, на этот раз обратиться к монаху заставила беда. Уже много лет он дружил с психиатром Вандой Пултавской – бывшей узницей концлагеря Равенсбрюк, которая посвятила жизнь изучению семейной психологии. Как и Войтыла, яростная противница абортов, Пултавская с конца сороковых вращалась в одном с ним кругу: хорошо знала некоторых деятелей «Знака», водила знакомство с профессорами Ингарденом и Свежавским, переписывалась с ксендзом Тадеушем Федоровичем, которого власти рассматривали наравне с Войтылой в преемники краковского архиепископа Базяка. Федорович окормлял приют для слепых под Варшавой, а прежде был священником в одной львовской семинарии, перенесенной в Кальварию Зебжидовскую (он сам происходил из Львова и пережил казахстанскую ссылку, будучи дважды арестован НКВД). Видимо, в Кальварии он и сошелся с Войтылой, которого посоветовал Пултавской в качестве духовного наставника.
Их обоих, Войтылу и Пултавскую, занимал тогда один и тот же вопрос: что такое человек? Войтыла как раз начал вести курсы для молодежи в приходе святого Флориана, и Пултавская легко влилась в Сообщество. Но если прочие члены кружка называли ксендза дядей, то для нее он стал братом. Войтыла состоял в постоянной переписке с Пултавской и ее мужем. «Думаю, что самое потрясающее – это тот „личный“ контакт, который есть у Господа Бога со столькими созданиями, – писал он им по дороге на собор. – Личный – то есть контакт одной личности с другой. В человеческих отношениях это возможно лишь в малой доле, но даже и так человек с трудом извлекает из этого все личное содержание»342. Голос Хуана де ла Круса слышится в этих строках!
Едва открылись заседания, Войтылу настигло страшное известие от «сестры» – у нее острые боли, врачи подозревают рак. Ему первому она призналась в этом (даже муж еще был не в курсе). Новость застала его между первым и вторым выступлениями на соборе, в ноябре 1962 года. Войтыла отправил «сестре» ободряющее письмо, по которому мы, между прочим, можем увидеть, как он совмещал веру в провидение и веру в науку: «Обязанность бороться за жизнь и здоровье ни в чем не противоречит… тому, что мы поручаем себя Господу Богу… Если по воле Божией будут исчерпаны все средства, тогда нам останется лишь молиться, но до того – нет»343. И сразу же, не откладывая, он написал стигматику-капуцину: «Преподобный отец! Прошу вас помолиться за сорокалетнюю мать четырех дочерей из Кракова в Польше (во время последней войны она пять лет находилась в концентрационном лагере в Германии). Ныне она тяжко больна раком и может потерять жизнь. Пусть же Пресвятая Дева ходатайствует за нее пред Богом, дабы Он проявил милосердие к ней и ее семье». Уже на следующий день сотрудник государственного секретариата Ватикана доставил это письмо адресату и по просьбе самого монаха зачитал его вслух. Отец Пио якобы промолвил: «Ему нельзя отказать» (об этом поведал сам сотрудник много лет спустя, когда Войтыла стал папой римским).
Такое внимание к письму какого-то поляка не может не удивлять. Неужели апулийский стигматик помнил Войтылу? Тут возможны два ответа. Либо Войтыла уже раньше писал ему, но письма не сохранились (один такой случай известен), либо монаха что-то взволновало именно в данной просьбе. Что же? Известно, что в тот период отец Пио опять оказался на прицеле у ватиканских чиновников: посетившая его в 1961 году комиссия понтифика оставила крайне неблагоприятный отчет о деятельности монаха, вследствие чего были введены ограничения на его корреспонденцию и общение с духовными дочерями. И вдруг – письмо от епископа! Может быть, потому капуцин и велел сохранить эту переписку в Риме, а не оставил при себе?344
Двадцать второго ноября, накануне операции, вдруг обнаружилось, что язва Пултавской зарубцевалась. Врачи были поражены. Двадцать восьмого об этом узнал Войтыла, позвонив в Краков, и в тот же день отправил новое письмо отцу Пио: «Преподобный отец! Женщина из Кракова в Польше, мать четырех дочерей, 21 ноября, еще до хирургической операции, неожиданно выздоровела. Благодарение Богу! Также и тебя, преподобный отец, сердечно благодарю от собственного имени, а также от имени ее мужа и всей семьи»345.
Чудо? Но что нам точно известно о случившемся? Те, кто имел отношение к событиям, описывали произошедшее спустя несколько десятилетий, а мы уже на примере разговора Войтылы с Василием Сиротенко имели случай убедиться, насколько причудлива наша память. Единственное, что мы знаем наверняка, – это острый приступ некой болезни у Пултавской и два письма Войтылы к отцу Пио (обнаруженные в Риме уже в девяностые годы, когда Иоанн Павел II начал процесс его канонизации). Несомненно одно – внезапное выздоровление «сестры» послужило Войтыле лишним подтверждением святости апулийского монаха.
***Тем временем в Польше решалось, кто заменит покойного Базяка. Властям совсем не улыбалось получить во главе второй по значимости духовной кафедры воинствующего антикоммуниста. Они тщательно отслеживали все случаи нелояльных заявлений прелатов. Неоспоримым лидером по числу таких высказываний шел примас. За 1962 год, согласно данным Управления по делам вероисповеданий, Вышиньский позволил себе шестьдесят девять «враждебных» выступлений, в то время как шедший на втором месте секретарь епископата Хороманьский – лишь семнадцать346.
Главной задачей властей в таких обстоятельствах было провести на краковскую кафедру уступчивого иерарха, в идеале – оппонента примаса. Тут как нельзя кстати пришлось предложение депутата Стоммы поставить в Кракове Войтылу – об этом сам Стомма переговорил с Клишко. После того как Клишко дал согласие, дальнейшее оставалось делом техники. Вышиньский для порядка представил трех кандидатов, зная уже наверняка, что преемником Базяка станет Войтыла. Однако бюрократическая машина требовала соблюдать формальности, и даже такой могущественный человек, как Клишко, не мог отмахнуться от нее. Как полагается, правительство запросило мнение Управления по делам вероисповеданий и Административного отдела ЦК.
И там, и там о Войтыле отозвались достаточно холодно. Управление писало: «Его деятельность до сих пор не была в целом отмечена враждебными выступлениями. Он не ведет открытую борьбу с государственными органами. Пытается выглядеть епископом, стремящимся сохранять правильные отношения с государственными властями… Несмотря на это, его деятельность чрезвычайно вредна из‐за продвижения так называемого апостольства мирян, а также из‐за внутренней консолидации и усиления Церкви». Вместе с тем в Управлении отметили, что между Войтылой и Вышиньским имеются расхождения во взглядах: «Позиция открытого католицизма, продвигаемая епископом Войтылой, вызывает недоброжелательное, хотя не лишенное уважения, отношение Вышиньского к его личности»347.
Административный же отдел написал следующее: «Епископ Войтыла без остатка предан делу Церкви. Как хороший организатор и человек очень способный, он один из всех епископов, пожалуй, в состоянии сплотить не только курию и епархиальный клир, но и часть интеллигенции и католической молодежи, в среде которой пользуется большим авторитетом. В отличие от многих других пастырей в епархии, он умеет налаживать отношения с монашескими орденами, которых там множество. Несмотря на видимую покладистость и гибкость в общении с государственными властями, он является чрезвычайно опасным идеологическим противником».
Вообще этот отчет был полон противоречий, проистекавших из отчаянного стремления чиновников угадать желание начальства. С одной стороны, авторы писали, что государство заинтересовано в повышении роли краковской епархии, и что Войтыла как никто подходит для этого, с другой же, предлагалось отвергнуть его кандидатуру. Утверждалось, будто примас не хотел видеть на краковской кафедре человека, имеющего шансы стать кардиналом, и тут же говорилось, что он-то и продвигает Войтылу, на которого именно поэтому смотрит с опаской348. В точности по Стругацким: «Он, научный консультант, не видит особенных причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно протестовать против таковой»349.
На всякий случай запросили также мнение краковского отдела по делам вероисповеданий. Заведующий этим отделом Леон Круль в ноябре 1963 года сообщил: «Негативная характеристика кс. еп. Войтылы не превышает реакционной позиции кс. еп. Стробы и кс. Федоровича (двух других претендентов. – В. В.) в отношении государственных властей… Как лояльное властям духовенство, так и члены Каритаса видят в получении краковской ординарии еп. Стробой или кс. Федоровичем серьезную опасность для развития свободной общественно-прогрессивной мысли, реализации государственных предписаний и для взаимоотношений между государственной властью и церковной администрацией. Эти священники утверждают, что на этом участке при руководстве кс. еп. Войтылы нет таких резких мер к данному духовенству либо запутанных распоряжений, чтобы духовенство не могло из них вырваться». По традиции, Круль упирал и на конфликты внутри епископата. Ссылаясь на краковских ксендзов, он утверждал, что «кардинал Вышиньский едва терпит еп. Войтылу. Кардинал не в восторге от его деятельности, особенно от уступок государственным властям и от той самостоятельности, к которой стремится еп. Войтыла».
Для подкрепления этой информации краковский отдел спустя несколько дней отправил наверх донесение, где было сказано, что во время рукоположения одного из епископов в Кракове Войтыла «очень холодно принял кардинала Вышиньского, не поприветствовал его лично и не выказал ему надлежащего уважения». Видимо, чиновники уже поняли, чего хочет руководство, и начали слать угодные ему данные.
Войтыла, очевидно, догадывался, какие страсти бушуют вокруг него. Волновался. 14 декабря 1963 года, выбравшись в перерыве между заседаниями собора в Святую землю, он снова написал отцу Пио, прося молиться за его «скромную особу», оказавшуюся перед лицом больших трудностей в пастырской работе. Кроме того, он попросил капуцина вознести молитвы за здоровье некой парализованной женщины и заодно благодарил стигматика за участие в жизни сына какого-то адвоката из Кракова, который, как и Пултавская, теперь тоже чувствовал себя лучше350.
Святую землю Войтыла посетил не в одиночестве – туда отправилась целая делегация из нескольких десятков участников собора, как бы торя путь понтифику, который вскоре должен был последовать за ними (первый в новейшей истории международный визит римского папы). Возрождая исконную простоту церкви, слуги Господни спешили почерпнуть вдохновение в тех местах, где впервые прозвучало слово Мессии. Каир, Вифлеем, Иерусалим, Капернаум, Яффа, гора Фавор – маршрут поездки, напоминающей паломничество. В Наблусе Войтыла наконец-то увидел знаменитый колодец Иакова – место действия своей «Песни о блеске воды».





