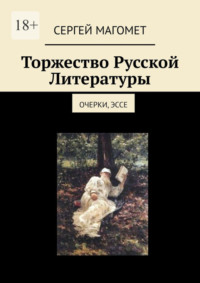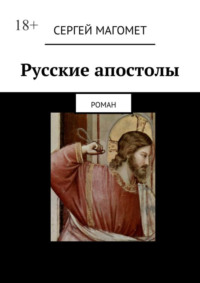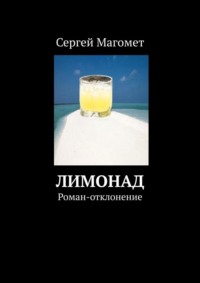Полная версия
Великий полдень. Роман
Я проснулся около полудня и первым делом взглянул в окно. Ни луны, ни солнца там уже не было. Все небо затянуло серой, непроницаемой пеленой. Стало быть, погода помягчела, мороз спал. О празднике теперь напоминал только шум в голове. Некоторое время я просто лежал и мечтал. Я пришел к выводу, что моя мечта – это, скорее всего, моя последняя мечта. Вернее, последняя надежда. Что-то вроде «и может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Правда, иногда мне казалось, что это лишь плод моего воображения, что оснований для надежд нет никаких… Потом мне подумалось о том, что да, я всегда заглядывался на красивых женщин, и не только на красивых, а некоторых из них даже очень желал. Я и Маму, пожалуй, если честно, желал до сих пор как женщину, и то, что теперь она была нашей лучшей подругой, даже придавало желанию особый аромат. Но, как это ни удивительно, я никогда не изменял Наташе, хотя бывали случаи, и довольно часто, когда я просто-таки рвался ей изменить, как будто эта измена должна была переменить мою жизнь. В кризисных ситуациях мысль об «улыбке прощальной» давно меня грела. Но, увы, в эти моменты, как известно, даже самые обаятельные мужчины почему-то начинают выглядеть нестерпимо убого, и даже наиболее изголодавшиеся женщины шарахаются от них как от зачумленных. В общем, не изменял я ей…
Наташа проснулась. Мы сидели в постели и рассматривали подарки. Дверь в смежную комнату была распахнута настежь: Александр проснулся значительно раньше нас и, конечно, убежал к детям.
– Ты только посмотри, какая прелесть! – говорила Наташа, вновь демонстрируя мне новые серьги и перстень с красными кораллами.
Она нежилась в постели, льнула ко мне, как самый близкий и самый родной человек. В такие моменты я страдал от душевной раздвоенности и особенно мучился сомнениями насчет «прощальной улыбки», а ведь с некоторых пор только в этой утешительной мысли я находил душевное успокоение.
– А что у тебя? – полюбопытствовала Наташа.
Я потянулся к брюкам, перекинутым через спинку стула, вынул из них палисандровую табакерку и протянул ее жене.
– Надо же, какая забавная табакерочка! – воскликнула Наташа. – Жалко, чтобы ты держал в нее свой табак! Из нее вышла бы чудесная шкатулка для всякой мелочи…
Я молча протянул ей табакерку.
– Что ты, что ты, – слабо запротестовала Наташа, – это же подарок! Мама меня за это отругает. Скажет, что я веду себя, как девчонка.
– Ничего, – благородно успокоил ее я. – Я привык к моей старой.
Если ей так нравится, пусть хранит свои ценности в табакерке. Женщины все равно что папуасы.
– А ко мне ты тоже привык, как к своей табакерке? – как бы между прочим осведомилась она, рассматривая табакерку.
Странный, все-таки у женщин ход мыслей! Вряд ли в ее вопросе заключались ревность или кокетство. Вряд ли ей вообще был нужен мой ответ. Не зная, что сказать, я поцеловал ее в щеку. Ей, я думаю, уже не терпелось лететь к Маме, чтобы излить благодарность и обсудить подарки. Подруги, конечно, обнимутся и начнут целоваться. Они и впрямь были как сестры.
Наташа попыталась открыть табакерку, но притертая крышка не поддавалась. Я терпеливо ждал. Сосредоточенно наморщив лоб, Наташа повертела коробочку в руках, а затем сунула ее мне.
– По-моему, я сегодня неплохо выгляжу, – сказала она, подходя к зеркалу.
Я открыл табакерку. Там, естественно, должно было быть пусто. Однако из табакерки вывалилась какая-то бумажка. Я механически развернул ее. Это оказалась записка.
«Я тебя люблю», – сообщалось в записке.
Меня обдало жаром. Я зажал записку в кулаке.
И ведь что существенно, это была моя собственная записочка!.. Да-да, именно моя! Вот когда я действительно раскаялся… ... На предновогоднем балу в Москве в момент всеобщей сутолоки и столпотворения среди маскарадных зайчиков, белочек, незнакомок в дымчатых вуальках, испанских грандов в перьях и русских гусар в шпорах и с аксельбантами я незаметно сунул записку в сумочку Майе. Но я не сомневался, что у нее не было никакой возможности вычислить, кто это сделал. Это мог быть кто угодно. Например, кто-нибудь из детей. Кто‑нибудь из гостей. Господи, да кто угодно… Глупее ничего нельзя было придумать, но, ободренный мыслью о безнаказанности, я сделал это. Зачем, спрашивается? Я ни на что не надеялся. На что мне было надеяться? Это абсолютно ничего не меняло и ничего не решало. Поступок тихопомешанного, безобидного идиота. Что-то вроде старомодного послания к прекрасной, но вымышленной даме сердца. Эдакое обращение в пустоту, в вакуум. Просто в космос. К Господу Богу… Но вот, однако, из этих призрачных сфер пришел ответ. И все обрело четкие материальные контуры. Я, что называется, «засветился». Другое дело, что означал этот ответ, это возвращение мне моей же собственной записки… Меня вычислили. Ощущение было приблизительно такое, как во сне, когда вдруг оказываешься на публике без штанов… Как теперь насчет ощущения счастья, а?
– Ну, что Серж? – послышался голос Наташи.
Я рассеянно посмотрел на жену. Любуясь сережками, она поворачивалась к зеркалу то одним, то другим ухом. Я не сразу сообразил, что она имеет в виду табакерку. Я протянул ее ей, а записку, естественно, зажал в кулаке.
Итак, мечта, которую я никогда не формулировал буквально, теперь предстала предо мной, так сказать, во всей своей незамысловатой наготе. Теперь уж не удастся тешить себя ею как неопределенной фантазией. Я представил себе ситуацию лаконично и просто – в ее счастливом логическом завершении: Майя прочла записку, ответила взаимностью, мы живем душа в душу в ее чудесных московских апартаментах в Западном Луче, и я вновь погружен в свой новый проект…
Наташин голос вернул меня на землю.
– С виду никогда не подумаешь, что это табакерка. Шкатулка и шкатулка. Кто их вообще сейчас видел – эти табакерки? Это ты, Серж, с такими странностями: табак нюхаешь! Между нами, посторонние могут решить, что ты чего другое нюхаешь. Да и нос от этого как краснеет. Лучше бы уж трубку курил, как доктор. Это тебе гораздо больше пойдет.
– Но дым противный, а табак ароматный, – возразил я. – Нюхать табак совсем другое дело. Прекрасный запах, особенно после обеда.
– Если бы ты себя со стороны видел. И еще эта твоя вечная блаженная улыбочка. Представь себе, даже Альга это заметила, а она свежий человек…
– Что она заметила? – удивился я.
– Твою улыбку. Она сказала: «Какая у него всегда хорошая улыбка».
– Вот видишь. У меня хорошая улыбка.
– Что видишь? Не могла же она сказать впрямую. Вот и выразилась поделикатнее – «хорошая».
– Почему? —снова не понял я.
– Ну вот, опять строишь из себя блаженного, – сказала Наташа, теряя терпение. – А может быть, всех презираешь?
– Что, что?! – изумился я.
– Такая у тебя по крайней мере улыбка. Как будто ты погружен в обдумывание очередного эпохального проекта, а все остальные только зря коптят землю.
– Ничего подобного!
– Конечно, у тебя все обыватели, и ты их презираешь.
Я их презираю! Какая чушь! Можно ли было придумать что-нибудь более несусветное?.. Но в этот момент я почувствовал зажатые в кулаке «я тебя люблю», и надобность что-либо объяснять или доказывать сразу отпала. Я поднялся с постели и начал одеваться, а с женой решил действовать методом простого переключения внимания.
– Действительно, – сказал я, – табакерка скорее похожа изящную шкатулку. Что если использовать ее для твоих новых серег и перстня?
– А брошка? – тут же подхватила Наташа. – Она же в нее не влезет. Ты уж лучше не вмешивайся, Серж. Когда ты начинаешь во все вмешиваться, пропадает всякое настроение. Лучше уж витай себе в облаках, философствуй, мечтай о своем.
Если бы она знала, о чем именно я мечтал!..
После позднего завтрака в обществе Наташи, Мамы, Папы, горбатого доктора, батюшки Алексея с попадьей, профессора Белокурова, Наума Голицына, а также наших старичков (остальные либо еще спали, либо уже позавтракали) я уединился в зимней оранжерее под волосатой пальмой и сквозь заиндевевшие стекла смотрел, как на улице падает редкий снег.
Глупую записку я уже успел порвать и зарыть в искусственный грунт под пальмой. Меня слегка знобило. Мне нужно было решить один важный вопрос. Что означало возвращение «я тебя люблю»? Господи, как я жалел о своем легкомысленном поступке! Кого я хотел обмануть?! Черт меня дернул, не иначе.
Это действительно был верх глупости. Мне хотелось всего лишь взглянуть на ее реакцию, когда она раскроет сумочку и увидит записку. Но сумочку она при мне так и не раскрыла, а немного погодя и вовсе явилась без сумочки. В общем, я был в полной уверенности, что история с запиской никакого продолжения иметь не будет. Когда кортеж направлялся за город, я не заметил в поведении девушки абсолютно ничего, что указывало бы на то, что я раскрыт. Ну да, она ведь дала мне это понять, вернув записку… Мне вполне было достаточно одной мечты. Так по крайней мере мне казалось. А теперь нужно было ожидать продолжения…
Записка возвращена. Что дальше? Разве непонятно? Старый ты дурак, Серж, вот что дальше… Почему это я старый? Дурак, может быть, но не такой уж и старый, а в самом, что называется, соку. Всего-то тридцать девять лет. По театральным меркам могу еще и Гамлета играть, и Дон Жуана. И бедолагу Поприщина. Вот уж точно моя роль… Стоп, стоп! Прежде всего надо истолковать происшедшее. Она вернула мне записку, а это может означать одно из двух: либо «вот тебе твоя дурацкая записка и будем считать, что ты не делал этой глупости», либо возвращенная записка это оригинальное ответное послание, содержание которого нужно понимать буквально «я тебя люблю», т.е. тоже люблю… Прямо скажем, два диаметрально противоположных варианта… А что если она кому-нибудь об этом расскажет?
Дальнейшие мои размышления были прерваны, иначе, я бы додумался еще и не до того.
– Серж, ты идешь на лыжах? – послышался бодрый и свежий голосок Майи. – Снег прекрасный.
Я так и подскочил с плетеного кресла-качалки. Майя и Альга появились под ручки в дверях оранжереи, в облегающих лыжных костюмах и пестрых кепочках. Солнце и Луна. Чтобы попасть во флигель, где хранился лыжный инвентарь, нужно было пройти через оранжерею.
– А кто идет? – пробормотал я.
– Разве тебе еще кто-то нужен? – дружно рассмеялись девушки.
– Мы все идем, – сказала появившаяся следом за ними Мама.
– Пожалуйста, побыстрее переодевайся, – добавила шедшая за Мамой Наташа.
– Иду, – сказал я.
– Я бы тоже пошел, – сказал оказавшийся тут же дядя Володя, – но ребятишки что-то забастовали, хотят остаться дома. Присмотрю за ними.
– Да уж, Володенька, – сказала Мама, – присмотри.
Возвращаясь в нашу комнату, я столкнулся в коридоре с Александром.
– Неженка, – обхватив его за плечи, сказал я, – давай-ка с нами на лыжах!
– Нет, папочка, – серьезно ответил мальчик, – у нас дела. Я только зашел за Братцем Кроликом. Мы останемся дома.
– Ну и зря. На улице потеплело, и, говорят, снег прекрасный.
– У нас дела, папочка, – повторил он.
Дела так дела, я спорить не стал, быстро натянул лыжный костюм и побежал догонять компанию, но наткнулся на Папу, который придирчиво осматривал свои ботинки, лыжи и крепления.
– Кстати, – промолвил он, – зайди после обеда ко мне. Есть разговор.
– Какой разговор?
– Об этом после обеда.
– Ну хорошо, – кивнул я.
Мы отправились на горку.
Папа всегда дружил со спортом. У себя в Деревне он первым делом заложил крытый теннисный корт, атлетический зал с сауной и бассейн. Потом вблизи Москва-реки разбили площадку для городков, а также насыпали крутой холм с изощренной трассой для горных лыж и построили удобный подъемник. Вкупе с хорошо организованной рыбалкой и охотой это входило в добротный джентльменский набор развлечений – летних и зимних. Мама от него не отставала: прекрасно стояла на лыжах, метко стреляла и умело управлялась с удочкой, а в чем-то даже опережала Папу, например, по собственному почину занялась верховой ездой, гольфом и дельтапланеризмом. Старалась приобщить детей и нас с Наташей.
Под горкой чинно прогуливались наши старички. Тут же стоял стол с кипящим самоваром. Мы с Папой улыбнулись, глядя, как вдовый дедушка Филипп вливает в горячий чай ямайский ром и бойко ухаживает за старушками.
– Может, попробуешь на лыжах, батя? – предложил Папа родителю.
– И попробую, – запетушился старичок. – Думаешь, Папа, ты один у нас такой крутой?
Я вспрыгнул на подножку проплывающего мимо подъемника и поехал вверх. Мимо по склону пронеслись на лыжах Майя и Альга, а за ними «медсестра» и даже горбатый доктор с трубкой в зубах. Наташа уже была внизу у самой реки и сигналила мне поднятыми скрещенными палками. Как жаль, что дети остались дома!
Пока я поднимался на гору, мне пришло в голову, что если Майя вдруг заведет со мной разговор о записке или, того больше, начнет подтрунивать надо мной в присутствии Альги я легко смогу обернуть все в шутку. Разве такая прекрасная девушка не достойна всяческой любви? Достойна. Вот, значит, желая поинтриговать, я и констатировал эту очевидность на правах старинного знакомого, который ее еще ребенком на руках носил и т.д. и т.п. Однако, все, в том числе Майя, были увлечены лишь спусками и подъемами. Лишь Папа, как обычно, то и дело отъезжал в сторонку, брал из рук прохлаждавшегося под елкой человека мобильный телефон и вел свои всегдашние переговоры. Старички, естественно, наблюдали. Я поглядывал в сторону девушек, но те обращали на меня внимание лишь тогда, когда мне случалось кубарем катится вниз, да и то не всегда. Примерно через час я изрядно вывалялся в снегу, устал и уже посматривал на стол с закусками. Внизу, под горой, Майя оказалась рядом. Она легко вспрыгнула на сидение подъемника, а я, забыв про усталость, машинально скакнул на следующее.
Мы медленно потащились вверх, болтая ногами с лыжи, и, улыбаясь, смотрели друг другу в глаза. Взгляд ее показался мне таким спокойным, приветливым и естественным, полным хрустальной голубизны, что случай с запиской стал казаться вообще не существовавшим. Жаль, что я порвал записку. Можно было бы снова подсунуть ее. Например, вложить в рукавицу. Это было бы забавно – своеобразная игра‑диалог.
Но когда мы вдвоем оказались на вершине холма, играть во что бы то ни было мне расхотелось. Мы уже не смотрели друг другу в глаза. Мы молчали. И улыбка на ее губах едва-едва виднелась. Я чувствовал, что между нами что-то происходит. Возможно, это только мне так казалось. Но девушка почему-то медлила съезжать с горы.
– Теперь у тебя в Москве собственные апартаменты, – сказал я, лишь бы не молчать.
Она пожала плечами. Потом сняла кепочку и, встряхнув белокурыми волосами, снова надела.
– Можно зайти к тебе в гости? – спросил я.
– Конечно, – почти с удивлением ответила она.
– Прямо завтра?
– Да, – выдохнула она и, оттолкнувшись палками, полетела вниз.
– Как самочувствие? – поинтересовался у меня доктор. Он выгрузился на вершину холма с подругой «медсестрой», которая тут же полетела следом за Майей.
– Кажется, пора сушить лыжи, – сказал я, взяв понюшку табаку. – Разве за ними угонишься.
– А ну попробуем! – предложил доктор, выпуская из трубки пышные клубы табачного дыма, и задористо подтолкнул меня плечом.
Хороший мужик наш доктор, подумалось мне, и мы вместе погнались за девушками.
Девушек мы не догнали, но зато подрулили к столу, где как раз появился свежий самовар и блюдо с горячими булками.
Доктор взял меня за руку.
– Прекрасный пульс, – сказал он. – Как насчет чая с ромом?
– Поменьше чая, побольше рома! – улыбнулся я.
Доктор тоже улыбнулся.
Тут я вспомнил, что жена говорила о моем обыкновении к месту и не к месту улыбаться, и решил следить за собой, чтобы улыбаться не так часто, дабы, чего доброго, и в самом деле не производить на людей соответствующего впечатления.
Мы воткнули в снег лыжи и палки и взяли чашки с чаем. Прихлебывая, мы смотрели на Папу, который в очередной раз вел переговоры по своему мобильному телефону.
– По-моему, наш Папа становится немного мизантропом, – ни с того, ни с сего сказал доктор. – Как-то неадекватно себя ведет.
– Значит, и ты заметил, доктор? – покачал я головой.
– Как же тут не заметить. Портится у него характеришка, портится.
– Специфика работы. Ничего не поделаешь.
– Почему же не поделаешь? – оживился доктор. – Во всякой области есть свои специалисты.
И к чему он это сказал, удивился я про себя. Что за странная фраза? Мне сделалось как-то неловко, и, не зная, что сказать, я стал смущенно отламывать от булочки кусочки и кидать их в рот.
– Говорят, с ним вообще стало очень трудно договариваться, – продолжал доктор. – Эдак он нам всем жизнь осложнит.
Я все еще не понимал, к чему он клонит.
– Может быть, у тебя другое мнение? – спросил доктор.
Я не знал, что сказать.
– Говорят, он устраивает для нее, – указал он бородой в сторону Альги, – особые апартаменты на самом пике Москвы. Ты не знал? Да-да, специально для нее, для Альги!
– Нет, не знал, – пробормотал я. – И что с того?
– Нет, конечно, ничего особенного. Только за Маму обидно. Нехорошо. Она такая добрая, заботливая, человечная. Столько для всех нас сделала. Мы ее все любим, верно?
– Ну так ты скажи ему об этом, – предложил я. – Покритикуй. Постыди, что ли.
– Сам критикуй, – усмехнулся доктор. – И стыди.
– Кажется, у него это не впервые, – пожал я плечами. – Я имею в виду его прежние увлечения, – и простодушно добавил, – тебе-то, кажется, не трудно его понять
Доктор от души расхохотался.
– Ну, – проговорил он, давясь смехом, – если говорить обо мне, то я, как тебе известно, общаюсь лишь медсестрами. К тому же не обманываю Маму.
– Что же, ему тоже только с медсестрами общаться?
Доктор развеселился еще пуще, но потом в одну секунду посерьезнел. Он взял меня под руку и отвел подальше от стола, вокруг которого стали собираться наши старички.
– Знаешь, – уже совершенно серьезно продолжал он, – некоторые самолюбивые мужчины, достигая определенного возраста и положения, иногда склонны, что называется, зацикливаться на особого рода сверхценных идеях.
– Каких еще идеях? – все больше удивляясь обороту нашего разговора, воскликнул я.
– Господи, Серж, ты настоящий ребенок. Ну конечно, ты весь в своих эпохальных проектах, вынашиваешь разумное, доброе, вечное…
– Ничего я не вынашиваю.
– Как не вынашиваешь? Конечно, вынашиваешь. Того и гляди снова удивишь нас чем-нибудь грандиозным. Тебе, конечно, невдомек, о чем я толкую.
–Что-то я никак тебя не пойму, доктор.
– Ну как же, – даже загорячился он, – это явление довольно распространенное. Достигая определенной высоты, люди вдруг ловят себя на мысли, а не сменить ли полностью прежнее все окружение, образ жизни, даже жену.
– Мне кажется, – искренне вздохнул я, – у каждого мужчины время от времени возникают подобные мысли.
– Да что ты! Вот бы никогда не подумал… – доктор выплеснул остатки чая на снег и пошел поставить чашку на стол. – Но Папа все-таки – совсем другое дело, – сказал он, вернувшись.
– Так ты думаешь, он хочет оставить Маму? – тупо спросил я.
– Это бы еще полбеды. Как говорится, есть мнение, что, двигаясь в этом направлении, Папа способен и на более радикальные шаги.
– То есть?
– То есть вообще сменить караул. Поэтому он теперь и приглядывается не только к своим сотрудникам, но и ко всем нам: кого оставить, а кого, так сказать, за борт… Но, скорее всего – всех за борт. Конечно, и себе навредит этим. И не просто навредит – может все потерять. Но уж если его понесло в этом направлении…
– Я и не знал, что ты такой изощренный аналитик.
Кажется, я понял, что имел в виду доктор, но к чему он все-таки вел, для чего говорил все это именно мне?
– Я говорю лишь о том, что лежит на поверхности, – махнул рукой доктор. – Другие смотрят гораздо глубже.
– Другие? Какие другие? Куда смотрят?
Он неопределенно покачал головой.
– Вообще люди. Люди, которые смотрят в будущее.
– А-а… – протянул я.
– Кстати, мой милый, тебе известно, кто такая эта Альга? – неожиданно спросил он.
– Как это кто? Подруга нашей Майи.
Доктор притянул меня к себе и, словно сообщая большую тайну, прошептал:
– Представь себе, Серж, что нет. То есть она, может быть, и подруга, но не только. Альга – та самая женщина, чье появление не случайно. Именно она должна подтолкнуть Папу к фатальному решению. В этом и заключается ее миссия. Все тщательно спланировано. Понял теперь?
– А Папа в курсе? – тоже шепотом спросил я.
– Конечно. В том-то и проблема, что он все знает и все понимает. И сознательно идет на это. Может быть, это ему даже нравится. Ощущение охоты, опасности. Притом такая чудесная девушка. Он принял эту игру, захвачен ее азартом. Прямо-таки камикадзе какой-то… Поэтому, – тут он нацелил в пространство указательный палец, а большим и средним пальцами произвел щелчок, – у него могут выйти очень большие неприятности. Причем в самый не подходящий для всех нас момент.
– И Мама знает?
–Конечно. Все знают.
– А я не знал…
– Так то ты!
– Надо же, – пробормотал я, – такая милая девушка…
– О да, конечно, милая! Очень милая. Просто великолепная девушка.
Я оторопело уставился на него, а он похлопал меня по плечу и со словами «Да, дружок, просто великолепная девушка» подхватил лыжи и направился к подъемнику.
– Подожди, доктор, – нагнал я его. – Твое какое мнение? Какой из всего этого следует вывод?
– Относительно чего?
– Относительно этого самого? – Я щелкнул пальцами, повторив его жест.
– Очень простой вывод, Серж, – хмыкнул доктор. – Если этому суждено случиться, то пусть по крайней мере это произойдет в наиболее подходящий момент.
– В наиболее подходящий момент? – изумился я, оторопело глядя на него. – Для кого подходящий?
– Для всех нас, – лаконично сказал доктор, подсаживаясь на сиденье подъемника вслед за своей разрумянившейся от морозца медсестрой.
В голове моей было пусто, словно в орехе, в котором усохла сердцевина. Я чувствовал себя полным дураком. Потом я вспомнил, что после обеда Папа хотел со мной поговорить, и решил немедленно рассказать ему о моем разговоре с доктором. Странный и грязновато двусмысленный вышел разговор у нас с доктором. Странным был намек на некий «подходящий момент». Более чем странным – жест со щелчком. Но особенно неприятный осадок остался у меня из-за двусмысленности моей собственной позиции. Выходило так, что я как бы согласился со всем, что говорил доктор, хотя, на самом деле, говорил он явно что-то не то. Мне не хотелось влезать в интриги, которые, словно змеи, вились вокруг Папы и от яда которых, страдал не он один – главным образом, доброжелатели, желающие извлечь из этого дела выгоду. Если бы я услышал подобное от кого другого, тогда понятно. Но наш добрый горбатый доктор!
В самой ситуации не было ничего сверхъестественного. Время от времени предпринимались попытки вырыть для Папы яму поглубже. Различными способами. Одних покушений на него было совершено сотни три, не меньше. Но, честно говоря, у меня никогда не было оснований беспокоиться за Папу, так как у него имелись свои меры противодействия. И весьма эффективные – Папины недруги несли потери, которые не трудно вычислить, исходя из простого закона равенства сил действия и противодействия. Не стану утверждать, что Папа брел по колено в крови, но по щиколотку – это точно. У меня и в мыслях не было морализировать по этому поводу. Куда более скромные капиталы заляпаны грязью и кровью – вольно или невольно, фигурально или буквально. Я не так уж витаю в облаках. Кое-что понимаю.
– Я устала и замерзла, – подъехала ко мне Наташа.
– Выпей чаю с ромом.
– Скоро обед, а мне еще нужно привести себя в порядок.
Я покорно поднял на плечо ее лыжи, а свои взял под мышку, и мы направились к дому.
– Тебе тоже известно насчет миссии Альги? – вполголоса спросил я у жены, желая удостовериться, действительно ли все, кроме меня, уже в курсе ситуации.
– Само собой, – кивнула Наташа.
– А как же Мама? Что она?
– Проснулся! – усмехнулась жена. – С каких это пор тебя стали интересовать чужие романы?
– Доктор говорит, что Папа себя не контролирует, и дело может кончится плохо.
– Очень умный наш доктор! Впрочем, вы, мужчины, никогда не в состоянии себя контролировать. Поэтому,– насмешливо прибавила Наташа, – о том, чтобы вы себя контролировали, приходится заботится нам, женщинам.
Мне трудно было что либо возразить. Да и ни к чему. В представлении моей жены человечество распалось на две антагонистические половины: «вы мужчины» и «мы женщины». Тут, безусловно, прослеживалось влияние Мамы, которая с некоторых пор помогала ей «наверстывать упущенное», чтобы «пожить немножко для себя». Теперь у Наташи постоянно проскальзывали оговорки, вроде «нам женщинам» или «мне как женщине». Психоанализ толкует подобные оговорки однозначно. Это оговорки женщин, у которых есть серьезные сомнения в собственной женственности. Это все равно, как если бы я навязчиво твердил: «я мужчина» или «мне как мужчине». Увы, в таких случаях выводы психоанализа ими (то есть женщинами) упорно игнорируются – что, в свою очередь, лишь подтверждает выводы, относительно женской психологии… Ну да Бог с ней совсем, с психологией.