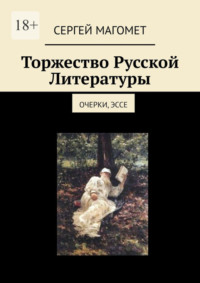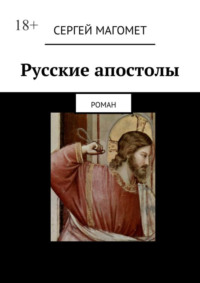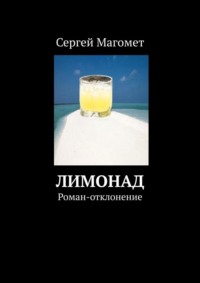Полная версия
Великий полдень. Роман
– Зато какой красавец был, – вздохнула мать. – И почти даром.
– Не спорю, красавец, – добродушно согласился отец. – Но можете себе представить – совершенно пустая комната— и этот красавец‑шкаф!
– Зато в зеркале отражалось заходящее солнце! – снова вмешалась мать. – Казалось, в комнате два окна, одно напротив другого, и в каждом пылает по закату. Два заката одновременно, красота неописуемая! А когда в праздники начинался салют, вся комната наполнялась сверкающими огненными шарами…
– А главное, – посмеиваясь, продолжал отец, – поскольку, как я уже сказал, кровати у нас еще не было, а спать на полу было холодно, мы расстилали матрас шкафу. Благо шкаф был чрезвычайно широкий и длинный. Так и провели медовый месяц. И ведь не боялись свалиться!.. А когда родился Серж, ему это как-то передалось. Совсем малышом, просился на шкаф, мы подсаживали его, и там, под потолком, среди узлов и чемоданов он устраивал себе «город». Уже тогда обожал экспериментировать со всякими архитектурными сооружениями. Иногда просил, чтобы ему и еду туда подавали.
– Вот видишь, – сказала мать, – может быть, благодаря этому шкафу он и сделался архитектором.
– Ну, – возразил отец, – шкафы и у других были.
– У нас был точно такой шкаф, – вспомнил дедушка Коля, отец Мамы, хлопнув себя ладонью по лбу.
– Тем более, – убежденно сказала моя мать. – Значит, это у Сержа настоящий Божий дар… Правда, батюшка? – обратилась она за поддержкой к о. Алексею.
– Иначе и быть не может, – авторитетно кивнул тот. – Божий дар.
Что касается меня, то я в этом не сомневался. Гениальная идея Москвы посетила меня непосредственно после того, как я окрестился. И крестил меня наш о. Алексей. Факт остается фактом. Помню, как на волне очередного интереса к религии я перечитал Новый Завет. Под впечатлением финала Апокалипсиса с его Новым лучезарным Градом меня и озарило. Мои градостроительные идеи, до этого разбросанные и противоречивые, сложились в единый проект…
Кстати, сам о. Алексей, тоже наш старый знакомый, когда‑то был рядовым инженером. Потом вдруг одухотворился, воцерковился, бросил науку и стал прислуживать в храме. Прихожанами и тамошним батюшкой сразу было замечено, что он светоносен и благолепен. У него сделались широкие скулы, разлопатилась борода. Его произвели в диаконы. Он закончил духовную академию, был рукоположен в сан священника и по просьбе Папы стал служить в нашей домовой церкви. Потом меня еще довольно долго удивляло превращение скромного инженера в серьезного и строгого батюшку…
– Погодите, погодите! У нас действительно был такой шкаф, – пробормотала бабушка Маша, мать Мамы, возвращаясь к прерванному разговору. – Правда, кровать у нас все‑таки была… Прекрасная, железная, – чуть-чуть покраснев, добавила она.
– Да, кровать была, – вдруг засмеялся дедушка Коля, снова хлопнув себя ладонью по лбу, – но шкафом мы тоже пользовались. Наверх залезать не догадались, зато любили забираться внутрь. И дочке это тоже передалось!
– Что правда, то правда, – закивала бабушка Маша, глядя на Маму. – Ты действительно любила играть в шкафу. Залезала в него и непременно собирала в него всех кукол, плюшевого мишку, обезьяну, всех соседских детей, да еще требовала, чтобы мы, родители, тоже забирались туда, и когда в шкафу становилось так тесно, что не повернуться, тянулась, чтобы всех обнять, и радовалась: «Какая у меня большая семья!»
– Счастливое было время, – вздохнула Мама.
– Да уж, я слышал, у вас, у городских, бывают такие причуды, – с ехидной усмешкой вступил в разговор вдовый дедушка Филипп, отец Папы. – А вот у нас, у деревенских, зеркальных шкафов тогда в помине не было, и сыночка нашего мы с покойницей «сочинили» прямо в лесу, на пасеке. Пчелки у меня были злые, смерть. Оно и хорошо, что злые, потому что у нее, тогда еще даже не невесты, ухажер был. Все обещался мне голову проломить, если она ко мне ходить станет. Следили его товарищи за нами и нигде нам нельзя было уединиться. Однажды она все-таки пробралась ко мне на пасеку. Тут уж нам стало полное раздолье. Двести ульев вокруг, а мы с ней посредине на лужочке. Лето, солнышко печет, листочки плещутся, травы душистые по грудь, ручеек бежит, и мы с ней, значит, вдвоем медом балуемся… Стали раз к нам гости подбираться – замотали рожи рогожей, вооружились снопиками дымящими, да только пчелки у меня такие свирепые, что им и дым нипочем, а под рогожу они, конечно, мигом пролезли. Как пошли гостей ошпаривать, как пошли! Гости снопики подожженные побросали, рогожки поскидывали, еле ноги унесли… Потом уж мы с ней поженились, а все равно для этого дела на пасеку ходили: хорошо!
– Хорошо, батя, рассказываешь, – умиротворенно и даже с гордостью отозвался Папа. – Расскажи уж и про меня маленького.
– А что про тебя рассказывать, из тебя пасечник тоже вышел бы замечательный. Тоже, видно, это тебе от места передалось. Ты ведь еще ходить не начал, а уж среди ульев ползал, и пчелки тебя не трогали. И потом, когда подрос, все мечтал главный пчелиный секрет открыть: как это у них все так прекрасно устроено и как управляется. Пчелы рабочие, пчелы защитницы, пчелы матки. Жаль, пошел ты в бизнес, пропал талант.
– И вовсе не пропал, батя, – усмехнулся Папа. – Я ведь теперь, по сути, и есть все равно что пасечник. Все про моих пчелок знаю: и про рабочих, и про защитниц, и про маток. Только ульи, понимаешь, другие, а пчелки все-таки мед приносят…
В этот момент я приоткрыл глаза и стал внимательнее присматриваться к Папе. Я испытывал двойственное чувство: с одной стороны, как он хорошо и поэтично вклинился в разговор, а с другой – что-то в этом сравнении было неприятное – пчелы, муравьи, насекомые… Он, конечно, сказал это в прямом смысле, не помышляя ни о каких метафорах. Уже во второй раз за вечер я ощутил, что начинаю злиться на него, раздражаться, что ли. Вот это действительно было странно и неприятно. В конце концов, Папа есть Папа. Я уже досадовал на себя: Бог знает чего к нему цепляюсь. И словно желая проверить собственные ощущения, я взглянул на Майю и Альгу: как они отреагировали на слова Папы насчет пчел. Но ничего – девушки сидели, обнявшись, на диване и ворковали, кажется, о чем-то своем. Слова Папы не произвели на них никакого впечатления. Заметив, что я на них смотрю, они показали мне язычки. Что касается наших старичков, то у них на лицах было написано совершенное умиление. Остальные добродушно посмеивались.
– По‑моему, обстановка, в которой происходило зачатие ребенка, – сказал я, – самым непосредственным образом влияет на его будущее.
– Тогда надо распорядиться, чтобы в личных делах наших людей завели специальную графу и заносили в нее соответствующие сведения, – сказал Папа. – Чтобы контролировать ситуацию, мы должны обладать полной информацией.
– О да, кроме шуток, обстоятельства зачатия полны глубочайшей мистики, – тут же подхватила богемная половина профессора Белокурова. – Недаром, на востоке, в Японии, в частности, считают днем рождения не собственно день рождения, а именно тот день, когда произошло зачатие.
– С медицинской точки зрения, – подключился горбатый доктор, – в этом может быть есть определенный смысл. Правда, соответствующей статистикой медицинская наука, не располагает.
– А вот меня зачали, – сообщила богемная половина профессора, – в гостиничном номере отеля «Националь», в том самом номере, где по преданию останавливался Григорий Распутин. И я чрезвычайно это чувствую.
– К сожалению, – сказал доктор, – мало кто может со стопроцентной гарантией указать момент и обстоятельства своего зачатия… – Доктор обратился к своей подруге: – А тебя, скажи, где зачали, радость моя?
«Медсестра» застенчиво улыбнулась, но доктору так и не удалось вытянуть из нее ни слова.
– Должно быть, – предположил тогда доктор, —как выразился, наш уважаемый дедушка Филипп, тебя «сочинили» где-нибудь в тиши зоологического музея между прелестными засушенными бабочками и заспиртованными ящерицами… Впрочем, я полагаю, – продолжал рассуждать он, – совсем необязательно, чтобы связь была такой буквальной. Меня, насколько мне известно, зачали на кладбище, а я все-таки, несмотря на такое мрачное местоположение, избрал своим поприщем заботу о жизни – здравоохранение и, кажется, не безуспешно. Стараюсь!
– Да уж ты, пожалуйста, старайся, доктор, старайся, – попросили его мы.
– А еще, – вдруг сказал доктор, посерьезнев, – я хорошо помню, где я сочинял своего Петеньку… – Мы сочувственно приумолкли, поскольку были в курсе его несчастного романа. – Несмотря на то, что я почти круглосуточно находился на дежурствах, это произошло не на больничной кушетке, – грустно сказал он, – не на столе дежурного врача и даже не в операционной. Это произошло на даче у ее родителей, на скамеечке в очаровательной такой беседке…
– Вот видишь, доктор, – сказала богемная половина профессора.
– А вот у нас не было даже скамейки, правда, родная? – усмехнулся маршал Сева, похлопав по колену свою боевую подругу Лидию. – И вообще никаких интимных условий. Пустое караульное помещение, и полчаса до моего отлета на горячую точку. Но вот, однако ж, успели отковать даже двойню!
– Да, родной, – ответила маршалу Лидия.
Тут все наперебой принялись припоминать подобные обстоятельства. Выяснилось немало забавного. Пикантные подробности оказались на удивление свежи в памяти.
Партийный лидер Федя Голенищев с гордостью поведал, что они с женой абсолютно точно высчитали, что зачали наследника идей в день очередных всенародных выборов, – прямо за занавеской в избирательной кабинке на урне.
Банкир Наум Голицын, посовещавшись с женой, сообщил, что мальчик Яша вероятно начал свое земное существование в первое посещение родителями «земли обетованной», а девочка Дора во второе.
Богемная половина профессора Белокурова, который в это время смущенно чесал переносицу, с поразительной живостью описала медвежью шкуру, которая послужила им брачным ложем. Изголовьем, естественно, служили несколько фолиантов с эзотерическими трудами.
У компьютерного гения Паши это не могло произойти ни коим иным образом, как за компьютером, поскольку он практически не отходил от монитора.
Толя Головин, переглянувшись с супругой, с присущими ему лаконичностью и деловитостью сообщил о заднем сиденье автомобиля, прибавив точные сведения о марке автомобиля, годе его выпуска и государственном номере. Это был многосильный джип, – как ни удивительно, как раз под стать их маленькому силачу Алеше.
– Ну а ты сам‑то помнишь, как было дело? – спросила жена, подталкивая меня в бок.
Я растерянно покачал головой.
– Давай, вспоминай! – потребовали остальные.
– Куда ему, – фыркнула Наташа, – он у меня вечно витает в облаках. Ему вечно не до того.
– Как это не до того? – удивился я. – Погоди-ка, погоди-ка, – напрягся я. – Минуточку!.. Кажется, Александр родился спустя несколько лет после того как я занялся Москвой. Значит, до того, как я окрестился. Тогда я еще, прошу прощения, батюшка, был отъявленным атеистом и ницшеанцем…
– Тьфу ты, срам, – плюнул о. Алексей.
– Увы, – со вздохом продолжал я. – Тогда у меня в голове теснились сплошные вавилонские башни. Я мечтал о том, чтобы где-нибудь в пустыне возвести дворец Заратустры с конической башней, которая бы не отбрасывала тени в полдень. Я пытался представить себе некий особый эффект внутренней перспективы, который…
– Ты по существу говори, – одернула меня Наташа.
И совершенно справедливо: я действительно уклонился от темы.
– По существу, – поправился я, – у нас с тобой, пожалуй, все происходило вполне обыденно. То есть дома. На самой обыкновенной тахте… Да, на самой обыкновенной тахте.
Кажется, Наташа выглядела разочарованной, если не огорченной.
– Конечно, – шепнула она, – тебе всегда было безразлично, в каких условиях это происходит. Ты архитектор, а до сих пор не понимаешь, как важна для женщины внешняя обстановка, а не лишь бы только…
– Постой, – снова заторопился я, пытаясь спасти положение, – помнится, ты тогда как раз купила шикарное шелковое покрывало с египетскими мотивами – фараонами-тутанхомонами, пирамидами, клинописью и тому подобным. Значит можно сказать, мы зачали Александра не лишь бы только, а в атмосфере древней цивилизации!
– Правильно! – обрадовалась Наташа. – И то исключительно благодаря мне, – прибавила она. – Если бы я не купила то покрывало…
– О чем речь, – смиренно согласился я.
Даже Альга проучаствовала в разговоре, сдержанно сообщив, что родители у нее в молодости были альпинистами‑любителями, зачали ее аж в Гималаях – непосредственно после покорения одной из рериховских вершин среди ледников и камнепадов. Кажется, в ночь полнолуния. Можно сказать, на полпути к светозарной стране, легендарной Шамбале.
– Ого! Не слабо! – согласились мы.
– Это неспроста, – убежденно заметила богемная половина профессора. – Тебе, девочка, нужно особенно внимательно следить за знаками Судьбы.
– Я и слежу, – сказала Альга.
Как мне показалось, с улыбкой.
– Ну а нам, интересно, есть, чем похвастаться? – ревниво воскликнула Майя, обращаясь к Маме.
Мама нежно обняла старшую дочь и с улыбкой сказала:
– Ну, конечно, есть. Нашу Зизи мы с Папой, пожалуй, тоже зачали в атмосфере египетских мотивов. Ведь мы тогда с Наташей вместе покупали эти покрывала. Только Наташа взяла себе в голубых тонах, а я в розовых…
– А со мной как было дело? – нетерпеливо спросила девушка.
– Боюсь, не удастся вспомнить, – заколебалась Мама.
– Нет уж! – тут же зашумели мы. – Вспоминай!
– Как это было? Я должна знать обстоятельства! – повторила Майя.
Мама наморщила лоб, потом улыбнулась.
– Успокойся. Это было хорошо и романтично, – заверила она дочь. – Если я не ошибаюсь, дело происходило на крыше одного старого московского дома под ласковыми лучами большого-пребольшого майского солнца…
Наконец я хоть что-то узнал об обстоятельствах рождения Майи… Впрочем, Мама могла и пошутить. Чтобы не огорчать дочь. Ведь этот разговор ни к чему не обязывал, да и доктор был прав: точно высчитать сам момент почти невозможно. Но Майя, конечно, даже не усомнилась в этом.
– Ах как хорошо! – воскликнула она. – Обожаю солнце!
– Смотри, растаешь, Снегурочка! – предостерег ее Папа.
Майя все еще была в расшитом серебром сарафане и высоких голубых сапожках.
– Я и забыла, что я еще Снегурочка! – засмеялась она. – А что же наш Косточка, – спохватилась она, – как насчет него?
– Насчет него? – рассеянно повторила Мама.
– Ну да, как насчет подробностей?
– Боюсь, что на этот раз не удастся вспомнить…
– Почему же не удастся, – педантично сказал Папа. – Не в тот ли день, когда ты разбила большое зеркало, а потом в меня первый раз стреляли?
– Нет, конечно, – поспешно возразила Мама. – Это произошло значительно позже.
– А по-моему, именно тогда.
– А я говорю, гораздо позже.
Было видно, что Маме просто не хочется связывать такой важный момент с неприятными происшествиями.
– Если и позже, то не намного, – настаивал Папа. – К тому же тогда, слава Богу, все обошлось благополучно. Уже на следующий день мне удалось заключить важные соглашения, и ситуация стала развиваться самым наилучшим образом.
– Вот тогда это и произошло, – убежденно сказала Мама. – Ты устроил себе короткий отпуск, и мы провели его здесь, в Деревне. Мы ездили охотиться на кабанчика, потом устроили пикник… Я очень хорошо все помню.
– Пусть так, – усмехнувшись, согласился Папа. – Кабанчика я тоже помню. Кстати, Косточка обожает стрельбу и вообще всякое оружие. Значит что—то такое ему действительно передалось. Для мужчины это полезное качество. Только я бы предпочел, чтобы он побольше развивал мозги.
– Косточка чрезвычайно способный мальчик, – подал голос дядя Володя. До этого наш чудак сидел тихо, пристроившись под елкой. Он уже снял костюм Деда Мороза, бороду, стащил парик, только на висках и подбородке у него остались белые клочки ваты. – Никогда не знаешь, какая фантазия придет ему в голову в следующий момент.
– Ты имеешь в виду свой сегодняшний полет из саней? – насмешливо осведомился Папа.
– Он сказал, что это был несчастный случай! – воскликнул я.
– Так оно и есть, – смутился дядя Володя. – Конечно, случай!
Выгораживал он мальчика, что ли?
– Ладно, – покачал головой Папа, – если в момент зачатия ситуация вышла из-под контроля, то теперь ничего не изменишь. Тут по неволе станешь фаталистом. – Трудно было понять, говорит он серьезно или шутит. – Кстати, ты бы, знаток детской психологии, пошел взглянул на детей, что они там делают, не пора ли им спать?
– Иду, – послушно кивнул дядя Володя.
Он скоро вернулся и сообщил, что ребятишки ведут себя наилучшим образом: расположились со своими подарками на ковре вокруг Косточки и тихо-мирно играют.
– Как бы там ни было, все имеет свой смысл, – сказала богемная половина профессора Белокурова, – предметы, которые находятся вокруг нас, будь то разбитое зеркало, кабанчик или еще что все – это мистическим образом сплетаются в судьбу. Как по‑твоему, котик? – обернулась она к мужу, дремавшему рядом.
– Пожалуйста, еще немного, милая, – сквозь дрему пробормотал плотненький, похожий на вареного рачка профессор, не открывая глаз.
Мы рассмеялись.
– А вы что обо всем об этом думаете, отец Алексей? – полюбопытствовал я у нашего батюшки.
Попадью Марину, которой, судя по всему, тоже было, чем похвалиться насчет деток, явно разбирало желание поведать нам кое-какие подробности, но О. Алексей, дабы не уронить достоинства сана, строгим взглядом приказал ей помалкивать, а нам строго попенял:
– Хоть я, слава тебе Господи, не профессор и не архитектор, но скажу вам. Сотворение человека есть тайна превеликая. Только один Бог ее ведает, и не вам, дуракам, о том рассуждать!
Мы, конечно, спорить не стали, поскольку, в конечном счете, так оно, наверное, и было.
Между тем небо за окнами как будто начало светлеть. И сразу на всех навалилась усталость. Мы стали разбредаться по комнатам. Я хотел еще ненадолго задержаться в гостиной, но Наташа сказала:
– Пожалуйста, приведи Александра. Я ложусь. Если ты идешь, поторопись, пока я не заснула.
Мне показалось, что дети выглядели расстроенными. За исключением, пожалуй, Косточки, Вани, старшего сына священника, и Яши Голицына, которые, многозначительно перемигнувшись, спокойно разошлись следом за родителями. Особенно расстроенный вид был у силача Алеши. Да и наш Александр со своим новым плюшевым Братцем Кроликом в руках поплелся за мной как в воду опущенный.
– В чем дело? – спросил я.
– Все в порядке, папочка, – ответил Александр.
Я решил, что это просто сказывается усталость.
Мы привычно разместились в двух смежных гостевых комнатах на втором этаже, которые считались «нашими» в Деревне. Наташа заперлась в ванной, а я стал укладывать Александра. Мальчик лег в обнимку со своим смешным Братцем Кроликом. Как странно, иногда сын казался мне почти взрослым, иногда маленьким. Сейчас, когда он взял в постель игрушку, выглядел совсем малышом. Я провел ладонью по его шелковым светлым волосам и заглянул в широко открытые блестящие глаза, которые при солнечном свете были абсолютно синими, а сейчас, в полутьме, почти черными. Я наклонился и поцеловал его в щеку.
– Папочка? – вдруг сказал сын.
– Что?
– Москва должна быть моей, правда?
– То есть как? – не понял я.
– А Косточка сказал, что Москва его.
– Ну и что?
– Ведь ты ее построил, правда, папочка? Значит, по справедливости она должна быть моей. То есть нашей…
– Я ее не строил. Ее строили многие люди. Я ее придумал. А места в ней должно хватить всем.
– Но, папочка, ты всегда говорил, что ты ее построил.
– Я ее создал в моем воображении. Родил идею. Ну и конечно, сделал проект.
– Ну вот. Тем более.
– Места в ней хватит всем, – повторил я.
– Но для тебя сейчас места нет, папочка, – заметил Александр.
– Ничего, – улыбнулся я, – когда-нибудь найдется.
– Если бы она была моей, я бы взял тебя.
– Спасибо, милый… А теперь спи.
Я снова поцеловал его.
– Спокойной ночи, папочка. Пусть тебе приснятся хорошие сны.
– И тебе тоже.
– Позови потом маму, – попросил Александр.
– Хорошо, – сказал я.
Я вышел, прикрыл дверь и прилег на постель. Через минуту вернулась Наташа.
– Поторопись, – сказала она.
– Зайди. – Я кивнул ей на комнату Александра и, входя в ванную, невольно улыбнулся, услышав голос сына.
– Пусть тебе приснятся хорошие сны, мамочка.
– И тебе тоже, – отвечала Наташа.
Когда я вернулся из ванной, она уже была в постели.
– Слушай, – прошептал я, забираясь под одеяло, – с какой стати Папа намекал, что это Косточка вытолкнул дядю Володю из саней?
– Значит так оно и было.
– Странно, разве он способен…
– Способен, способен, – нетерпеливо прервала меня Наташа, придвигаясь ближе.
– Никогда бы не подумал.
– Разве дядя Володя тебе не рассказывал? Сними розовые очки. У тебя вообще слишком много иллюзий. В том числе в отношении детей.
– Странно, – сказал я и замолчал.
Мы начали ласкать друг друга. Я знал, что в представлении Наташи праздник должен был быть праздником от начала и до конца, и она готова была ради этого постараться на совесть. Звезды за окном на фоне сереющего неба сделались тусклыми. С востока стали подниматься облака.
– Наташа! – шепотом позвал я ее немного погодя, когда мы лежали, прижавшись друг к другу спинами.
– Спи, – сонным голосом отозвалась жена. – Пусть тебе приснятся хорошие сны.
– И тебе тоже, – пробормотал я.
Несколько минут я лежал, устремив взгляд в окно. В верхнем правом углу еще едва бледнел серпик луны, а солнце, окутанное густым туманом и облаками, уже показало круглую нежно-алую щеку. Солнце и луна – вечные подруги и соперницы, встречаются на грани ночи и дня… Наверное, я уже засыпал.
Вдруг я уловил какие-то неясные звуки, встрепенулся и, выскользнув из-под одеяла, подошел к двери в смежную комнату. Осторожно приоткрыв дверь, я обнаружил, что Александр еще не спит.
Мальчик лежал, повернувшись к стене, в обнимку со своим любимым кроликом.
– Господи Боже, Господи Боже, – разобрал я его звенящий шепот, – прошу Тебя, Господи Боже, помилуй Братца Кролика, и Русалочку, и Медведя, и Серого Волка и Розового Слона… А еще, Господи, помилуй Кораблик, и Верного Робота, и Грустного Клоуна, и Кота в Сапогах… Помилуй их всех, добрый Господи, – необычайно горячо повторял он, – помилуй, спаси, защити их и сохрани…
Я подивился такой своеобразной молитве, в которой Александр просил за сказочных персонажей, но вмешиваться не стал и так же бесшумно прикрыл дверь. Я снова лег в постель и на этот раз крепко заснул. Мне приснился сон прекрасный, счастливый, но в то же время невыразимо печальный.
Был прозрачнейший летний полдень, такой прозрачный, каких в природе, наверное, вообще не бывает. По крайней мере, неповторимый в своем роде. Я снова был мальчиком, таким же, как мой Александр, но в глубине души, то есть внутри себя, как это бывает во сне, знал, что я взрослый. Во мне, ребенке, как бы сидел теперешний я – со всем моим теперешним опытом, знаниями и судьбой. Уже одно то, что я снова превратился в ребенка, было величайшим чудом. Я как бы возродился в какой-то другой, новой жизни. Причем, как и бывает в детстве, с ощущением несомненного своего бессмертия. Но было еще одно чудо. Кажется, люди вообще не придумали чудес более впечатляющих и великих, чем эти два. Это, наверное, и невозможно… Второе чудо было – моя способность летать. Я огляделся вокруг и увидел зеленую лужайку, веселые зеленые дубы. В душе моей бурлило неудержимое веселье. Я смеялся, резвился, дурачился вместе с другими детьми, среди которых более или менее отчетливо удалось рассмотреть лишь моего Александра. Раз за разом я подпрыгивал все выше и выше, и наконец ощутил тот блаженный миг, когда полет затянулся дольше обычного, и я достиг той грани, за которой уже начиналось парение. Более того, я сумел удержать в себе ощущение, необходимое для свободного полета, и еще громче засмеялся. «У меня получилось! Это действительно возможно! Это возможно! И не во сне, а наяву!» Я начал быстро подниматься вверх. Зеленая лужайка ушла из-под ног и уплыла вниз. «Кто поднимется выше? Еще выше!.. Еще!..» Я звал за собой других, но они не могли поспеть за мной. «Что же ты, мой милый Александр, учись, пока я жив!» Мимо и вниз плыли полные листьев ветви, зелень плескалась в воздухе, а я очень быстро летел вверх. Нет, Александр меня не слышал. И никто слышал. Они не захотели последовать за мной, не послушались, а может быть предпочли остаться и резвиться на той зеленой лужайке под дубами… Очень скоро я оказался на огромной высоте, и мне захотелось окинуть взглядом прекрасную землю. Отсюда, с этой высоты я должен был увидеть всю Москву, поскольку с самого начала я знал, что хоть мы и резвимся на природе, но находимся где-то совсем неподалеку от нее. Даже с высокого берега в Деревне в ясный день можно было легко рассмотреть ее величественные очертания – как будто поднявшиеся среди лесных просторов сверкающие пирамиды. Но… Москвы не было, и у меня сжалось сердце. Вокруг, сколько достигал взгляд, лежала прекрасная, но абсолютно девственная природа. Москвы не было не потому, что я перенесся куда-то за сотни и тысячи километров от нее. Ее вообще не существовало. Она осталась там – в моем еще не осуществившемся будущем. Как и вся моя не прожитая жизнь… И вот тут сквозь сверкающую белизну дня, словно муаровая чернота ночи, проступила невыразимая печаль этого сна: я вдруг понял, вернее, начал смутно догадываться, что, может быть, не только будущего, но даже настоящего уже не существует.