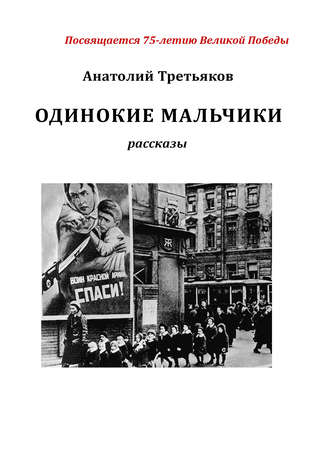
Полная версия
Одинокие мальчики
Мальчик улыбнулся. Сходство было очевидным и ему показалось, что его спутник с длинными волосами – батюшка, а он сам вроде мальчика-служки…
– Чего улыбаешься? – спросил художник. – Что смешного? Или что веселое вспомнил? Но только честно, договорились?
Мальчик подумал и, стараясь правильно изложить свои мысли, медленно объяснил.
– Во! Художник даже подпрыгнул. – Вот это завернул! У тебя настоящее образное мышление! Ты настоящий художник! И добавил. – Даже если не будешь рисовать… Я дам тебе краски и кисти. У меня еще есть… И запишу-ка я тебе адресок школы и к кому обратиться.
И художник, взяв коробку с красками, написал что-то на донышке.
– Может и пригодится, и меня вспомнишь… Да, а кисточки-то колонковые, вечные, а краски масляные – тебе еще рановато, но попробуй…
Он встретил художника через много лет. Наверно пятнадцать пролетело, не меньше, у входа в Финляндский вокзал. Тот сидел на стульчике у мольберта, держа в правой руке кусочек угля, а в левой бутерброд с салом.
– Цена 10 копеек, – отметил взрослый уже мальчик.
У того была уже седая борода в крошках хлеба и спутанные чернобелые космы. Руки художника вздрагивали и он неумелым, и оттого визгливым голосом просил-предлагал:
– А кому портретик за треху? Всего 5 минут посидеть и портретик… Кому портретик на память?
Он наклонился к художнику и посмотрел ему в глаза. Глаза были мутные и тот спросил, выдохнув тяжелый запах перегара и гнилых зубов:
– Ну чего уставился? Садись! И, пожевав губами, сказал: – Вы очень красивый молодой человек, такие люди сейчас редко встречаются.
Он вздрогнул от неприятия этой слащавой жалкой лжи и схватив первое, что ему попалось под суматошно шарящие пальцы в глубине кармана плаща, что-то выхватив, сунул художнику в ладонь. Он знал, что меньше пятерки не найдется, но был среди денег и рубль. – Только бы не рубль, – заклинал он. – Только бы не рубль… Потому что лезть в карман второй раз не было бы сил.
Когда он отскочил от художника и обернулся, то заметил, что тот удивленно разглядывал зажатые в руке с черными ногтями пять рублей, которые сунул какой-то придурок перед тем как исчезнуть в толпе.
Прошло лето. Наступила осень. Школа встретила его длинным транспарантом, на котором было написано:
Приближается день семидесятилетия Великого Сталина!
На линейке директор школы выступил с краткой речью перед школьниками начальных классов. Главная идея его выступления сводилась к тому, что в декабре «вся страна и всё передовое человечество торжественно отметит юбилей Великого Сталина и готовит подарки, а лучший подарок школьников – отличная учеба и примерное поведение…»
Прошло несколько недель. Лето стало забываться, обыденность школьных, тусклых, неразличимых между собой дней постепенно, словно поршень из насоса воздух, выдавливала сладкие воспоминания о лете, заливе, лесе и футболе…
В конце октября он стал искать что-то в книжном шкафу и наткнулся на коричневую коробочку, запрятанную за книгами. Несколько мгновений он недоуменно вертел её в руках. Затем внезапно вспомнил… Медленно открыв крышку, которую почему-то заело, он снова увидел тюбики со свинцовым отливом и связку маленьких дротиков-кистей. Он вдохнул тягучий запах олифы. Снова тюбики с красками пронзительно напомнили ему виденные в Эрмитаже тяжелые мушкетные пули и их завершенная готовность быть вставленными в обойму какого-нибудь необыкновенного карабина и увиденный им их разящий неотвратимый полет к неподозревающей ни о чем цели, подготовила импульс-мысль:
– Все же надо пойти в Художественную школу и попроситься в группу.
Он посмотрел на четкие жирные буквы адреса и имени знакомой художника из Летнего Сада. (Вспомнилось: «Скажи ей, что от меня»)
– Пойду, – решил он. – Завтра.
Художественная школа располагалась напротив Таврического Сада. А если быть совсем точным, то как раз напротив того места где упал в 41-ом «Юнкерс-88», протараненный Талалихиным. Марка с рисунком этого поединка была самой его любимой. Он десятки раз в разном цвете копировал эту марку: тупорылый ястребок врезается винтом в хвостовое оперение ненавистного немца. Взрыв, куски самолетов, пламя и все такое… Один удался настолько, что учитель рисования собственноручно прикнопил его к доске в учительской…
Он захватил с собой много рисунков. Говорили, что там строгий отбор.
Высокие дубовые двери с трудом распахнулись. Матовые стекла с выпуклыми переплетающимися лилиями отразили блики фар проехавшей автомашины. Несколько ступенек наверх по ковровой дорожке, прижатой у основания каждой ступеньки медными полосками. Поворот налево по стрелке-указателю Прием учащихся.
В конце тусклого короткого коридора еще одна дверь с медной полированной круглой ручкой. Он её повернул и оказался в большой комнате. На ярко освещенной белой стене (недавно покрасили?)транспарант:
До дня рождения Великого Сталина осталось 60 дней!
И пониже – Учащиеся детской художественной школы готовятся к Великой дате.
И как доказательство – множество рисунков, в основном акварельных.
Сюжеты примерно одинаковые: Сталин во главе колонны рабочих, Сталин на трибуне, Сталин произносит речь, приветствует, обнимает ребенка, пишет в кабинете, у глобуса, Сталин молодой, не очень молодой, и старый в мундире генералиссимуса со звездой и так далее. И как все здорово нарисовано! Акварельные рисунки у него все почему-то расплывались (а как смешать цвета?) Как надо много знать и постоянно узнавать. Он был почему-то уверен, что ему ничего равного не нарисовать. Правда, рисунки карандашом или углем были (как он считал) не очень. Тут он смог бы с ними, пожалуй, и поспорить. Но акварели… Как это у них получается? В следующем коридоре висели рисунки под общим названием РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ. В основном уже на сказки Пушкина: богатыри выходят из воды и очень натурально вода нарисована, он про себя отметил, очень похоже, у него никогда еще вода так не получалась…
– Ты к кому, мальчик? – раздался вдруг голос прямо над его ухом.
От неожиданности он вздрогнул. Он настолько увлекся разглядыванием рисунков, сделанных ребятами примерно его возраста (под каждой работой были проставлены имя, фамилия, возраст и номер школы), что забыл обо всем. Всё же он отметил, что все они были постарше его года на три, а при игре в футбол, например, такая разница существенного значения не имела, особенно при обводке. Правда устоять на ногах при столкновении с более рослым противником зачастую бывало трудновато, но если соблюдались правила и судья был честный, то можно было вполне играть и против тринадцатилетних.
– Мне нужна Любовь Анатольевна, – ответил он.
– А по какому-такому вопросу? – с улыбкой спросила женщина. – Ну, предположим, это буду я Любовь Анатольевна.
На женщине была красивая прозрачная шифоновая блузка и от неё пахло духами Пиковая Дама.
– Я хочу записаться в школу, – тихо проговорил он. И, помолчав, добавил, что ему посоветовал обратиться к ней один художник.
– Как он? Что он? – быстро спросила Любовь Анатольевна. – Я его давно не видела… Вообще-то мы принимаем в школу с двенадцати лет. Но можем сделать и исключение, если ты подойдешь. Иди за мной.
Они прошли по коридору и вошли в маленькую комнату с окнами во двор. Он посмотрел во окно. Двор был маленький и на противоположной стене (почему-то такие задние стены домов назывались брандмауерами) были видны сине-белые пятна штукатурки и краснеющие полосы кирпича.
– Проблема с этими брандмауерами, – доверительно сказала Любовь Анатольевна извиняющимся тоном. – Тут один энтузиаст придумал разрисовывать пустые стены ленинградских домов сюжетами из героического прошлого. Идея хорошая, да где деньги взять? А этого энтузиаста ты видел. Это очень талантливый человек и очень одинокий…
Любовь Анатольевна смотрела в сторону и качала головой.
– Красивая… – думал он. – Как актриса.
– Ну ладно, – сказала Любовь Анатольевна. – Давай ближе к делу. Покажи-ка свои рисунки. И раскрыла его папку (самую его любимую, кстати.) На папке была стилизованная под старинный церковно-славянский шрифт надпись – МОСКВЕ 800 ЛЕТ.
Он еще дома расположил свои рисунки таким образом, чтобы лучшие оказались сверху. Первым был тщательно и любовно скопированный, увеличенный во много раз дискобол. (Набросок римского бога, поправленный художником из Летнего Сада он взять не решился.) А дискобол был изображен на марке выпущенной в 1932 году в Италии (он очень ценил эту марку, потому что на ней был четкий штамп – ROME 1932.) Он настолько следовал линиям и цветам почтовой марки, что фигура дискобола отливала всей гаммой красно-багровых тонов.
– Неплохо, неплохо, – проговорила Любовь Анатольевна. – Только почему он у тебя такой красный, кожу с него содрали, что ли?
Он объяснил. И добавил, что в серии были также дискоболы синего, зеленого и желтого цвета.
Любовь Анатольевна засмеялась и проговорила:
– Да ты копируешь природу, как фотограф. А если подойти творчески? Ну не обижайся, линии у тебя хорошие и правильные.
Он настороженно смотрел на то, как Любовь Анатольевна медленно перебирала его рисунки. Она подносила некоторые к свету настольной лампы и даже поворачивала их почему-то боком. Пересмотрев все, она взяла их как игральные карты и молчала. Прошло секунд двадцать и наконец она было открыла рот, готовясь что-то произнести, как в дверь постучали.
– Да, – недовольно проговорила она и добавила. – Сейчас, сейчас…
В дверь просунулась голова мальчика лет четырнадцати. Он зыркнул на посетителя и спросил:
– Любовь Анатольевна, а сегодня будет урок?
– Ах, да… ну, конечно, сейчас приду.
Она откинулась на стуле и сказала:
– Я тебя возьму… хотя это и против правил – тебе еще нет двенадцати?
Он кивнул.
– Ну вот видишь… а рисовать ты будешь неплохо. Ты хорошо схватываешь движение и на редкость чувствуешь перспективу. Остальное приложится. Для своих лет ты вполне… А весной мы начинаем выезжать на этюды. У многих получаются хорошие акварели.
У него екнуло сердце. (Неужели и он сможет рисовать также как те ребята, чьи рисунки висят в коридоре?)
Любовь Анатольеву а угадала его мысли:
– У всех получается. Наука не трудная. И предложила: – Не хочешь ли зайти к нам на занятие?
…Он шел по осенней улице и перебирал в памяти события дня: как он пришел в школу, как он разговаривал с ней, как и что она ему сказала… По правде говоря, посещение класса карандашного рисунка ему не понравилось – уж очень было похоже на урок рисования в школе. Те же самые конусы, кубики, которые надо правильно заштриховать и расположить с ощущением перспективы. Он вспоминал, как Любовь Анатольевна после урока позвала его в свой кабинет и вручила, благоговейно держа на ладонях, книгу на которой было золотом вытеснено СТАЛИН (краткая биография.) Он запомнил её слова «прочитай внимательно, может быть нарисуешь что-нибудь к ВЕЛИКОЙ ДАТЕ. Попробуй найти свой сюжет»
Любовь Анатольевна также озадачила его, когда протянув ему руку, чтобы попрощаться, была отвлечена пронзительным телефонным звонком и продолжая держать его пальцы в правой руке, поднесла трубку к уху левой и, послушав собеседника, внезапно вспыхнула и резко сказала, что она невкурседела. Он, не понял что это значит (наверно и тот, на другом конце провода тоже не понял), так как она повторила со злобой несколько раз: говорят же Вам – яневкурседела, невкурседела…
Найти свой сюжет, найти свой сюжет… А как его найти?
Закрыв глаза и натянув на голову одеяло он снова и снова смотрел как в кинотеатре это бесконечное количество рисунков о товарище Сталине (а он их запомнил почти все) и никак не мог понять, что же нового он сможет добавить… Он прочитал биографию Сталина и почему-то из всего прочитанного ему запомнилось, что молодой Сталин был в ссылке в Сибири (где этот Туруханский край, кстати?) и оттуда бежал. А наверно, голодно, было в тайге и молодой Сталин стрелял разное зверье, а стрелок он был, конечно же, отличный, как те прирожденные сибирские охотники, которые могут попасть колонку в глаз и не испортить шкурку. Чем он больше думал о побеге Сталина из ссылки, тем привлекательнее ему казался этот сюжет. Единственное препятствие, которое надо было как-то обойти, это не рисовать Сталина в фас. (Он обратил внимание, что Сталин на всех рисунках в Художественной школе, был нарисован в профиль.) Что-то в этом было… Он так не понял, что именно, но почувствовав какой-то тайный профессиональный ход, решил, что и он последует этому примеру, и ему показалось, что знает как это сделать.
Сначала он попробовал отвернуть крышечки у тюбиков с красками. И ничего не получилось. Крышки намертво приклеились к резьбе и держались за металлические горлышки, как неумеющие плавать за спасательный круг.
Что делать? Сюжет уже был готов, фанерная доска, которую он решил использовать вместо непонятного ему холста, стояла на столе под нужным углом. Он решил тогда проколоть один тюбик и посмотреть, что из этого выйдет. Прокалывать, а иначе говоря, жертвовать, следовало тюбиком, у которого есть двойник. Например, почему не попробовать просто GRUN, а MALACHITGRUN оставить для дела?
Краска, однако, легко выдавливалась (и усилий не нужно было прикладывать) словно зубная паста. Правда, запах был очень неприятный – прогорклого масла, или даже ненавистного рыбьего жира. Краска, тем не менее, без затруднений наносилась на поверхность, но сохла несколько дней. Решение было найдено: рисовать нужно быстро, за один день и потом оставить сохнуть. И все.
(Молодой Сталин бежит из ссылки, он обманывает урядника, который за ним следит, у него ружье удивительного боя, может быть даже с оптическим прицелом, у него полные карманы патронов, у него острый нож, одеяло, спички и табак. Самые трудные эти версты до реки, до какой-нибудь большой реки, где можно на лодке доплыть до железной дороги, а там сесть на поезд. Товарищи по партии помогут, а на железной дороге много рабочих, которые конечно же знают, кто такой Сталин. Вот Сталин быстро выходит из избы, где он живет, он вязнет в снегу, снег глубокий, до колена… Впереди сосновый лес, где зверья… Сталин не пропадет!)
– Ну, показывай, что ты нарисовал, – сказала Любовь Анатольевна. – Показывай, показывай, не стесняйся.
Он протянул ей картину. Любовь Анатольевна недоверчиво её взяла и потянула носом.
– Почему пахнет маслом? – спросила она. – Ты, что, написал маслом? Да?
Он кивнул он. – Да.
Безмерное удивление слышалось в её голосе:
– Вот это изба, вот это лес, вот это небо, вот это, как я понимаю, следы от избушки в лес… А где товарищ Сталин? – спросила она свистящим шепотом и почему-то испуганно оглянулась. Она быстро завела его в свой кабинет, плотно закрыла двери и опять еле слышно спросила:
– Куда ты дел товарища Сталина?
– Товарищ Сталин убежал из ссылки, неужели непонятно? Вот следы, он уже в лесу… И он идет к Енисею.
Он увидел, как по её лицу пошли красные пятна и как в её глазах заплескалась странная смесь злобы, растерянности и изумления. Наконец она тихо проговорила:
– Тебе действительно еще рано посещать нашу школу… Приходи лет через пять… Если будешь еще рисовать…
Отойдя от дверей Художественной школы метров на тридцать он оглянулся, прощаясь с этим домом навсегда. И увидел, что его следы на мокром снегу были точь в точь как на его картине, и он знал, что за углом его ждет троллейбус, который уже расчехлил свернутые паруса контактных дуг и вот-вот отчалит с ним на борту в свою последнюю осеннюю навигацию по уже начинающей покрываться льдом реке – Кирочной улице…
Летающее крыло
– Спокойно Гельфер, спокойно, – шептал мальчик, поглаживая правой рукой шелковистую голову ретривера. Левой рукой он прижимал к глазам отцовский 20-кратный цейссовский бинокль, направленный сквозь щели охотничьего шалаша на обычное бретонское болото, которое когда-то было озером. Солнце уже выкатывалось из-за леса, растапливая туман и контуры родового замка, принадлежащего его отцу – потомку нормандских баронов, стали очень отчетливыми. Над зубцами полуразрушенной стены кружили вороны. Собака припала к земле, хвост её вибрировал. Гельфер ждал:
– Сейчас прилетят дикие утки, опустятся с шумом на воду, хозяин припадет к малокалиберной винтовке с оптическим прицелом, свистнет, чтобы стрелять уток в лет – сидящих на воде бить неспортивно, одна птица обязательно рухнет в камыши, теряя на лету перья, он бросится вперед и принесет её хозяину, целый год после этого чувствуя на зубах трепещущее окровавленное тельце…
На этот раз вместе с утками прилетело несколько диких гусей, которые закрыли собой стаю уток. Ждать было некогда, солнце уже стояло высоко и ему ничего не оставалось как свистнуть, птицы с шумом взмыли вверх, и гуси были по-прежнему между ним и утками.
– Как они но разному взлетают! Утки поднимают голову, а гуси опускают и при этом их крылья треугольником отброшены назад, совершенно разная техника, гуси в несколько раз больше, а скорость много выше!
Охота закончилась и будущий создатель Конкорда заторопился домой, где ему нужно было доклеить корпус картонного «Спитфайера»
…Мальчик боялся высоты. Когда он поднимался по лестнице, он всегда инстинктивно прижимался к стене и старался не встречаться глазами с зовущей к себе пустотой воздушного живого пространства, вокруг шеи которого как питон навивалась лестница. Высота его всегда пугала своим зовом, которому он не смог бы сопротивляться, если бы не было так страшно шагнуть в пролет…
…Тем удивительнее было то сладкое ощущение свободного полета над землей, над стадионом, надо всем, что уже месяц было составной частью его жизни. Он даже не подозревал, что это так замечательно – лететь, парить, и по своему желанию менять высоту. Стоит только захотеть… Он не чувствовал тяжести тела, он ощущал, что его мышцы одновременно расслаблены и удивительно сильны и упруги и как-бы накачены тем воздухом, которым мы дышим и который поднимает аэростаты и поддерживает крылья самолетов, не давая им упасть на Землю.
Он парил над землей и ему хотелось найти то дерево, с которого он частенько смотрел на Кронштадт сквозь старенький полевой бинокль, который так удивительно приближал купол собора и делал его неотличимым от купола Исаакия. Это была старая могучая береза, одна из многих в аллее, которая вела к старинной финской усадьбе (от дома остался только гранитный фундамент и там можно было накопать много ржавых гвоздей) От середины ствола до кроны ветвей не было – от них остались только короткие сучки – и он думал всегда, что если бы не это, то с самой верхушки можно было бы даже разглядеть пирсы и причалы Кронштадта и фортов. Однако березу было трудно найти среди множества похожих деревьев и он поплыл в сторону поселка…
Скользя над крышами он увидел, что всё-всё распланировано с удивительной геометричностью и жесткой канцелярской точностью. Улицы строго параллельны и перпендикулярны друг другу. (Это было неожиданно – с земли казалось, что поселок застроен хаотично и улицы извиваются и сливаются в беспорядочные клубки, не подчиняясь никаким законам.)
Хорошо лететь!
Между тем он медленно просыпался и чем больше он снижался, тем тяжелее и неуправляемее становилось его тело, и когда он, наконец, коснулся земли, то открыл глаза и с недоумением увидел, что лежит на спине на обычной раскладушке и прямо ему в лицо сквозь волнообразное чистое оконное стекло светит яркое утреннее июльское солнце. В левой половинке окна была крона березы, а в правой ольхи. Листья были неподвижны и казались нарисованными на стекле.
Неожиданный нарастающий грохот возник из ниоткуда, словно внезапно появившаяся из глубокого туннеля электричка. Непереносимый вой нарастал, достиг максимума, внезапно стал тихим и исчез. За окном, как на экране, проскользили три сверкающие тени с блестящими откинутыми назад крыльями, на которых рдели необычно большие красные звезды.
Звено истребителей – первенцев реактивной эры пронеслись словно стрелы выпущенные из многоствольного арбалета невидимого охотника, притаившегося в той дальней сосновой роще по одному ему ведомой цели…
Мальчик открыл окно. С первым вялым дуновением бриза прилетела бравурная мелодия. (Динамик у магазина включили. Значит уже девять, – подумал он.)
«Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц…» Мальчик знал, что этой песне больше десяти лет и иногда он задумывался, почему её никто не поет на улицах. Даже летчики-фронтовики пели другое, а эту только по радио по случаю праздников.
Потом долетели слова «Сталинские соколы… слава… советские авиаторы…»
– Ага, – вспомнил мальчик. – Сегодня День Авиации. Надо пойти дядю Колю поздравить.
Дядя Коля сидел у дровяного сарайчика. Мальчик издалека увидел его круглую спину обтянутую выгоревшей и застиранной гимнастеркой, под мышками которой были большие темные полукружия пота, похожие на ручки инвалидных костылей. Дядя Коля сидел сгорбившись и лениво, но беспрерывно шевелил локтями, двигал руками вверх и вниз, производя какие-то пассы в небольшом пространстве вокруг плеч и головы. Капельки пота на маленькой лысинке прямо на темечке смешно посверкивали под утренним солнцем.
– Дядя Коля доброе утро, – вежливо произнес мальчик. – С праздником Вас.
С близкого расстояния он наконец разобрал, чем занимается дядя Коля – бывший фронтовой летчик. С крыши сарая свисала рваная рыболовная сеть и дядя Коля латал дыры при помощи специального приспособления, похожего на большую канцелярскую скрепку. На коленях он держал моток пряжи.
– Ну, привет, видел? – он мотнул головой в сторону неба.
– Чего? – не понял мальчик.
– Да этих долбаных реактивных, – выдохнул дядя Коля водочный запашок и положил на пенек надкусанный шматок сала.
– А, видел, конечно. Во здорово!
– А чего здорово-то? – передразнил его дядя Коля и рывком повернулся к нему опухшим лицом. Мальчик увидел темно-красный пятиугольник ордена и квадратик багрово-желто-красного знамени несуществующей страны ЗАТЯЖЕЛОЕРАНЕНИЕ.
– Меня такой вот стре-еми-и-тельный и саданул над Померанией. Нашел чему радоваться, – грубо ответил дядя Коля и мальчик в который раз прослушал историю нелюбви бывшего фронтовика к реактивной авиации.
Нашему-то бате «героя» надо было позарез, а войне уже пиздец не сегодня-завтра, а командир полка без «героя» и решил он завалить одного немца в свободной охоте, пока еще не объявили ничего. А где для него «мессера» или «фоккера» возьмешь – уже три дня ни одного не видели, дело-то к концу шло… А летать-то за бабами да водкой забыл как. Ну, взял три звена прикрытия, чтобы его защитили в случае чего и сунули ему немца прямо в рот. Только кнопку нажать… И надо же, выскочил как по заказу на нас немец из-за тучки, и странным он мне показался (а я прикрывал нашего снизу) каким-то горбатеньким, что-то необычное в нем было, что-то в нем сразу насторожило меня. А Батя кричит:
– Это мой! Это мой! Прикрой, прикрой так твою перетак и так далее… (Потом-то мне стало все-таки интересно – откуда немцу было взяться и куда он летел.) Вошел, короче, Батя в пике, а немец сделал иммельман и на какой-то необычной скорости, мы и ахнуть не успели, вышел прямо мне под брюхо и как трахнет со всех пушек, и все по мне. Как я на земле оказался не помню, и как парашют дернул не помню. В госпитале сказали, что повезло мол, это был реактивный мессер, а мне-то не легче. До сих пор осколок сиди в самой жопе и помеха этому самому делу… Машинка, то-есть, не работает. Хорошо, что двух девчонок успел перед войной заложить… Что-то там такое, б- бля, нарушено…
Дядя Коля помолчал и спросил:
– Ты мою-то вчера видел?
Мальчик не ответил. Хотя он вчера видел как его-то вечером тискалась в кустах с местным "говновозом" – отчимом Вовки. (Вовка был старше мальчика года на три и обычно туманно отвечал – видимо научили – «папа по коммунальной части». Как-то оказавшись в одной очереди в магазине рядом с отчимом приятеля мальчик осторожно втянул воздух, стараясь уловить запах дачных уборных. Однако от одежды мужика несло табаком и луком.)
Мальчик промолчал и ожидал (как уже бывало), что дядя Коля попросит его сбегать в магазинчик за маленькой и Беломором. Эти предметы всегда выдавал ему из-под прилавка мордатый продавец, который тоже служил в авиации, но не летчиком, а парикмахером. Дядя Коля каждый раз приговаривал:
– Пусть, бля, грехи замаливает, пусть стыд ложкой хлебает, бздюля с ножницами… Однако каждый раз строго спрашивал:
– Не забыл спасибо сказать?
– А вот Кожедуб сказал на лекции, что реактивные не лучше моторных, – нерешительно произнес мальчик. Он давно хотел пораспрашивать дядю Колю, да случая не предоставлялось.

