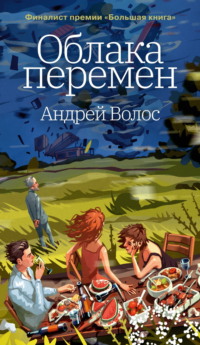Полная версия
Возвращение в Панджруд
Коричневая вода негромко журчала, вымывая из глины бока черных камней. Пеший мог, переступая с одного на другой, пройти, не замочив ног. Пеший – и вдобавок зрячий.
– Слышу, – хрипло сказал слепец.
Он отпустил пояс и сделал осторожный шаг. Постоял, шаря впереди себя палкой. Потом снова куце шагнул, присел, протянул руку. Стал черпать ладонью и пить. Вода текла по бороде.
Шеравкан шагнул на камень, присел и тоже стал черпать холодную воду.
Слепой стоял, оперевшись на посох и наклонив голову набок. Выражение лица было внимательное, настороженное. Что он хочет услышать?
Шеравкан утерся полой и решительно произнес:
– Джафар!
– Что? – спросил слепец, вскидывая голову.
Он недослышал голос поводыря, не понял, откуда тот раздался, и стоял теперь, напряженно вслушиваясь в журчание воды и шелест ветра. В правой руке была палка, на которую он, обернувшись, нетвердо опирался. Шеравкан еще утром сбросил чапан, оставшись в одной рубахе – солнце лупило с ясного неба, жгло землю и глянцевую зелень растений. А этот левой рукой собирает ворот в горсть, – мерзнет, что ли?
Во всей его фигуре была какая-то птичья неуверенность. Горделиво вскинутая голова с повязкой на глазах не могла добавить силы и достоинства.
Шеравкан собирался сказать насчет сорока фарсахов. И что хорошо бы им шагать побыстрее.
Закашлялся.
– Я говорю, ручей надо перейти. Слышите?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Арк Бухары представлял собой комплекс зданий (крепость, мечеть, дворец эмира, административное здание и хозяйственные постройки), окруженный пятнадцатиметровой стеной с одними воротами (здесь и далее примечания автора).
2
К сожалению, в русском алфавите нет буквы, означающей на письме звук слитного звонкого произнесения «дж», каковое имеет место в слове «Панджруд».
3
Фарсах – около 7 км.
4
Туй – ритуальный праздник.
5
Структура мусульманского средневекового города напоминала соты и складывалась из отдельных кварталов, представлявших собой довольно замкнутые административно-социальные единицы. Население квартала было более или менее однородно по профессиональной принадлежности (напр., квартал медников, квартал «глиноедов», то есть строителей). Несмотря на разницу социального положения и возможное различие занятий, жители квартала были традиционно тесно связаны между собой и принимали участие во всех событиях, случавшихся в жизни их соседей, – свадьбах, похоронах и проч. Силу традиции показывает, например, то, что жители квартала обмывальщиков, среди которых были как собственно обмывальщики покойников, вынужденно жившие изолированно в силу суеверного отвращения, испытываемого к ним другими жителями города, так и горожане иных профессий, тоже проводили совместные праздники и трапезы. Вход в жилой квартал закрывался воротами, на внешние улицы смотрели глухие стены. В каждом квартале была как минимум одна мечеть, представлявшая собой, кроме храма, центр культурной и общественной жизни.
6
Чапан – верхняя одежда. Либо легкая, летняя, из простеганной хлопчатобумажной ткани, либо теплая, на вате. В русском языке «чапан» обычно переводят словом «халат», однако чапан, в отличие от халата, скроен так, что держит форму – полы его сходятся сами собой. Чапан перехватывают на поясе поясным платком, кушаком.
7
Судя по всему, в пристройке располагалось помещение для омовений. Полное омовение, обязательное после супружеской близости, совершается, как правило, дома. Если по каким-либо причинам это оказалось невозможным, мусульманин, накинув на голову халат, поскольку он не должен никому показываться, пока не очистится от скверны, приходит в общественное помещение.
8
Карматы или батиниты – приверженцы шиитской секты исмаилитов, наиболее радикальной среди иных толков ислама. В карматстве слились как чисто религиозные особенности, так и склонность к некоторым социальным идеалам – всеобщему равенству и восстановлению общинной собственности на землю. Кроме того, в X веке карматское движение определенно связывалось с интересами магрибской династии Фатимидов (909–1171), претендовавшей на власть в халифате и противостоявшей правящей династии Аббасидов. Карматы возглавляли целый ряд антифеодальных восстаний. В государстве Саманидов идеологическим противовесом карматов являлись представители традиционного – суннитского– духовенства и тюркская гвардия.
9
Дирхем – монета, как правило, серебряная. Дирхемы были распространены долгое время на огромной территории Средней Азии и арабского мира, меняя от места к месту свой вид и содержание. Дирхем «исмаили» получил название по имени правителя, начавшего его чеканку, – Исмаила Самани.
10
Мазар – могила святого или просто обиталище местного доброго духа.
11
Зиндан – помещение, в котором содержатся заключенные. Как правило, представляет собой глубокую яму с узким отверстием-входом.
12
Практика кормления заключенных за счет подаяния доброхотов существовала на протяжении многих веков. Не исключено, что где-нибудь ее можно встретить и в наши дни.
13
Рашт – современный Каратегин на юге Таджикистана.
14
Аджам – часть мира, населенная говорящими по-персидски.
15
Изучение арабской (и почти совпадающей с ней персидской) письменности представляет собой определенную сложность в силу того, во-первых, что на письме обозначаются только согласные, и во-вторых, буквы радикально меняют конфигурацию в зависимости от того, где находятся – в начале, середине или конце слова, – и с какими соседними буквами сочетаются.