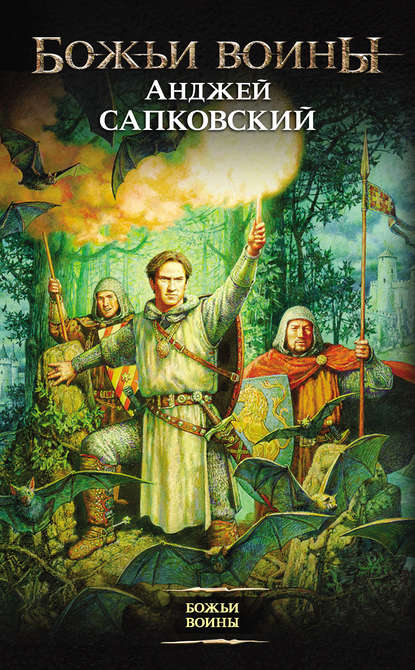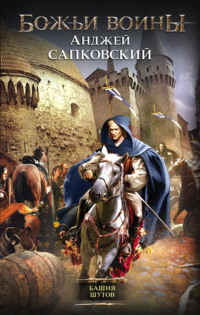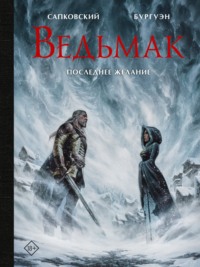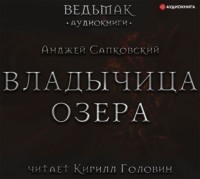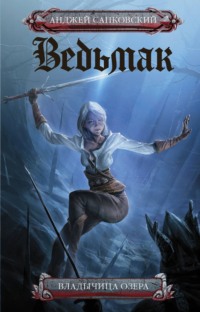![Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]](/covers_330/8507783.jpg)
Полная версия
Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]
– Молоденький он, этот Гейнч, – пояснил он, немного помедлив. – Формалист. На все требует доказательств, даже редко велит брать на пытки. То и дело подозрительного признает невинным и выпускает. Мягок чрезмерно.
– Я видел пепелища от костров у вала за Святым Войцехом.
– Всего-то два костра, – пожал плечами госпитальер. – За последние три недели. При брате Швенкефельде было бы двадцать. Правда, вот-вот будет сожжен третий. Его преподобие поймал колдуна. Вроде бы с потрохами продавшегося дьяволу. Его сейчас подвергают болезненному допросу.
– У доминиканцев?
– В ратуше.
– Гейнч там?
– В порядке исключения, – скверно усмехнулся крестовик, – там.
– А что за колдун?
– Захарис Фойгт, аптекарь.
– Говоришь, брат, в ратуше?
– В ней.
Гжегож Гейнч, в принципе обычный inquisitor a Sede Apostolica specialiter deputatus[236] во Вроцлавской епархии, действительно был человеком исключительно молодым. Стенолаз не дал бы ему больше тридцати, а значит, они были ровесниками. Когда Стенолаз спустился в подвал ратуши, инквизитор подкреплялся. Высоко подвернув рукава, он жадно выгребал прямо из горшка кашу со шкварками. При свете факелов и свечей сцена трапезы выглядела живописно и лирично. Ребристый свод, голые стены, дубовый стол, распятие, подсвечники, обросшие фестонами воска, пятно белой доминиканской рясы, цветная глазурь глиняных сосудов, юбка и передник прислуживающей девки – все это смотрелось как на миниатюре из служебника. Недоставало только виньеток.
Однако благостное настроение портили и нарушали пронзительные вопли и крики боли, через правильные промежутки времени доносившиеся из еще глубже расположенного подземелья, вход в которое, словно врата ада, освещали красные мерцающие всполохи огня.
Стенолаз задержался у ступеней. Ждал. Инквизитор ел. Не спешил. Съел все, до самого дна, даже выскреб ложкой то, что пригорело. Лишь после этого поднял голову. Кустистые, грозно сросшиеся брови придавали его лицу серьезность, из-за чего он казался старше, чем был в действительности.
– От епископа Конрада, верно? – догадался он. – Ваша светлость, господин…
– Фон Грелленорт, – напомнил Стенолаз.
– Конечно, конечно. – Гжегож Гейнч легким движением пальцев подозвал девку, чтобы та стерла со стола. – Биркарт фон Грелленорт, доверенный и советник епископа. Присаживайтесь.
Истязаемый завыл в подземелье, закричал дико и невнятно. Стенолаз сел. Инквизитор отер с подбородка остатки жира. А немного погодя проговорил:
– Епископ, кажется, покинул Вроцлав? Выехал?
– Вы изволили сказать, ваше преподобие.
– Вероятно, в Нису? Навестить госпожу Агнешку Зальцведель?
– Его милость, – Стенолаз никак не прореагировал на произнесенное инквизитором имя последней епископской любовницы, удерживаемое в глубочайшей тайне, – его милость не привык информировать меня о таких деталях. Я ими также не интересуюсь. Тот, кто сует нос в дела инфулатов, рискует его лишиться. А мне мой нос дорог.
– Не сомневаюсь. Но я имею в виду вовсе не сенсации, а лишь здоровье его милости. Ведь епископ Конрад человек уже не первой молодости и должен избегать избытка напряженных турбаций[237]… А ведь прошла всего неделя после того, как он удостоил чести Ульрику фон Райн. К тому же визиты к бенедиктинцам… Вы удивлены, господин рыцарь? Инквизитор обязан знать все.
Из подземелья вырвался крик. Отрывистый, переходящий в хрип.
– Обязан знать все, – повторил Гжегож Гейнче. – Поэтому я знаю, что епископ Конрад странствует по Силезии не только ради того, чтобы посещать замужних женщин, молодых вдов и монашенок. Епископ Конрад готовит новый поход на Брумовско. Пытается склонить к сотрудничеству Пшемека Опавского и господина Альбрехта фон Колдица. Заручиться вооруженной поддержкой господина Путы из Частоловиц, клодненского старосты.
Стенолаз не вымолвил ни слова и не опустил глаз.
– Епископу Конраду, – продолжал инквизитор, – кажется, не мешает то, что король Зигмунт и князья Империи пришли к совершенно иному решению, а именно, что не следует повторять ошибок предыдущих крестовых походов. Что надлежит поступать обдуманно и без эйфории. Что необходимо подготовиться. Заключить союзы и альянсы, собрать средства, перетянуть на нашу сторону моравских панов. И временно воздержаться от военных авантюр.
– Его милости епископу Конраду, – прервал слова Гейнча Стенолаз, – нет необходимости оглядываться на князей Империи, ибо в Силезии он им ровня… если не выше их. К тому же добрый король Зигмунт, кажется, занят… Будучи форпостом христианства, он с оружием в руках занимается турками на Дунае. Хочет получить новый Некрополь. А может, пытается забыть о других взбучках, тех, которые три года тому получил от гуситов под Немецким Бродом, может, силится забыть, как бежал оттуда. Но, надо думать, все еще помнит, ибо не шибко спешит в новый чешский поход. Следовательно, епископ Конрад, видит Бог, пытается напугать еретиков. Вы ведь знаете, ваше преподобие, si vis pacem, para bellum[238].
– Я знаю также, – инквизитор спокойно выдержал взгляд Стенолаза, – что nemo sapiens, nisi patiens[239]. Но оставим это. У меня было к епископу несколько дел. Несколько вопросов. Но коли он выехал… Что делать… Ибо рассчитывать на то, что на мои вопросы ответите вы, господин Грелленорт, я, пожалуй, не могу. Не так ли?
– Все зависит от характера вопросов, которые ваше преподобие соизволит задать.
Инквизитор некоторое время молчал. Походило на то, что ждал, когда истязаемый в подземелье человек закричит снова.
– Речь идет, – проговорил он, когда крик возобновился, – о странных случаях смертей, загадочных убийствах… Господин Альбрехт фон Барт, убитый под Стшелином. Господин Петер де Беляу, убитый где-то под Генриковом. Господин Чамбор из Гессенштайна, тайно зарезанный в Собутке. Купец Ноймаркт, на которого напали и убили на свидницком тракте. Купец Пфефферкорн, убитый на самом пороге немодлинской колегиаты[240]. Странные, таинственные, загадочные смерти, нераскрытые убийства случаются последнее время в Силезии. Епископ не мог об этом не слышать. Вы тоже.
– Ну что ж, не возражаю, кое-что дошло до нас, – равнодушно согласился Скалолаз. – Однако слишком-то мы головы себе этим не забиваем. Ни епископ, ни я. С каких это пор убийство стало таким уж событием? То и дело кто-то кого-то убивает. Вместо того чтобы любить ближнего своего, люди ненавидят и готовы за любой пустяк отправить его на тот свет. Враги есть у каждого, а в мотивах никогда недостатка не было.
– Вы прямо-таки читаете мои мысли, – столь же равнодушно бросил Гейнче. – И срываете слова прямо у меня с языка. То же самое на первый взгляд относится и к невыясненным убийствам. Казалось бы, нет ни мотива, ни врага, на которого сразу падает подозрение. Там соседские неурядицы, тут супружеские измены, здесь кровная месть, вроде бы виновные совсем рядом, рукой подать, все ясно. А присмотришься повнимательней… и ничего не ясно. Именно это в подобных убийствах и необычно.
– Только это?
– Не только. Удивляет поразительная, прямо-таки невероятная искушенность преступника… либо преступников. Во всех случаях нападения совершались неожиданно, просто как гром среди ясного неба. Буквально с ясного. Потому что все убийства приходятся на полдень. Почти точно на полдень.
– Интересно…
– Именно это я имел в виду.
– Интересно, – повторил Стенолаз, – нечто другое. То, что вы не распознаете слов псалма. Вам ни о чем не говорит sagitta volans in die[241]. Стрела, поражающая словно молния, падающее с ясного неба острие, несущее смерть? Вам ничего не напоминает демон, уничтожающий в полдень[242]? Удивляюсь.
– Стало быть, демон. – Инквизитор поднес сведенные ладони ко рту, но не сумел полностью заслонить саркастическую улыбку. – Демон рыскает по Силезии и совершает преступления. Демон и демоническая стрела, sagitta volans in die. Ну, ну. Невероятно.
– Haeresis est maxima, opera daemonum non credere[243], – немедленно парировал Стенолаз. – Неужели я, простой смертный, должен напоминать об этом папскому инквизитору?
– Не должен. – Взгляд инквизитора стал жестким, в голосе прозвучала опасная нотка. – Никак не должен, господин фон Грелленорт. Не напоминайте мне, пожалуйста, больше ни о чем. Лучше сосредоточьтесь на ответах на мои вопросы.
Полный страдания вопль из подземелья достаточно многозначительно сопроводил сказанное. Но Стенолаз даже не вздрогнул.
– Я не в состоянии, – проговорил он, – помочь вашему преподобию. И хоть, как я уже сказал, слухи об убийствах дошли до меня, имена упомянутых вами жертв мне ни о чем не говорят. Я никогда не слышал об этих людях, сообщения об их судьбах для меня новость. Мне кажется, нецелесообразно расспрашивать о них его милость епископа. Он ответит то же самое, что и я. И добавит вопрос, задать который я не осмеливаюсь.
– А вы осмельтесь. Вам это ничем не грозит.
– Епископ спросил бы: чем упомянутые фон Беляу, Пфефферкорн, тот, не упомнил, Чамбор или Бамбор заслужили внимания Священного Официума?
– Епископу, – сразу же ответил Гейнче, – тут же сказали бы, что у Священного Официума в отношении упомянутых лиц имелись suspicio de haeresi[244]. Подозрения о прогуситских симпатиях. В подчинении еретическому влиянию. В контактах с чешскими отщепенцами.
– Надо же! Какие, однако, негодники. Стало быть, если они убиты, то у Инквизиции нет поводов их оплакивать. Епископ, насколько я его знаю, несомненно, сказал бы, что только рад этому и что кто-то выручил Официум.
– Официуму не нравится, когда его выручают. Так ответил бы я епископу.
– А епископ заметил бы, что в таком случае Официум должен действовать четче и оперативнее.
Из подземелья снова вырвался крик – на этот раз гораздо более громкий, чудовищный, протяжный и продолжительный. Тонкие губы Стенолаза скривились в пародии на улыбку.
– Ого, – указал он движением головы. – Раскаленное железо. До того было обычное страппадо и тиски на пальцах ног и рук. Правда?
– Это закоренелый грешник, – равнодушно ответил Гейнче. – Haereticus pertinax. Впрочем, не будем уклоняться от темы, рыцарь. Соблаговолите передать его милости епископу Конраду, что Святая Инквизиция с возрастающим недовольством наблюдает за тем, как таинственно гибнут люди, на которых имеются доносы. Люди, подозреваемые в еретичестве, контактах и сговоре с еретиками. Эти люди погибают прежде, чем Инквизиция успевает их допросить. Похоже, что кто-то хочет замести следы. А тому, кто заметает следы еретичества, самому трудно будет защититься от обвинения в ереси.
– Я передам это епископу слово в слово, – насмешливо улыбнулся Стенолаз. – Однако вряд ли он испугается. Он не из пугливых. Как и все Пясты.
После только что прозвучавшего вопля казалось, что громче и ужаснее пытаемый крикнуть уже не сможет. Но так только казалось.
– Если и теперь он ни в чем не признается, – сказал Стенолаз, – то не признается уже никогда.
– Мне кажется, у вас есть опыт.
– Не практический, упаси Боже. – Стенолаз скверно ухмыльнулся. – Однако практиков почитывал. Бернарда Ги, Николая Эймериха. И ваших крупных силезских предшественников: Перегрина Опольского, Яна Швенкефельда. Последнего я особенно рекомендовал бы вашему преподобию.
– Правда?
– Не иначе. Брат Ян Швенкефельд утешался и ликовал всякий раз, когда чья-то таинственная рука приканчивала мерзавца-еретика либо еретического пособника. Брат Ян от души благодарил оную таинственную руку и читал пачеж за ее благополучие. Просто становилось одним паршивцем меньше, благодаря чему у самого брата Яна оставалось больше времени на других стервецов. Ибо брат Ян считал правильным и полезным держать грешников в постоянной тревоге. Дабы, как то предписывает Книга Второзакония, грешник днем и ночью дрожал от страха, не будучи уверенным в сохранении жизни. Чтобы утром думал: «От кого зависит, что я доживу до вечера?» А вечером: «Как знать, доживу ли до утра»[245].
– Любопытные вещи вы говорите, господин рыцарь. Будьте уверены, я это обдумаю.
– Вы утверждаете, – сказал после недолгого молчания Стенолаз, – и эту точку зрения подтвердили уже многочисленные папы и доктора Церкви, что колдуны и еретики – одна гигантская секта, действующая отнюдь не хаотично, а в соответствии с огромным, придуманным самим сатаною планом. Вы упорно утверждаете, что ересь и maleficium[246] творит одна и та же тайная, численно могущественная, объединенная, идеально устроенная, управляемая дьяволом организация. Организация, которая в ожесточенном и упорном бою последовательно реализует план ниспровержения Бога и захват власти над миром. Тогда почему же вы так горячо отвергаете предположение, что в этом бою и другая воюющая сторона… создала свою собственную… тайную организацию? Почему вам так не хочется в это верить?
– Хотя бы потому, – спокойно ответил инквизитор, – что такую точку зрения не санкционировал ни один из пап и докторов Церкви. Потому, добавлю, что Богу нет нужды ни в каких тайных организациях, имея нас, Святой Официум. Потому, добавлю еще, что слишком много я встречал сумасшедших, полагающих себя оружием Божиим, действующих как посланцы Бога и от имени Провидения. Я видел уже очень многих, которые слышали Голоса.
– Можно только позавидовать. Вы видели многих. Кто бы мог подумать, глядя на ваше юное преподобие.
– Поэтому, – Гжегож Гейнч не обратил внимание на издевку, – когда наконец ко мне в руки попадет эта sagitta volans, этот самозваный демон и Божие оружие… То он кончит жизнь отнюдь не мученичеством, на которое наверняка рассчитывает, а тем, что будет заперт на три замка в Narrenturm’e. Ибо место шута, глупца и сумасшедшего – в Башне шутов.
На ступенях, ведущих в подземелье, из которого уже долгое время не долетали крики, зашаркали башмаки.
Вскоре в зал вошел тощий доминиканец, подошел к столу, поклонился, демонстрируя испещренную коричневыми пятнами лысину под узким венчиком тонзуры.
– Ну и как, – спросил совершенно равнодушно Гейнче, – брат Арнульф? Он признался наконец?
– Признался.
– Bene. А то я уже начал было скучать.
Монах поднял глаза. В них не было ни равнодушия, ни усталости. Было ясно, что процедура в подземелье ратуши его нисколько не утомила и не надоела. Совсем наоборот. Было очевидно, что он с величайшим удовольствием повторил бы все снова. Стенолаз улыбнулся братской душе. Доминиканец в ответ не улыбнулся.
– И что? – подогнал инквизитор.
– Показания записаны. Он сказал все. Начиная от вызова демона, теургии и конъюрации вплоть до тетраграммации и демонологии. Сообщил содержание и обряд подписания цирографа. Описал всех, кого видел на шабашах и черных мессах. Однако не выдал, хоть мы старались, мест укрытия магических книг и гримуаров. Мы заставили его назвать имена тех, для которых он изготовил амулеты, в том числе и амулеты убивающие. Признался также, что с дьявольской помощью, используя urim и thurim[247], принудил повиноваться и соблазнил девушку…
– О чем ты мне говоришь, братишка? – проворчал Гейнче. – Что ты несешь о демонах и девицах? Контакты с чехами. Имена таборитских шпионов и эмиссаров. Тайники контактов. Места укрытия оружия и пропагандистских материалов. Имена завербованных! Имена лиц, симпатизирующих гусизму!
– Ничего этого, – заикаясь, ответил монах, – он не выдал.
– Значит, – Гейнч встал, – завтра примешься за него снова. Господин фон Грелленорт…
– Уделите мне, – Стенолаз указал глазами на тощего монаха, – еще минутку.
Инквизитор нетерпеливым жестом отослал монаха. Стенолаз ждал, пока тот уйдет.
– Я хотел бы проявить добрую волю. Надеюсь, это останется между нами. В отношении тех загадочных смертей я хотел бы, если позволите, посоветовать вашему преподобию…
– Только не говорите, пожалуйста… – Гейнч, не поднимая глаз, барабанил пальцами по столу. – Не говорите, что всему виной евреи. Использующие urim и thurim.
– Я посоветовал бы поймать… И тщательно допросить… Двух человек.
– Имена.
– Урбан Горн, Рейнмар из Белявы.
– Брат убитого? – Гжегож Гейнче поморщился, но на это ушла лишь секунда. – Ха. Только без комментариев, без комментариев, господин Биркарт. А то вы опять готовы упрекнуть меня в незнании Священного Писания, на сей раз истории о Каине и Авеле. Так, значит, двух этих. Ручаетесь?
– Ручаюсь.
Несколько секунд они мерили друг друга колючими взглядами. «Отыщу обоих, – думал инквизитор. – И скорее, чем ты полагаешь. Это моя забота». «А моя, – думал Стенолаз, – забота в том, чтобы ты не нашел их живыми».
– Прощайте, господин Грелленорт. С Богом.
– Прощайте, ваше преподобие.
Аптекарь Захарис Фойгт стонал и охал. В келье ратушева карцера его кинули в угол, в приямок, в котором собиралась вся стекающая со стен влага. Солома здесь была гнилая и мокрая. Однако аптекарь не мог не только сменить места, но и вообще едва шевелился – у него были разбиты локти, вывернуты плечевые суставы, переломаны голени, размозжены пальцы рук, к тому же страшно горели обожженные бока и ступни. Поэтому он лежал навзничь, стонал, охал, моргал покрытыми запекшейся кровью веками. И бредил.
Прямо из стены, из покрытой плесенью кладки, непосредственно, казалось, из щелей между кирпичами, вышла птица. И тут же преобразилась в черноволосого, всего в черном человека. То есть в человекообразную фигуру. Ибо Захарис Фойгт прекрасно знал, что это не был человек.
– О мой господин, – застонал он, корчась на соломе. – О князь тьмы… О любезный мэтр… Ты пришел! Не покинул в несчастье своего верного слугу…
– Вынужден тебя разочаровать, – сказал черноволосый, наклоняясь над ним. – Я не дьявол. И не посланник дьявола. Дьявол мало интересуется судьбами единиц.
Захарис Фойгт раскрыл рот для крика, но смог только захрипеть. Черноволосый схватил его за виски.
– Место укрытия трактатов и гримуаров, – сказал он. – Сожалею, но я вынужден их из тебя извлечь. Тебе уже от книг не будет никакого проку. А мне они сильно пригодятся. А коли уж я здесь, то спасу тебя от дальнейших мучений и пламени костра. Не благодари.
– Если ты не дьявол… – Глаза теряющего власть над собой чародея испуганно расширились. – Значит, ты прибыл… От того, другого… О Боже…
– И снова тебя разочарую, – усмехнулся Стенолаз. – Этот судьбами единиц интересуется еще меньше.
Глава пятнадцатая,
в которой оказывается, что хоть понятия «рентабельное искусство» и «художественный гешефт» вовсе не должны обозначать contradictio in adiecto [248], тем не менее в области культуры даже эпохальные изобретения не так-то легко находят спонсоров.
Как и каждый большой город в Силезии, Свидница угрожала крупным денежным штрафом каждому, кто осмелится выкинуть на улицу мусор либо нечистоты. Однако незаметно было, чтобы этот запрет исполнялся неукоснительно, и даже наоборот, было ясно, что упомянутая угроза никого не волновала.
Короткий, но обильный утренний дождь подмочил улицы города, а копыта лошадей и волов быстро превратили их в дерьмо-грязево-соломенное болото. Из болота, словно колдовские острова из океанских вод, вырастали кучи отходов, богато изукрашенные различнейшими, порой весьма фантазийными экземплярами падали. По самой густой грязи прогуливались гуси, по самой жидкой – плавали утки. Люди, то и дело оступаясь, с трудом перемещались по «тротуарам» из досок и дранки. Хотя законы магистрата угрожали штрафом и за свободный выпас скотины, тем не менее по улицам во всех направлениях бегали визжащие свиньи. Свиньи казались ошалевшими, мотались вслепую на манер своих библейских пращуров из страны Гергесинской[249], задевая пешеходов и распугивая лошадей.
Они миновали улочку Ткачей, потом громыхающую молотками Бондарную, наконец Высокую, за которой уже раскинулся рынок. Рейневана так и подмывало заглянуть в недалеко расположенную и знаменитую аптеку «Под золотым линдвурмом», поскольку он хорошо знал аптекаря, господина Христофора Эшенлёра, у которого обучался основам алхимии и белой магии. Однако отказался от своего намерения, ибо последние три недели многому научили его касательно принципов конспирации. Кроме того, Шарлей подгонял. Он не замедлил шага даже у одного из подвалов, в которых подавали пользующееся мировой славой свидницкое мартовское пиво. Быстро – насколько позволяла толкучка – они пересекли торговые ряды в галерее напротив ратуши и пошли по забитой телегами улице Крашевицкой. Затем вслед за Шарлеем вошли под низкий каменный свод, в темный туннель ворот, в котором воняло так, словно здесь испокон веков освобождались от избытка мочи древние племена силезцев и дзядошан. Из ворот попали во двор. Тесное пространство было завалено всяческим мусором и поломанными предметами, а кошек было столько, что не постыдился бы храм богини Баст в египетском Бубастисе.
Конец двора подковой окружала внутренняя галерея, рядом с ведущей туда крутой лестницей стояла деревянная статуя, носящая слабые следы краски и позолоты – свидетельниц многих канувших в Лету веков.
– Какой-нибудь святой?
– Лука Евангелист, – объяснил Шарлей, ступая на скрипящие ступени. – Покровитель художников-маляров.
– А зачем мы сюда, к этим малярам-художникам, пришли?
– За различной экипировкой.
– Потеря времени, – решил нетерпеливый и стремящийся к своей любимой Рейневан. – Теряем время. Какая еще экипировка? Не понимаю…
– Тебе, – прервал Шарлей, – подыщем онучи. Новые. Поверь, они срочно необходимы. Да и мы вздохнем свободнее, когда ты расстанешься со старыми.
Лежащие на ступенях кошки неохотно уступали дорогу. Шарлей постучал, массивные двери отворились, и в них возник невысокий, худощавый и расчёхранный типус с синим носом, в халате, испещренном феерией разноцветных пятен.
– Мэтр Юстус Шоттель отсутствует, – сообщил он, смешно щуря глаза. – Зайдите позже, добрые… О Господи! Глазам своим не верю! Благородный господин…
– Шарлей, – быстро упредил демерит. – Надеюсь, ты не заставишь меня торчать на пороге, господин Унгер.
– А как же, а как же… Прошу, прошу…
Внутри помещения крепко пахло краской, льняной олифой и смолой, кипела активная работа. Несколько пареньков в замасленных и испачканных фартуках копошились вокруг двух странных машин. Машины были оборудованы во́ротами и напоминали прессы. Прессами они и были. На глазах у Рейневана из-под прижатого деревянным винтом штампа вытащили кусок картона, на котором была изображена Мадонна с Младенцем.
– Интересно.
– Что? – Синеносый господин Унгер оторвал взгляд от Самсона Медка. – Что вы сказали, молодой господин?
– Что это интересно.
– И более того. – Шарлей поднял лист, вынутый из-под другой машины. На листе отпечатались несколько ровно уложенных прямоугольников. Это были игральные карты для пикета – тузы, выжники и нижники, современные, по французскому образцу, в цветах pique и trefle[250].
– Полную талию, – похвалился Унгер, – стало быть, тридцать восемь карт, мы делаем за четыре дня.
– В Лейпциге делают за два.
– Но серийную дешевку, – возмутился синеносый. – С паршивых гравюр, кое-как раскрашенные, криво резанные. Наши, ты только взгляни, какой четкий рисунок, а когда я их раскрашу, получится шедевр. В наши карты играют в замках и дворцах, да что там, в кафедрах и колегиатах, а в те, лейпцигские, только лапсердаки[251] режутся в шинках да борделях…
– Ну ладно, ладно. Сколько берете за талию?
– Полторы копы грошей, если loco-мастерская. Если franco-клиент, то плюс стоимость доставки.
– Проводите в индергмашек[252], господин Шимон. Я там подожду мастера Шоттеля.
В комнате, через которую они проходили, было тише и спокойнее. Здесь за станками сидели трое художников. Они были так увлечены работой, что даже не повернули голов.
На доске первого художника был только грунт и эскиз, поэтому содержание будущей картины угадать было нельзя. Произведение второго было уже достаточно проработано, проступило изображение Саломеи с головой Яна Крестителя на блюде. На Саломее было ниспадающее до ног и совершенно прозрачное платье, художник позаботился о том, чтобы проступили детали. Самсон Медок хмыкнул. Рейневан вздохнул, взглянул на третью доску и вздохнул еще громче.
Картина была почти совершенно окончена и изображала святого Себастьяна. Однако Себастьян на картине принципиально отличался от привычных изображений мученика. Правда, он по-прежнему стоял у столба, по-прежнему вдохновенно улыбался, несмотря на многочисленные стрелы, вонзенные в живот и торс эфеба[253]. Впрочем, на этом подобие оканчивалось. Ибо здешний Себастьян был абсолютно гол. Он стоял, так роскошно свесив чрезвычайно толстый срам, что картина эта у любого мужчины должна была вызывать чувство собственной неполноценности.