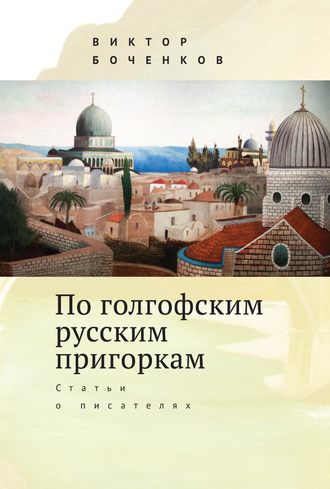
Полная версия
По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях
Пустозерский костёр превращается в экзистенциальный символ, за которым возникают вопросы о смысле жизни и предназначении человека. О выборе пути. Надо ли идти этой дорогой, если в конце будет огненная точка, а за ней небытие? И что в результате, если пройдёшь и претерпишь?
Нет участи слаще,Желанней конца,Чем пепел, стучащийВ людские сердца.Обычный человек из кожи и костей, с желудком, печенью и селезёнкой – всё как у всех – становится вдруг человеком-идеей.
Пусть стучит этот пепел.
В этой способности отзываться в поколениях – секрет памяти и залог её бессмертия.
В кривом зеркале отвлечённой философииАввакум и старообрядцы отстаивали идею преемственности русского взгляда на церковное устройство, освящённое Стоглавым Собором. Отсюда совершенно особое место в русской историософии обретает это событие 1551 года, отринутое церковными реформаторами. «Ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков». Что протопоп Аввакум проявил себя как последовательный русский националист, обратил внимание уже в советские годы писатель Всеволод Никанорович Иванов. Тоже, как и Арсений Несмелов, эмигрант (впрочем, вернувшийся потом из Китая; есть версия, что разведчик). Его очерк «Оправданный Аввакум» входит в сборник «Огни в тумане: Думы о русском опыте», увидевший впервые свет в Харбине в 1932-м. В нём такие слова: «Причина этого двухсотпятидесятилетнего пренебрежения к страданиям протопопа Аввакума со стороны русского общества лежит в том, что протопоп Аввакум не был революционером. Более того. Он был страстным убежденным русским националистом (разрядка Вс.Н. Иванова. – В.Б.). Вот почему имя его отсутствовало до сих пор в синодиках русской общественной истории». Потрясения всегда заставляют обернуться назад. Смотреть не в будущее, а в прошлое. «Мы видим, что, в противность настоящему, в прошлом мы имели крепкое, сильное слаженное государство, и это преисполняет нас уважением к тем деятелям этого государства, которые его создали, и тем, кто держал тогда высоко стяг русского национального дела».
В относительно недавние годы литературоведы старались разрешить вопрос: русская советская и русская эмигрантская литература – две разных литературы или одна? Бравурный ответ – конечно, одна! И он правильный. Только с оговоркой. Как уточняет филолог Алексей Чагин, «достаточно полным ответом, учитывающим всю непростую диалектику взаимодействия двух потоков русской литературы в 1920–1930-е годы, могла бы стать “формула”: одна литература и два литературных процесса»13. Можно назвать нескольких писателей, так или иначе причастных к старообрядческой среде, из неё вышедших (и несмотря на это, совершенно не похожих друг на друга): Михаил Пришвин (мать старообрядка), Николай Клюев, Сергей Клычков, Пимен Карпов, Фёдор Гладков, Афанасий Коптелов, Елизар Мальцев, Борис Шергин, Исай Калашников, драматург Степан Лобозеров… Между ними нет никакого родства «по старообрядческой линии», ни мировоззренческого, ни художественного. И собственно старообрядческой, обособленной, художественной литературы в современном понимании тоже нет, если не считать отдельных любительских, даже вполне удачных рассказов и стихотворений на страницах старообрядческой периодики начала ХХ столетия. Есть духовная литература: апологетика, есть сатирические стихи в жанре райка, фольклор: духовные песни, стихи, канты, есть церковно-общественная публицистика. Есть труды выговских насельников, «Поморские ответы», богословские работы святителя Арсения (Швецова), Илариона Кабанова, огромный корпус статей епископа Михаила (Семенова), Фёдора Мельникова, Никифора Зенина, Ивана Кириллова… Но здесь уместен тот же вопрос: что это, русская духовная литература или уже литература какого-то другого, особого народа?
Это тоже часть единой литературы, её особый поток. Она должна изучаться наравне и в параллели с другими видами апологетической и духовной литературы.
Что такое старообрядческая история? Это история отдельного народа? Нет же, единая русская. Но в то же время особый и отдельный «исторический процесс», текущий где-то в стороне от магистрального «казённого» православия, а потому не изучаемый как следует, отброшенный на научные задворки, почти маргинальный. Но если мы ещё русские, для нас в нашей истории не должно быть несущественных записей на её полях. Оба процесса – литературный или исторический – нужно изучать параллельно в их сопоставлении. А это означает необходимость нового методологического подхода к истории отечественного православия.
Один пример, что получается, если делать наоборот.
Представим: сидит у себя в редакции газеты «Русь» Иван Сергеевич Аксаков. Он видится мне таким, каким изображен на фотографии А.И. Деньера: очки в тонкой оправе, окладистая борода, от нижнего края жилетки куда-то в боковой карман спускается цепочка – должно быть, часы. Редактор склонился над рукописью, стол завален бумагами. Фотограф запечатлел его, наверное, в домашней обстановке, и в рабочем кабинете не было того круглого журнального столика с высокими ажурными ножками, на который Иван Сергеевич положил левую руку, не было кресла с длинными тесёмками бахромы и низкой спинкой, с короткими подлокотниками и свисающими вниз кисточками. Это парадный «антураж». Представим ещё книжный шкаф, как на заднем плане снимка. Почему бы ему не быть и в редакции московской газеты.
Открывается дверь.
Входит «юноша бледный со взором горящим».
– Здравствуйте, Иван Сергеевич! Я принес вам статью.
– Что у вас, Владимир Сергеевич, на сей раз?
– «О церкви и расколе». Вот.
– Ого!
Конечно, наверняка всё было вовсе не так. Но Аксакова настолько воодушевил новый труд начинающего философа, способного в свои неполных тридцать лет оригинально и самостоятельно мыслить, что он написал к его статье пространное послесловие.
В сентябре 1882 года в «Руси» был опубликован цикл В.С. Соловьёва «О церкви и расколе». Позднее он был переработан им в статью «О расколе в русском народе и обществе». Последняя часть увидела свет 2 октября, и в том же номере И.С. Аксаков поместил свой отклик «По поводу статьи В.С. Соловьёва “О церкви и расколе”».
Эта соловьёвская статья примечательна.
Она начинается словами о том, что истинная сущность церкви связана с её вселенским характером. Тут не поспоришь. Соловьёву особенно дорого понятие «кафоличность» (т.е. вселенский, надвременной и наднациональный характер церкви). «Раскол» якобы подменяет кафоличность размытыми понятиями старины или «отеческого предания», удаляясь от «божественного содержания, растворяя широкие врата всякому человеческому произволу и мудрованию». Но что такое «раскол»? Понятие, которым публицист постоянно оперирует, размыто и неопределенно. В «расколе» Соловьёв видит два «основных разветвления»: староверие с «поповщиной» и «беспоповщиной» и, как он пишет, «свободное сектантство». Церковную кафоличность отрицают и те и другие, каждый по-своему. Староверие распространялось в умственно неразвитой среде, а потому неизбежно должно было принять «грубые и невежественные формы». Избитый миссионерско-охранительный взгляд, ничего нового. Если с ним согласиться, получится, что дониконовская русская церковь не обладала никакой кафоличностью, так как там национальное начало взяло верх над вселенским, и никонианская реформа, получается, как раз внедряла эту самую кафоличность, а значит, была несомненным благом. И «свободное сектантство», и старообрядцы сходятся у Соловьёва при всех различиях в том, что для них «совсем не существует церковь как целое, вселенская церковь, независимая ни от места, ни от времени, не исчерпываемая ни настоящим, ни прошедшим». Соловьёв перечисляет эти сущностные признаки кафоличности, и ему кажется, что национальная традиция стирает, уничтожает, нивелирует их. (Что одно другому не мешает, как раз подчеркивал в 1914 году старообрядческий писатель и публицист Ф.Е. Мельников на диспуте «О сущности старообрядчества» в Политехническом музее.)
Отличительная особенность соловьёвской статьи – полное игнорирование старообрядческой литературы. Она не упускала из виду понятие о кафоличности, для этого достаточно обратиться хотя бы к некоторым старообрядческим сочинениям. Люди другой эпохи, авторы «Поморских ответов», заявляли в своё время прямо противоположное русскому философу: «Как древлеправославные россияне, прадеды и отцы наши и святые российские чудотворцы, пребывая с теми же древлецерковными уставами, служили Богу по староцерковным книгам, пребывая во святой православной кафолической Церкви, так и мы, с тем же древлецерковным святоотеческим содержанием оставаясь, пребывать надеемся в той же святой древлеправославнокафолической Церкви» (курсив мой. – В.Б.)14. Кто же здесь подменяет кафоличность стариной? Кто же утверждает приоритет национального или, по Соловьеву, «человеческого начала», которое доминирует над Божией правдой? Старообрядческая апологетика, неведомая философу, отстаивает эту кафоличность как великую ценность. Сущностная особенность старообрядческого мировоззрения именно в том и заключается: не мы, сторонники дониконовских чинов и последований, старого церковного уклада, откололись от Церкви, мы, напротив, остались прежними. Мы никуда не ушли. И доказательству этого тезиса посвящено всё содержание «Поморских ответов».
Соловьёв умаляет значение церковного предания, сводит его к «местным русским обычаям», которые, по его мнению, закрепил Стоглавый Собор.
«Вселенская истина исчезла здесь перед народным обычаем, который выдавался за вселенскую истину, – пишет он, – важно то, что на место Божьего и всемирного вдруг явилось своё, отдельное». Это было «началом болезни», её вызвали суровые действия церковных властей. «Но если правители церковные иногда неправо действовали, то раскольники неправо мыслили»15. Во как завернул! А что тут лучше, что хуже, действовать или мыслить, и разве не мысль определяет действие? Утверждаясь на отеческом предании, старообрядцы-де забывали, что «отцы их были такие же люди, как и они, и что, следовательно, отеческое предание само по себе есть лишь человеческое предание и, как такое, не может иметь высшего божественного авторитета»16. Божественное значение, по Соловьёву, имеет не «частное предание» (национальный обычай), а предание «вселенское, или кафолическое», которое «священно не по временной старине и не по человеческому обычаю, а по своему божественному происхождению и вечному значению»17. Дело не в предании, а в его кафолическом характере, заключает он.
Но в том-то и суть, что старообрядцы, Аввакум, в частности, и его соузники, отстаивали как раз не народный, не национальный церковный обычай или обряд, а апостольское (выделю это) предание, каким было, например, двуперстное крестное знамение. Это подчеркивали старообрядческие апологеты разных, далеких друг от друга, времён. Эта мысль красной нитью проходит и в «Поморских ответах», и, например, у епископа Арсения (Швецова) Уральского и Оренбургского в его книге «Оправдание старообрядствующей Христовой Церкви». Преданию у него посвящена здесь отдельная глава. Церковь – не только иерархия, это ещё верный и благочестивый народ, пишет он. Отменять апостольских преданий ни народ, ни иерархия, никакой Собор не имеют права. В том и дело, что апостольское предание несёт в себе вселенскую (кафолическую) истину.
«Оправдание…» сошло с типографского станка за границей, нелегально, на пять лет позже соловьёвской статьи. Но это всё равно произведения одной (подчеркну) эпохи. «Поморские ответы» издал отдельной книгой тот же епископ Арсений в 1885-м, но при желании можно было изучить их по старинной рукописи, обратившись к сведущим людям. Аксаков обзавелся ими в свое время, потом подарил Хомякову, так толком и не прочитал. Проблема публикации старообрядческих памятников была уже обозначена, и работы первых апологетов XVII века издавал Н.И. Субботин. Соловьёв не упоминает, повторюсь, ни одного старообрядческого сочинения, ни посланий, ни челобитных, ничего… Он их и не знал. Его статья – отвлеченное умствование. Он нашёл особый историософский ракурс, но опирался на избитые и расхожие миссионерские охранительские клише (одно из них априорная виновность старообрядцев – «раскольников»), не сумел от них уйти.
Ложная методология повела в тупик и Соловьёва, и Аксакова. А это не второстепенные публицисты, тот и другой. Ошибкой было заданное идеологическое устремление обличить одних, обелить других.
Чтобы понять русское православие, трагическое разделение единого народа, церковную трагедию XVII столетия, необходим надёжный компас. Без него нельзя ориентироваться в русском океане, невозможно его измерить. Я повторю слова о необходимости параллельного, сопоставительного, изучения русской церковной истории, ново- и старообрядческой. Всё это наше.
Не бойся быть русскимМне вспоминаются слова одного второстепенного героя из «Жизни Клима Самгина», Безбедова: «И не воспитывайте меня анархистом, – анархизм воспитывается именно бессилием власти, да-с! Только гимназисты верят, что воспитывают – идеи. Чепуха! Церковь две тысячи лет внушает: “возлюбите друг друга”, “да единомыслием исповемы” – как там она поёт? Чёрта два – единомыслие, когда у меня дом – в один этаж, а у соседа – в три!»
А ведь он прав.
Меня однажды спросили: какие перспективы у старообрядчества? Я не знаю. А какие «перспективы» у христианства вообще, играет ли оно в обществе, в конфликте бедных и богатых, какую-то роль?..
Перспективы у того, кто сгладит эти социальные противоречия. Кто поставит себе целью преодоление человеческого небратства. И, как хотите, эта задача, её решение, лежит в том числе через преодоление материального неравенства. Чтобы вступить в общину, первые христиане продавали земли и клали вырученные деньги к ногам апостолов. Вспомним историю из пятой главы «Деяний» об Анании и Сапфире, утаивших часть имущества для себя. Они внезапно умерли. Их поступок толкуется как грех лжи по отношению к Богу. Иоанн Златоуст добавляет к нему сребролюбие и «принятие сатанинских желаний», увеличивая тем самым его тяжесть втрое. Но почему-то понятие это, небратство, небратолюбие, всегда куда-то ускользает из церковного лексикона. Пока церковь служит кесарю, а кесарь – своим «друзьям», не Богу и не России, а «суете своей», никаких перспектив у неё нет.
– Ну ладно. Братство. Да. Об этой абстрактной идее можно рассуждать очень долго и пространно. А что сейчас-то делать, вот прямо здесь и сейчас?
Я тоже задаю себе этот вопрос.
Есть одно дело, которое по силам всякому.
Повествуя о своих мытарствах и ссылках, Владимир Короленко написал рассказ «Яшка». В коридорах очередной тюрьмы герой видит на дверях несколько табличек с надписью «умалишённый». Ему отводят камеру по соседству с одним таким безумцем. Как только в коридоре слышатся шаги надзирателя, а тем более начальства повыше, он начинает стучать. Рассказчик знакомится со своим странным соседом по имени Яшка. Старообрядцем он прямо не назван, «он был сектант, приверженец “старого прав-закону”». В неволе он оказался не за веру, не за отказ креститься щепотью, а за неуплату земских повинностей. Он считал, что платить земству всё равно что воздавать антихристу, подчиняться надлежит только государю, больше никому. «С шестьдесят первого года, – поясняет Короленко, – мир резко раскололся на два начала: одно государственное, другое – гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе отрицал всецело без всяких уступок. Над первым он водрузил осьмиконечный крест и приурочил его к истинному прав-закону. Второе назвал царством грядущего антихриста». В его взглядах на устроение власти на земле всё спутано, но остаётся одна непреложная истина и мерило – царь, святость монархического начала.
Однако дело в другом. Яшка одержим особым служением – обличать неправедных начальников, чиновников, «антихристовых слуг», как он их называет, от обычного надзирателя до губернатора, и способ один – стучать в тюремную дверь. Он видит в своём стуке особую миссию и торжество над «беззаконниками». И вроде бы нет в нём никакого смысла, в этом грохоте. Но для Яшки есть. «Не подвержен я антихристу». «За великого государя стою…» За олицетворенную в монархической идее высшую правду… Яшка при этом даже и не знает, как этого государя по имени зовут. Важнее, что он есть, что существует это сакральное начало на земле. Для рассказчика он не безумец, он подвижник. В конечном счёте его увозят из острога в дом сумасшедших, но при появлении тюремного начальства другие заключенные начинают точно так же колотить в двери…
Подобное свидетельствование о неправде, которое в рассказе «делегируется» странному «сектанту», и есть, по-моему, одна из задач церкви в земных делах. Яшка потому и берёт и, главное, справляется со своей миссией, что поставлен вне церковно-этатических отношений. Пустозерский колокол, подвешенный на памятном поклонном кресте на стыке вертикальных и горизонтальных его перекладин, над символическим срубом из нескольких коротких брёвен, должен звонить в обличение творящихся на земле беззаконий. И не только он один.
Другая задача – утверждение русского самосознания. Мелкими делами, везде и всюду. «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах» (Аввакум)… Хватит унижать себя. Неудивительно, что такие стихи, как «Не бойся быть русским – не трусь, паренёк», пишет поэт со старообрядческими корнями и со «знаковой», как принято говорить, фамилией – Мария Аввакумова:
За этим не заговор и не намёк,За этим – желанье Господне.Он нас породил. Он один и убьёт.А прочие все – самозванцы.Да их ли бояться! Не трусь, паренёк,На русский призыв отзываться.Старообрядчеству семнадцатого и восемнадцатого веков учёные отводят особую роль в русификации и освоении российских пограничных земель. Селились, молились, сживались с другими народами, работали, пахали, сеяли… Теперь изменилось всё. Нужно русифицировать самих русских, и вовсе не на окраинах, а в больших городах.
Я, однако, далёк от мысли, тем более от убеждения, что старообрядчество, каким оно сложилось ныне, всё это выполнит. Оно даже не ставит себе таких задач, не предлагает подобных приоритетов. Оно сегодня слишком упорно стремится стать частицей, пусть маленькой, пусть едва заметной, современной государственной системы, играть по её «буржуйским» правилам, обрести в ней себя, надеясь на подачки, на милость, на «брошенную кость». В нём нет того мощного мирянского движения, какое было в начале ХХ века, с регулярным проведением съездов, с постановкой стратегических задач. Наиболее крупных конфессиональных ответвлений это касается в полной мере, другие слишком малочисленны, чтобы что-то менять. Проповедь против непомерного обогащения и вовсе не слышна. Это – дело какого-нибудь уже современного одинокого Яшки.
Пустозерский костёр – как таинственная точка истории православия на Руси. Оно сгорело и превратилось в пепел. Что-то иное пришло на смену, подделка, «иное мерило», говоря словами Ивана Аксакова. Началась иная Россия. Я пока не добрался до Пустозерска, а один мой знакомый, побывавший там, поведал, что его охватило странное ощущение вечности: ходишь, смотришь вокруг, и кажется, что прошло только двадцать минут, а на самом деле четыре часа. Как будто остановилось время. Или идёт, но медленней, незаметно. Так, кажется, стоит в реке вода, отражая неподвижные кучевые облака, а на деле течёт, и нельзя в неё войти дважды…
Остановилось время, и, значит, сруб ещё горит.
Современное старообрядчество не осознаёт, каким сокровищем оно обладает, – особым опытом сбережения родовой памяти, подорванным у русских. Именно её, эту родовую память, пытается отыскать и обрести в романе «Белые гуси на белом снегу», вышедшем на излёте советских лет, почти забытый сегодня прозаик Елизар Мальцев. Немало написавший о колхозной деревне, он задумался о собственных семейных истоках. На стене сельского дома в комнате он видит «прикнопленные» репродукции из «Огонька». Среди них – «Боярыня Морозова» Сурикова. «Сколько раз в жизни – и мальчиком, и юношей, и совсем недавно – я задерживался перед этой картиной в Третьяковке, но ни разу мне не подумалось, что боярыня Морозова имела отношение к жизни моих далёких предков, а значит, и ко мне». Он понимает вдруг, что без исторической памяти нет и народа, и ему самому предстоит «держать экзамен перед этой непреложной истиной». Филолог окрестит этот художественный приём мудрёным словом «введение экфрастического сюжета». Толпа вокруг саней с жидкой соломенной подстилкой, где сидит опальная старообрядка, раньше писателю казалась безликой. Но теперь он замечает, что в ней нет равнодушных лиц. Какой-то попик глумливо похохатывает, лицезрея чужое унижение, кто-то зубоскалит, слегка хихикает, просто ухмыляется, но больше сочувствующих: застыл на месте странник с котомкой, всплеснула руками барышня, а рядом, прижав ладони к груди, склонилась в молчаливой скорби её подружка, «и уж совсем не случайно оказался здесь босоногий юродивый.., он единственный из всей толпы отвечал боярыне двуперстным крещением». За розвальнями бежит мальчишка, оставляя глубокие следы в снегу. Он изображён спиной к зрителю.
Последний абзац первой части «Белых гусей…» мне хочется выписать. «Я жадно смотрел на этого подростка, месившего валенками снег, на левый рукав его полушубка, слишком великий для его малой руки, и мне уже казалось, что это я сам бегу за санями, пытаясь хоть одним словом выразить свою жалость опальной боярыне, бегу в своё прошлое, чтобы отыскать потерянный след нашего древнего старообрядческого рода. Ведь если без памяти о прошлом нет памяти о настоящем, то кому в блужданиях и потёмках откроется истина?»
Герой осознаёт, сколь значима родовая память, которая вмещает в себя нераздельно не только собственную историю с её личной оценкой, но всю историю народа. Так каждый должен представить себя этим мальчишкой, бегущим за собственной Историей, которую увозят на санях, отыскать и осмыслить созидательное чувство родства с событиями далёких уже веков. Этот путь в прошлое у каждого свой, он начинается с чувства, с осмысленного переживания, с сердца. Лишь через это открывается правда и таинственное сродство ушедших и будущих поколений. Не бойся быть русским, ты у себя дома.
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины не только ты один мне поддержка и опора, великий и могучий русский язык, но и мученики «Винограда российского», но ещё – как великая ценность, через унисонное пение и гуслицкую заставку, где каждая буква похожа на распустившийся райский цветок, через меднолитое распятие в почерневшей доске, когда-то запрещённое Синодом, через поблёкшую страницу подпольно изданного старообрядческого гектографа – ощущение неразрывной нити, связующей меня с моими русскими предками, которых я не знаю и не могу знать, но верую, что здесь, именно здесь и где-то рядом, тенью восставая из небытия, они направляют меня по жизни, они всегда живут и незримо присутствуют рядом. Всякий путь времён, каким бы длинным ни был, лежит через человеческое сердце. Моя история – моя опора и защита. Со мною мой язык и память и честное писательское слово…
Русский Гомер
Десять сокровищ Павла Мельникова (Андрея Печерского)
Из детских своих впечатлений Павел Иванович Мельников особенно запомнил одно дедовское наставление: «Учитесь, учитесь да читайте больше. Читайте “Записки…” Сюлли и “Деяния Петра Великого” (Голикова)… Петра Великого чтите, он наш полубог!..» Спустя несколько десятков лет он признался, когда писал автобиографию: «Разумеется, мы не понимали его слов, но имена Сюлли и Петра Великого врезались в мою память, и уже после мать моя растолковала мне предсмертный завет дедушки. Это с ранних лет заставило меня полюбить историю…»18
Максимильен де Бетюн Сюлли, упомянутый здесь, – глава французского правительства при Генрихе Четвертом, министр финансов, автор мемуаров. Они, эти его записки, выходили в России с 1770 по 1776 год маленькими книжками в восьмую долю листа, то есть размером примерно с ладонь, в десяти томах, довольно тоненьких, и дедушка писателя имел в виду именно это издание, где заглавная буква первого абзаца предисловия заключена в лавровый венок, в нижнем правом углу каждой страницы отпечатано целое слово или часть слова, с которого начнется следующая страница, где буква «в», набранная курсивом, похожа на непривычный нам квадрат, скошенный вправо набок, где страницы проставлены по центру верхнего поля и заключены в скобки… Другого не было, и Мельников читал именно это. Иван Иванович Голиков – отечественный историк XVIII века. «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России» – его капитальный многотомный труд, конечно, для детского чтения не предназначенный. Книга эта сошла с типографских станков сразу после «Записок…» Сюлли. Потом её издавали снова. В «Ленинке» я посмотрел издание 1840 года, второе. Оно без особых украшений в виде урн, виньеток, ангелочков с трубами, виноградных лоз или скрещенных дубовых веток с листьями и прочей мишуры. Но экземпляр, который я из любопытства заказал, был с овальным владельческим штампом: «Из библиотеки М.П. Погодина» с инициалами в центре.

