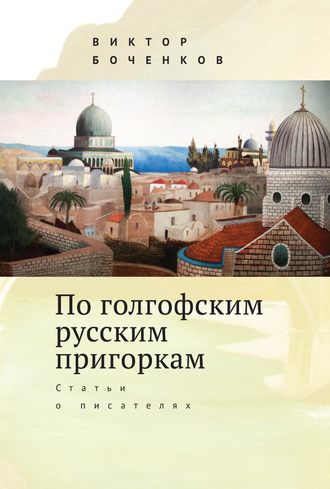
Полная версия
По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях
Что общего между французским сюринтендантом, российским императором и забытым историком конца XVIII века? Это, мне кажется, их государственное мышление, государственность как цементирующая идея всего общественного устройства, под которой прошёл такой непростой и такой великий восемнадцатый век. Это мысль о предопределённости судеб страны свыше, о монаршей воле, которой движет, управляет или направляет – как угодно – Божия воля, и потому всё великое свершает именно личность («мысль народная» явится позже). Монарх – олицетворение Бога на земле. Отдельный герой вроде Козьмы Минина – лишь орудие Божиего промысла, «чрез которое, – как говорит о нём Голиков, – Россия оживотворилась и воскресла». «Наш полубог», так дедушка отзывался о Петре не случайно… Всё, что делается и происходит в стране, делается и происходит исключительно в интересах государства, во имя его мощи, силы, нерасторжимости. Оба автора – убежденные сторонники и защитники монархии, и иначе не представляют государства. Бог, царь, народ, вот три звена прочной государственной цепи. Одного нет, всё распалось. Монархия движется идеей служения. Но мама писателя, думаю, постаралась подобрать для сына более простые слова, далёкие от социологии термины…
Это детское воспоминание писатель привёл в автобиографии, которая в двух вариантах помещена в последнем советском собрании его сочинений (1976 год) на «задворках» первого тома в качестве приложения. Набрана скромно маленьким шрифтом. Между тем здесь в нескольких строках обозначены два очень важных момента. Первый – влияние и роль старших в определении круга детского чтения и интересов вообще. Историческое сознание ребёнка начинает формироваться ещё до школы, именно в семье. Второй момент – содержательная сторона произведений, рекомендуемых для детского чтения, прежде всего это в данном случае книги, из которых ребёнок получил бы представление о: 1) своих национальных героях; 2) об истории отечества и тех событиях, которыми ему надлежит гордиться; 3) о национальных героях и истории других стран.
Представление о своих национальных героях, подлинных гениях, знание истории отечества и любовь к ней – одна из составляющих культурного ядра нации, что, как видим, превосходно понимал дедушка писателя, не зная, разумеется, таких определений. И о том же самом спустя столетие очень точно выскажется Иван Ильин: «Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное; которая живым опытом (может быть, вполне “иррациональным”) испытала объективное и безусловное достоинство этого священного – и узнала его в святынях своего народа. Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто прекрасное перед лицом Божиим; что оно живет в душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину – значит реально испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства…» (курсив И.А. Ильина).
Это «простое, но подлинное касание» началось для Мельникова с непонятных слов о Голикове и Сюлли; искрой того восторга перед этими именами – знаками национального величия – постепенно, подспудно поддерживалось писательское вдохновение.
I Десять сокровищ1. ИсторияХочу привести ещё одно высказывание русского философа из той же его работы, «Путь духовного обновления». Глава седьмая «О национализме», параграф второй «О национальном воспитании». Ильин говорит, что ребёнка следует обогащать духовными сокровищами, выделяя десять, среди них – историю. О ней он пишет так: «Русский ребёнок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенёсшего великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъёму и расцвету. Необходимо пробудить в ребёнке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница, источник живого научения мудрости и силы». Кажется, именно к этому и стремился умирающий дедушка Мельникова, советуя читать Голикова.
У них, разделённых многими десятилетиями, было одинаковое осознание важности исторической памяти. «История учит духовному преемству и сыновней верности; а историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание. Только тогда он сможет быть истинным национальным воспитателем» (курсив И.А. Ильина). История стала для Мельникова одним из «сокровищ», и неспроста он не только её полюбил сызмальства, но изучал, открывал архивы, посвятил ей жизнь. Он рано понял значимость духовной преемственности для становления, развития, в конце концов для выживания народа.
Ничто не должно уходить в небытие. Ни события, ни человеческая личность, ни слово. В каждом слове есть особое «историческое» семечко. Неспроста у писателя такое внимание к устаревшим и редким словам: стомах (желудок), послух (свидетель), летось (прошлым годом), бударка (название лодки или небольшого судна), дельщик (человек, способный к работе), реюшка (парусная шлюпка), изурочить (сглазить), шиповка (артель, где куют гвозди для судов), апостольская скатерть – название надутого ветром паруса на языке волжских бурлаков, Стекольно (Стокгольм, отсюда Стеклянное царство – Швеция)… За всеми ними – минувшие годы, ушедшие люди. Быт, вещь, мир, напрямую связанные с человеческим сознанием и трудом. Слово – это нить, которая ведет в прошлое, к его смыслам и ценностям бытия. Слово и язык – основа мышления, поэтому писатель – всегда мыслитель. Изменить язык значит изменить мышление.
И тут необходимо отметить глубинное мельниковское знание собственной семейной «маленькой» истории. Корни своего рода он проследил до семнадцатого века. Гордился родовой иконой времён Ивана Грозного (не сохранилась, сгорела во время нашумевших петербургских пожаров 1862 года). Гордился тем, что он русский.
Не думалось ли вам, если случилось прочесть, что его «Бабушкины россказни» – повесть глубинно философская, ибо её тема – живая историческая преемственность, историческое свидетельство и его роль в эстафете поколений? Для Мельникова всегда была важна осязаемая встреча с прошлым – соприкосновение, ощущение, запах его и вкус, его способность перевернуть, «перенастроить» сознание. Отсюда увлечение поиском старинных документов и книг. Мне нравится это сравнение современного немецкого философа Курта Хюбнера из работы «Нация»19: архивные документы – плоть истории. Где плоть, там и дух. Всё связано. Это раз. Истории нет без источника. Это два. Для Мельникова история – это ещё путешествие по русским историческим местам. Например, по маршруту Ивана Грозного, который шёл воевать Казань. «Летом проехал весь путь Иоанна Грозного от Мурома до Казани, нанёс на карту все курганы, оставшиеся на месте его станов, разрывал некоторые, собрал всевозможные предания, поверья, песни о Казанском походе, осмотрел церкви, Грозным построенные, видал в семействах, происходящих от царских вожатых, жалованные иконы, списки с грамот» (письмо М.П. Погодину)20. Или взять путевые заметки по дороге из Тамбовской губернии в Сибирь, самое первое его опубликованное произведение, где история и современность неразрывно переплетены. Мельникову особенно дороги свидетельства очевидцев.
Уже в «Дорожных записках» открыл он и использовал излюбленный впоследствии приём – обработанный рассказ свидетеля об исторических событиях. («А расскажи-ка, дядя, барину, как вам бороды-то брили!»). Уже там прозвучало горестное признание: «Как-то досадно смотреть, когда от какого-нибудь места исторического не останется ничего, кроме обыкновенной деревни!» «Старые годы» и «Бабушкины россказни» – тоже встреча разных поколений, а по сути, передача исторических (= сакральных) знаний, выражающих определенное понимание национального бытия. Между прочим, «Бабушкины россказни» – повесть о предназначении и роли дворянства, о характере восемнадцатого столетия, каким он был, каким запомнился, вошёл в память. Мне нравится эта его характеристика: «Всё ликовало в тот век!.. И как было не ликовать? То был век богатырей, век, когда юная Россия поборола двух королей-полководцев, две первостепенные державы свела на степень второклассных, а третью – поделила с соседями… Полтава, Берлин и Чесма, Миних в Турции, Суворов на Альпах, Орлов в Архипелаге и гениальный, неподражаемый, великолепный князь Тавриды, создающий новую Россию из ничего!.. Что за величавые образы, что за блеск и слава! Но с этим блеском, с этой славой об руку идут высокомерное полуобразование, раболепство, слитое воедино с наглым чванством, корыстные заботы о кармане, наглая неправда и грубое презрение к простонародью…» Мельников никогда не плюнет, не осудит былое. Каким бы оно ни было, оно священно, потому что оно своё. «Но мир вам, деды! Спите спокойно до трубы архангельской, спите до дня оправдания!.. Не посмеёмся над вашими могилами, как смеялись вы над своими бородатыми дедами!..»
Историческая память определяет самосознание народа. Прошлое всегда определяет систему ценностей настоящего. Мельниковские рассказчики в «Старых годах», в «Бабушкиных россказнях» стремятся выстроить преемственную систему ценностей, создавая перед читателем многогранный и яркий образ прошлого, взаимоотношений людей, через собственное свидетельство, воспоминание, вещный мир, язык. «Люди восемнадцатого века встают передо мной, как образы какой-то знакомой, хоть и не прожитой жизни». Это время с «наглым криком временщиков и таинственным лепетом юродивых», «подобострастными речами блюдолизов» и «амурным шёпотом петиметров21 и метресс», рёвом медведей, разгулом, с ледяным дворцом Анны Иоанновны и маскарадами – это время противоречивое с его ничтожностью и славой и очень-очень дорогое.
У Мельникова в его прозе, причём с первых литературных шагов, появляется интереснейший герой – свидетель времени. В этом образе пересекаются прошлое, уже настолько далёкое, что более молодые могут узнать о нём лишь понаслышке, и настоящее; старость, а за нею времена давно былые, и юность, живущая иными измерениями. Эстафета времён всегда передаётся через свидетельство. Вот, например, старик с последних страниц «Дорожных записок на пути из Тамбовской губернии в Сибирь», уже не старообрядец, но верный обычаям дониконовского быта и старины. Он рассказывает, как в далёкие-далёкие времени пришёл в Соликамск императорский указ: всем брить бороды. «После службы Божией выходит воевода и стал читать, чтобы, дескать, ходили без бород и в немецких кафтанах. Мужики повесили бороды, бабы в слёзы. Мы-таки себе на уме, думаем: ладно, ещё когда-то бороду сбреют, а царь-государь смилуется да отменит своё наказание за грехи наши: не тут-то было! Стали выходить из церкви; глядь, на паперти-то два брадобрея да немец с ножницами. Кто из церкви выйдет, брадобрей хвать его за ворот, да полбороды и прочь; остальную, говорит, после отрежу. Он тебе бороду режет, а немец перед тобой на коленях уж и ползает да своими ножницами возьмет да полы у кафтана прочь да прочь; хоть синий суконный будь – не посмотрит, отрежет да и пустит курам на смех – ну немец немцем из церкви выйдешь: кафтан на тебе как кафтан, а пол нет: так, слышь, воеводы приказали. Батюшки светы! Наши мужики возьмут обстриженную бороду в обрезанные полы да идут домой, как на казнь смертную; а бабы-то вкруг них воют, как по покойниках».
И этот рассказ, трогательный и грустный, не единственное, что поведал автору древний соликамский старожил. По его признанию, в год, когда царь Пётр «побил свейского короля» (1709-й, Полтавская битва), ему было лет одиннадцать или двенадцать, следовательно, он родился не поздней 1698 года, и когда Мельников с ним встретился, ему было глубоко за сто. В цикл «Дорожных записок…» по цензурным соображениям не вошёл рассказ о казаке Дементии Верхоланцеве, видевшем в молодости самого Емельяна Пугачёва. Свидетель восемнадцатого века – бабушка Прасковья Петровна Печерская, чьи «россказни» пересказывает праправнук. «Старые годы» написаны на основе «записки» Валягина – вымышленного документа, раскрывающего историю рода князей Заборовских. Оттуда и название повести. Автору удаётся обнаружить тетрадь с пометкой «писано по словам столетнего старца Анисима Прокофьева с надлежащими объяснениями коллежским секретарём Сергеем Андреевым, сыном Валягиным, 17-го мая 1822 года в селе Заборье», и таким образом тут снова возникает «свидетель времени» – не действующее лицо, но персонаж, сохранивший память о прошлом, рассказав кому-то, кто мог писать, удивительную череду исторических событий. Мельникову крайне важен именно изустный рассказ о былом, от человека к человеку. Сюда, в эту историческую линию, впишется, пожалуй, и Иван Кондратьевич Рыбников с его рассказом об Аракчееве из короткого рассказика, почти юморески, «В Чудове».
Итак, десять ильинских «сокровищ». Я хотел бы посмотреть, как связаны они, как воплощены, как раскрыты в ценностной своей сущности в творческом наследии Мельникова. Одно, очень важное, историю, мы уже затронули, хотя и вскользь, однако она и дальше будет сопутствовать нам. Перейдём к другим, немного нарушив тот порядок, в каком следуют эти «сокровища» у Ивана Ильина.
2. СказкаВ номере 137 от 28 июня 1859 года в газете «Русский дневник», которую редактировал Мельников, была помещена последняя глава его повести «Заузольцы». Она посвящена тем, кто живёт за рекой Узолой, и название произносится с ударением на «у». Повесть незакончена и не входит в современные собрания сочинений. Там есть эпизод, когда матушка Измарагда, инокиня из старообрядческого скита, пересказывает (опять выступая в роли свидетеля) девушкам Груше и Липе, отданным туда на воспитание, поволжские легенды. Впоследствии они почти слово в слово перекочевали в его рассказ «Гриша». Но в повести Мельников не удержался от замечания, которое отсылает этот эпизод куда-то в публицистику: «А что, извольте вас спросить, нравственнее для девицы – весельчак Поль де Кок и Жорж Занд или простой, безыскусственный, но полный кипучей народной фантазии рассказ о сокровенном граде Китеже, о горах Кириловых, и прочая, и прочая?».
Ответ напрашивается сам: конечно, живая народная легенда, народная сказка, корнями уходящая вглубь национальной истории. А значит, светская образованность ничуть не выше монастырского воспитания в старообрядческом скиту.
Речь вовсе не о знакомстве с родным фольклором, который мыслится как своеобразный музейный экспонат или отжившая свой век диковинка. В скитском воспитании осуществляется преемственность исторической памяти, живое и зримое соприкосновение с прошлым, которое «прекрасно перед лицом Божиим», сохранение и передача традиций, выработка личного, прочувствованного отношения к собственным корням и истокам. Именно то, о чём писал спустя несколько десятилетий Иван Ильин:
«Сказка будит и пленяет мечту. Она даёт ребёнку первое чувство героического – чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие “правды и кривды”. Она заселяет его душу национальным мифом, тем хором образов, в котором народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил своё вожделенное, своё ведение и ведовство, своё страдание, свой юмор и свою мудрость. <…> Ребёнок, никогда не мечтавший о сказках своего народа, легко отрывается от него и незаметно вступает на путь интернационализации».
Матушка Измарагда стремится именно к этой-то цели: через легенду привить «первое чувство» жизни по правде Божией. Старообрядчество всё в этом чувстве. Именно поэтому «простой, безыскусственный, но полный кипучей народной фантазии рассказ» ценнее литературной моды.
Персонажи «Заузольцев» станут героями дилогии «В Лесах» и «На Горах». Измарагда рассказывала о Кирилловых горах, что у Малого Китежа на Волге. Когда плывёт по реке сплавная расшива (лодка), и на ней все люди благочестивы, горы расступаются, растворяются, как ворота, выходят оттуда «старцы лепообразные, един по единому». «Процвели те старцы в пустыне невидимой, яко крини сельные и яко финики, яко кипарисы и древа не стареющая; просияли те старцы, яко камение драгое, яко многоценные бисеры, яко звёзды небесные». Они просят плывущих передать поклон и заочное целование братьям Жигулевских гор. Если это исполнить, расступятся и Жигулевские горы, и вновь из них появятся праведники, а расшива сама собой понесется куда надо. Ежели забыть про ту просьбу, грянет ветер, «восстанет буря великая», лодка потонет.
В старообрядческой легенде о невидимом граде Китеже и озере Светлояре, где он скрылся, заключено самое сокровенное – существующая на земле и до сего века никем не уничтоженная высшая чистота веры и истина, непоруганная праведность, и попадёт туда лишь тот, кто ничего не устрашится, всё претерпит. «Накинутся на тебя лютые демоны, нападут на тебя змеи огненные, окружат тебя эфиопы чёрные, заградит дорогу сила преисподняя, – а ты всё иди тропой Батыевой – пролагай стезю ко спасению, направляй стопы в чудный Китеж-град. <…> Тамо – жизнь бесконечная. Час един – здешних сто годов… И не один таковой сокровенный град обретается; много их по разным местам и пустыням» («Гриша»). Такой «град», мне думается, пытался отыскать в юности Николай Клюев, уходя из Соловецкого монастыря. Но это особый сюжет.
В «Очерках поповщины», а затем в романе «В Лесах» прозвучала другая старообрядческая легенда: о чудесном Опоньском царстве и Беловодье, где, как и в Китеже, «нет татьбы и воровства», нет светского суда, народом управляет духовная власть, остаётся несокрушённой православная церковная иерархия.
Китежская легенда имеет важное значение в движении сюжета в романе «В Лесах»: по дороге к Светлояру и у самого озера завязываются новые сюжетные линии (Василий Борисыч и Параша), появляются новые герои, которые станут главными действующими лицами в следующем романе (Смолокуров, Дуня), Светлояр дает возможность показать широкие группы паломников – особые человеческие типы22.
Вряд ли надо напоминать, что сказка и легенда значили для Жуковского, для Пушкина. От них, прежде всего в этом понимании воспитательной силы сказки, прямая преемственность и с Мельниковым, и с Ильиным.
3. ХозяйствоПроблема народа (скажем уж так, научными словами) и изображения человека из народа в дилогии «В Лесах» и «На Горах» решалась Мельниковым в ракурсе национальной самобытности и перерастала, как выразился один исследователь, «в проблему осуществления классового самоопределения старообрядчества как выразителя будущих экономических преобразований, в силу чего конкретной единицей художественного измерения у писателя представал не крепостной крестьянин, как, например, у Тургенева или Григоровича, но крестьянин государственный, богатый раскольник, тысячник»23. «Не то чтобы купец, не то чтобы мужик», как определял сам писатель тип центральных героев-«хозяев». Неспроста Патап Чапурин в гостях у Колышкина бросает такую реплику: «Наше дело мужицкое, авось не замёрзнем», – настаивая, чтобы ночлег ему приготовили в беседке.
Прототипом Чапурина был нижегородский купец Пётр Егорович Бугров. Это не открытие. На это указывают давно.
Его внуку Николе Александровичу – одному из богатейших людей России, посвящён очерк А.М. Горького («Н.А. Бугров»). Два разных человека (но одна династия), два разных писателя (пусть оба нижегородцы), описание же ночлега – одинаковое. Один принцип, хотя и выраженный разными словами («дело мужицкое», «цыганом бы пожить»).
Вот, так сказать, «зарисовка с натуры», Горький и Бугров ночуют в старообрядческом монастыре:
«Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров – в телеге, пышно набитой сеном, я – положив на траву толстый войлок. <…>
Он встал на колени и, глядя на звёзды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, окутался одеялом и крякнул:
– Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы – не молитесь Богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог… должен быть! Иначе – опереться не на что. Ну, спим…»
Мельников описывал именно ту группу людей, с которыми связывал экономическое становление страны, «русских хозяев», если пользоваться определением Владимира Павловича Рябушинского – русского публициста, принадлежавшего к знаменитой династии старообрядческих промышленников:
«Основатель фирмы, выйдя из народной толщи, сохранял до самой смерти тот уклад жизни, в котором он вырос, несмотря на то что он уже являлся обладателем значительного состояния. Конечно, в его быту всё было лучше и обильнее, чем раньше, но, в сущности, то же самое. Хозяин не чувствовал себя ни в бытовом отношении, ни духовно иным, чем рабочие его фабрики. Но очень гордился тем, что вокруг него “кормится много народа”. В таком понимании своего положения бывший крепостной, а теперь первостатейный купец, совершенно не расходился со средой, из которой он вышел. <…> Ему и в голову не приходило считать себя за своё богатство в чём-то виноватым перед людьми. Другое дело Бог; перед Ним было сознание вины в том, что из посланных средств недостаточно уделяется бедным»24.
Крестьянское происхождение и глубокая религиозность – характерные черты старых русских купеческих фамилий, русского хозяина. Но Мельников описывает только одно поколение, самое первое. Действие его дилогии, несмотря на её внушительный объём, охватывает относительно небольшой отрезок времени начала и середины 1850-х годов (это канун разорения поволжских скитов). В процитированной статье В.П. Рябушинского дальше хоть и кратко, но сущностно точно обозначены черты последующих поколений, ведь они уже прошли перед его глазами, он писал свою статью, которую я цитирую, «Судьбы русского хозяина», в другое, позднейшее, время. Многое менялось как внутри «хозяйских» фамилий, так и вокруг. На хозяина наступал иной предпринимательский тип – «буржуй» (о нём чуть ниже).
Не могу представить, чтоб Чубайс или Греф или ещё кто – выходцы из обуржуазившейся советской бюрократии, имя же им легион, – вот так вот укладывались спать, как Чапурин или Бугров. Не та порода. Не «хозяйская».
Чтобы создать эффект достоверности, писателю требовалось погружение в быт, в создание особого вещного мира, особые стилистические поиски с подключением фольклора, чтобы герой действовал в дилогии на фоне и в тесной связи с культурой, сформировавшей его. Мы не имеем оснований отрывать мельниковских купцов от старообрядчества, опираясь на их негативные высказывания о его внутреннем кризисном состоянии (как пытался это сделать, например, забытый критик Леонид Багрецов в начале ХХ века).
Сложившийся десятилетиями идеал предпринимателя-старообрядца Мельникову с большой художественной и психологической убедительностью удалось воплотить в образе Патапа Максимыча Чапурина. Крестьянское происхождение, глубокая религиозность, проявляемая в быту, в отношении к труду, материальная поддержка скитов, домостроевская иерархия в семье не позволяют отделять его от старообрядчества. Говорить, что Чапурин связан со староверием лишь благодаря тому, что это выгодно для его торговых дел, значит существенно обеднять понимание его образа.
Другие типы «хозяев» – Сергей Андреич Колышкин, казанский купец Гаврила Маркелыч Залетов, Ермило Матвеич Сурмин (иконник, живущий при Комаровском ските, эпизодический персонаж), «старинщик» Чубалов были проанализированы в моей книге «П.И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, старообрядчество», и я мало что могу прибавить к тому, что уже написал.
Иван Ильин утверждал, что ребёнок должен с раннего возраста ощутить творческую радость и силу труда, его необходимость, почётность, смысл. Работа – не рабство. «В русском ребёнке должна пробудиться склонность к добровольному, творческому труду, и из этой склонности он должен почувствовать и осмыслить Россию как бесконечное и едва початое трудовое поприще. Тогда в нём пробудится живой интерес к русскому национальному хозяйству, воля к русскому национальному богатству как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в нём всё это – значит заложить в нём основы духовной почвенности и хозяйственного патриотизма».
В большинстве своём наши современные «пореформенные» предприниматели скроены по другим лекалам. Мельниковский хозяин – это вызов им. Этих, наших, точно охарактеризовал ещё в середине 1880-х годов Глеб Успенский в очерке «Буржуй». Замечательный очерк! Прямо о нашем времени, хотя писал Глеб Иванович, конечно, о своём. Если прошлое воскресает, если дух его узнаётся, если две эпохи вдруг кажутся похожими, как близнецы, значит, история идёт не по прямой, она движется кругами, как заблудившийся в лесу человек.
По Успенскому, есть буржуи, и есть буржуа. Это надо различать. Буржуа хоть что-то да созидает и отдает обществу. Успенский, впрочем, и тут иронизирует. «Возьмите вот хоть бы эту толстую колбасу с языком и с фисташками – один из бесчисленных продуктов умственной деятельности подлинной европейской буржуазии»; европейская колбасная мысль работала над ней долго: какой-нибудь колбасник Пфуль, убежденный монархист, проведав, что Фридрих Великий любил колбасу и фисташки, решил объединить то и другое. И вот, «пожираемый чувством преданности», он созидает новый продукт. Другой колбасник Шнапс, социалист и радикал, исходит в изготовлении колбасы из иных идей, но тоже «в целях общественной реформы создаёт и начинку, и форму колбас такие, какие соответствуют его убеждениям и могут способствовать осуществлению этих убеждений в общественном деле». Умственная деятельность здесь «капельная». Пусть. Но вот буржуй – ничего и никогда не создаёт собственным трудом или мыслительным усилием. «…Никогда личная “выдумка”, личная работа мысли, имевшие целью хотя бы только личное благосостояние, не были свойственны ему в размерах, даже более ничтожных сравнительно с размерами умственной работы немецкого колбасника; никакого исторического прошлого, которое есть у колбасника, и никакого будущего, о котором колбасник позволяет себе фантазировать, никогда не было у нашего буржуа и, вероятно, не будет». Российский буржуй появился неожиданно, «точно с неба свалился». Буржуйское сословие —

