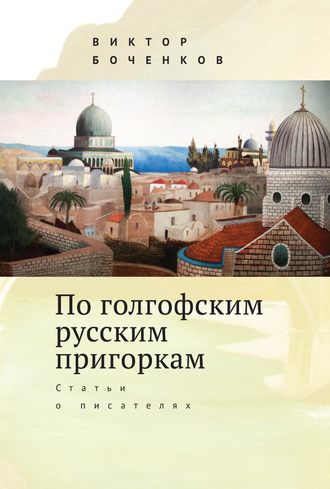
Полная версия
По голгофским русским пригоркам. Статьи о писателях
Дело, свершенное для других людей.
Рассказ «Могила на крутояре» целиком посвящен детским впечатлениям от сельского кладбища и бывшим партизанам, которые давно упокоились тут, среди берёз и сосен, под красными звёздами на неброских памятниках, под музыку «Интернационала». Герой перебирает в памяти воспоминания об этих людях, как они жили, что ценили… Абрамов писал рассказ с перерывами с 1963 по 1968 год. Эти даты стоят внизу под последней строкой. Восемь книжных страниц. И пять лет работы. На такое способен только большой писатель. Потому что здесь предельно сжато требуется рассказать о нескольких поколениях, провести «экспертизу» тех ценностей, во имя которых они умирали, свести лицом к лицу прадедов, отцов и детей. Да где ж произойдёт такая встреча, как не на кладбище, – так, увы, устроена жизнь. На нескольких страницах пишется огромное полотно. Живописец должен отойти от картины, взглянуть на неё издалека, а писатель – отложить лист и заново пережить, заново переосмыслить в душе то, что хотел доверить читателю, иначе трудно будет отточить слово… Как говорил сам Абрамов, «написал страничку за день, потом прочёл, перечеркнул эту страничку и счастлив: хорошо поработалось».
И есть могила у Ивана Лукашина, и нет. Он, председатель колхоза, в «Путях-перепутьях» отдал часть запасов зерна, чтобы рассчитаться с рабочими, строившими коровник. Это было запрещено. Его посадили. Перед самым освобождением он погиб в лагере от руки бандитов. Его жена Анфиса Петровна поставила в память о нём пирамидку из нержавейки с выпуклой пятиконечной звездой. Самое обычное надгробие, каких много на пекашинском кладбище. Фамилия, имя, отчество, годы жизни, по которым несложно вычислить возраст, – ровно пятьдесят лет. «Везде земля одинакова, везде от нашего брата ничего не останется, а тут хоть когда она сходит, поговорит с ним, горе выплачет. В городах памятники ставят, а Иван Дмитриевич не заслужил? Признано: зазря пострадал…» Это говорит в «Доме» Лиза Пряслина.
«У давно осевших и давно затравеневших могилок Степана Андреяновича и Макаровны Лиза стояла молча, с виновато опущенной головой. В прошлом году какие-то волосатые дикари из города, туристами называются, ослепили на них столбики – с мясом выдрали медные позеленелые крестики, и она до сих пор не собралась со временем, чтобы вернуть им былой вид» («Дом»). История этих людей разворачивается ещё с третьей главы «Братьев и сестёр», когда они получают похоронку. Всё то немалое добро, что Степан Андреянович Ставров годами берёг в надежде, что сын вернётся с войны и займётся личным хозяйством, он передал потом для нужд фронта, когда получил скорбное известие. Лиза вышла замуж за их внука, ловкача и бесстыдника Егоршу. О нём чуть дальше.
В романе «Две зимы и три лета» есть эпизод, когда в числе немногих вернувшихся с фронта пекашинцев приходит в село Тимофей Лобанов: три брата у него погибли, он же всю войну в плену «провоевал». По закону о трудовой повинности он должен отправиться на вырубку леса. Он осознаёт, что серьёзно болен, но местная фельдшерица никакого диагноза поставить не может и не даёт направления в районную больницу. Нет оснований. Михаил Пряслин грубо оскорбил его, а когда Тимофей уехал самовольно, донёс. И вроде он прав. «Что бы мне сказал отец, ежели бы я всякого изменника по головке гладил?» Отец у Пряслина погиб, Тимофей вернулся…
Вскоре выясняется, что Тимофей не лгал и не юлил. В районной больнице он умер на операционном столе от рака. Обустроить его могилу – единственное теперь средство выпросить прощения. Михаил Пряслин сам привозит и сам ставит на могиле Лобанова именно воинский памятник, с трудом раздобыв красную краску, чтобы выделялась на нём звезда. «У парня хоть душа успокоится», – говорит, заметив его с памятником на телеге, Анфиса Минина районному руководителю Подрезову. А тот не понимает: «Ах, Минина, Минина! Опять ты за старые сказки».
Могила у Абрамова – сакральная точка на земле. Возле неё, повторюсь, раскрываются важнейшие качества человека: память, способность к покаянию, умение быть благодарным.
Именно тем последним чувством руководствуется ленинградский художник Пётр Петрович из рассказа «Потомок Джима». Чтобы он выжил в блокаду, его жена была вынуждена умертвить их собаку, добермана. Больному мужу требовалось мясо. Сделала это она не сама, дворник. Войну они пережили. Когда Елена Аркадьевна умерла, Пётр Петрович своими руками обработал для её могилы надгробие, а рядом поставил гранитную стену, на которой высек слова в память о собаке. Пса звали Дар. И здесь рассказчик тоже стремится подчеркнуть, что кладбище и могилу ему указали, хотя прямого намека, что он здесь побывал, всё увидел сам, нет. Это подразумевается. Важен сделанный акцент на достоверность свидетельства: к могиле, к стене можно прийти, всё самому прочитать. Кладбище потом сравняли и на его месте построили жилой район.
На последних страницах «Дома» примирились наконец-то Егорша и похороненный на пекашинском кладбище старовер Евсей Мошкин, ещё один тихий праведник, не способный никого обидеть человек. В самом конце романа, спившийся, он, Евсей, упал в силосную яму, сломал ногу и пролежал там три дня, пока его не отыскал Михаил Пряслин. На его вопрос, почему не кричал, не орал что есть силы, он отвечает коротко: «Страданьем, Миша, грехи избывают…» Что это как не «митякарамазовское» «пострадать хочу, и страданием очищусь»? Уже погребли Евсея Мошкина, едет Егорша с молодым своим напарником на машине. «…И вдруг впереди картинка из времен царя Гороха: древняя бабка, вышагивающая с клюкой. Вмиг догнали, дали тормоза». Выясняется, что на кладбище она в Пекашино идёт – «по обвету», то есть по обету. Как Соломида ходила в Пустозерск…
– На могилке у Евсея Тихоновича положила побывать.
– Зачем?
– Зачем на могилке-то? А для души. Праведник большой был.
Смешно молодому шофёру. «А Егорша вдруг присмирел, притих, задумался, а потом и с машины слез».
На кладбище он отправился рано утром, тайком. «…Подрыл с боков песок, придав холмику форму прямоугольника, а затем выстлал её плитами беломошника, который неподалеку нарезал лопатой. Но и это не всё. Сходил к болоту, отыскал там зелёную кочку с брусничником, на котором краснело несколько мокрых от росы ягодок, срезал её, перенёс на могилу».
– Ну вот, старик, – сказал неверующий Егорша вслух, – всё что мог для тебя сделал. – Потом усмехнулся. – По твоей вере дак скоро увидимся, а я думаю, дак оба на корм червям пойдём. Здесь, на земле, жить надо.
Ничего как будто не изменилось в человеке. Он остался при тех же своих взглядах, какие высказывал «чокнутому религией» Мошкину ещё в грубом своём споре в пятой главе второй части романа «Две зимы и три лета», когда «всё лаем да пыткой» обвинял его в лицо, что он, мол, «неважно.., поп или не поп, а факт остаётся фактом: антисоветский элемент». И в то же время изменилось. Обратно Егорша пошёл и лопату понёс, уже не прячась. Зачем он решил обустроить могилу? Ему стало нужно, чтобы всякий приходящий видел – здесь действительно похоронен праведник…
Старообрядческая тема в тетралогии лишь изредка приоткрывается: через того же Евсея Мошкина, через образ Марфы Репишной, через отдельные фразы. Пекашинцы – потомки старообрядцев. «Пекашино распознают по лиственнице – громадному зелёному дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занёс сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел ещё могучий бор и курились дымные избы староверов?» Сокровенное в народной душе Евангелие светит и сквозь тяжёлый военный дым. Вот Лукашин разговаривает с Варварой Иняхиной. Ещё один, очень непростой, женский образ у Абрамова. Спрашивает о Ставрове, он ли «сдал своё добро в фонд Красной Армии». Об этом написали в районной газете. «Пошевни-то да дрожки? Он. А про меня уж в той газетке ничего не написано? – с неожиданным простодушием спросила Варвара. – Иняхины мы. Я тоже овцу сдала». Одну овцу. Для такого огромного фронта. Она хочет показать, что и она не хуже… Эти последние слова, верней, неприметное дело – разве не тот же сюжет с лептой вдовицы? Впрочем, что касается евангельских прообразов, это уже повод для другого и обстоятельного разговора.
Старовер ЛомоносовСтарообрядчество и русская литература – тема неохватная; начинаясь с аввакумовского «Жития…», с соловецких челобитных, она идет, не прерываясь, дальше, вплетаясь в литературу чисто светскую. Старообрядческая тема не слишком звонкой нотой, однако звучит вскользь у Кантемира, у Ломоносова, у Радищева… В XIX веке она будет раскрыта другими писателями куда шире.
Сближение Ломоносова, ещё отрока, со старообрядцами было, и этот факт отмечен многими его биографами, но, как заметил в своё время замечательный филолог Евгений Лебедев, «мы не знаем, как далеко и насколько глубоко оно распространялось»9.
Можем только предполагать.
Старообрядцами были ближайшие родственники Ломоносова, его отец – нет. Есть гипотеза, что знакомство с виднейшим старообрядческим деятелем Андреем Денисовым, учеником Киево-Могилянской академии, автором «Поморских ответов», привлекло его на какое-то время в монастырь на Выг. Это было в отроческом возрасте, когда будущий основатель Московского университета с особой остротой тянулся к знаниям. Указываются разные даты: в тринадцать лет, в пятнадцать лет. В монастыре Ломоносов пробыл года два. Он отошёл от старообрядчества. Высказывался о нём весьма нелестно. Есть у него, например, «Слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года». В нем в духе тогдашних идеологических установок старообрядцы выставлены врагами государства наравне со шведами, турками и поляками: «Таковыя противности воспящали Герою нашему в славных подвигах! Коль многими отвсюду окружен был неприятелями! Извне воевала Швеция, Польша, Крым, Персия, многие восточные народы, Оттоманская Порта, извнутрь – стрельцы, раскольники, козаки, разбойники»10.
В 1986 году, обобщая всё написанное по этой теме, питерский историк и археограф Николай Юрьевич Бубнов предпринял попытку обосновать мысль о том, что окончательный разрыв Ломоносова со старообрядцами произошёл уже в Москве, что именно выговские жители снарядили его учиться, надеясь, что светское образование не повредит, как не повредило оно Андрею Денисову, а, напротив, даст им ещё одного незаменимого человека. «Не будет слишком смело предположить, что “впавший в жестокий раскол” молодой Ломоносов был рекомендован и послан своими новыми друзьями-старообрядцами на учёбу в заиконоспасские школы с тем, чтобы по возвращении на родину во всеоружии знаний войти в число руководителей местного старообрядчества. Такое предположение помогает удовлетворительно объяснить уклонение юного Михайлы от церковного брака (федосеевцы, как известно, отвергали институт брака), добровольный уход с родины без родительского благословения и нужных документов. Вполне вероятно также, что старообрядцы снабдили посланного ими на учебу юношу не только деньгами на первое время жизни в Москве, но и фальшивыми документами, позволившими ему выдать себя за поповского сына или даже за дворянина»11.
Но, как часто бывает, «что-то пошло не так». Ломоносов не вернулся назад. Всё, что связано со старообрядчеством, он старательно скрывал, как будто вымарывая этот короткий период в пару лет из биографии, чтобы и следа не осталось.
Отроческие годы русского учёного в Выговском монастыре отображены в романе М.К. Попова «Ломоносов: Поступь Титана» («Роман-газета», №19 за 2011 год). С первых строк здесь появляется белица, которая тонкой кисточкой рисует что-то «разноцветной вапой» (краской) на листе пергамина. «Лицо её по брови повязано льняным повойником». Повойник, как правило, носили замужние женщины, это шапочка, «повязать» её «по брови» невозможно, можно только надеть. Иногда повойник подвязывается сзади двумя лентами, которых не видно из-под платка. В мужской Выговский монастырь был категорически запрещён вход женщинам, и каким бы исключительным художественным даром эта белица ни обладала, она могла бы сюда прийти разве что для свидания с братом или отцом. Поморскую орнаментальную заставку сделал бы любой инок, труженик выгорецкого скриптория… У юного Михайлы в романе губа отнюдь не дура: он так возле этой белицы и вертится, растирает краски, сам пытается листочек разрисовать. А едва оказавшись за стенами монастыря, собирая с Офонасием «красовитые камушки» для получения краски, гоняется за голой саамкой, ломая кусты, «ровно топтыгин». Малый он уже опытный, «девок деревенских, бывало, щупал, и они валяли его». Но сюжет в итоге сводится к глупой современной песне: «А когда я её обнимаю, всё равно о тебе вспоминаю». Всё Текуса, та самая белица, ему мерещится. А её, как выясняется после возвращения в монастырь, подальше на Лексу отправили, «доступ туда особам другого пола заказан, и пути назад оттуда нет» (это почему же?). Тут как на грех ещё лубок подвернулся Ломоносову на глаза: картинка, как мыши кота хоронят, с намёком на Петра Первого. Кот, понятно, император. И Михайла вскипел: лист разорвал, ругаться стал, да дёру из монастыря.
И всё то ли из-за бабы, то ли из-за кота – поди разбери.
Хорош у нас «титан»! За девками гоняться – нормально. Но «срамная» картинка вызывает приступ такой бешеной ярости, что Ломоносов бежит прочь сломя голову. Лишь под конец первой главы мы узнаём, что Выговский монастырь – «раскольный». Если кто не в курсе, не поймет. И уж если придавать такое внимание словесному узорочью – «синь-лазорь», «черниловка», «вапа», «закодолить», «блазниться», «лепо», «потай», «зеленастей» (вместо «зеленее») и пр. – не худо бы помнить, что не говорят старообрядцы «Псалтирь», а только «Псалтырь», и иного не принято… К примеру, Фёдор Гладков уж на что коммунист-атеист, но это знает, у него и в «Повести о детстве» и в «Вольнице» это слово всегда одинаково через «ы» пишется. Сразу видно, из староверческой семьи вышел человек. Странно или нет, но и корректоры это не правят.
Молодой Ломоносов предстает в странном, искорёженном водевильном виде. Это похотливый юнец, а не будущий учёный, которого вынудил оставить монастырь случайный импульсивный поступок. Культурное, экономическое, духовное значение Выга для Поморья и вовсе прошло мимо автора, характеры выговских насельников не заинтересовали, само пребывание Ломоносова здесь не оказывает никакого влияния на его становление. Ну, разве что тут, на Выге, впервые заинтересовали его минералогия и живопись… Через несколько страниц он точно также будет «строить куры» фройлен Лизхен в Марбурге. О выговской белице уж не осталось и памяти.
В такого рода прозе нет или же не достает главного, ради чего она в общем-то и пишется, нет анализа жизни, минувшей или настоящей, и человеческих отношений. Нет того русского характера, который, не гнушаясь, не отбрасывая впитанный с детства, с отрочества, с коротких монастырских лет тот самый «подкопытный» язык, затем вплетает его в собственную теорию «трёх штилей», берёт свободно и властно «немецкого малость», осваивает европейскую учёность и остаётся самим собой, нет анализа, какими силами, благодаря чему это поморскому юноше удаётся…
«Наших прадедов Бог по-иному ковал…»В нижегородском журнале «Старообрядец» за 1907 год в апрельском, четвертом, номере появилось любительское стихотворение Петра Ивановича Власова. Кто он такой, скажу чуть ниже. Оно было приурочено к 225-й годовщине гибели Аввакума.
Он погиб за великое дело –За преданья родной старины,Защищая свободно и смелоВеру праотцев русской земли.Повинуясь законам лишь Бога,Отступникам карой грозил,И в силу великого долгаИх могучею речью разбил.Не боясь ни богатых, ни сильных,Он за веру Христову стоял,Он в речах своих, верой обильных,На духовную жизнь призывал.И за эту глубокую веру,За большую любовь к старинеУподоблен он был изуверуИ врагами сожжён на костре.Так погиб этот славный подвижник,Постоявший за совесть людей,И погиб, как великий защитник,Кончив жизнь от руки палачей.В 1932 году небольшой листок бумаги со столбиком этих четверостиший будет изъят сотрудниками ОГПУ при обыске у старообрядческого епископа Викентия (Никитина). Имя автора не всплывет. Его забыли. Стихотворение стало песней. Рукопись, с которой довелось мне ознакомиться несколько лет назад, отличается от опубликованного текста, но не слишком сильно: «он страдал» вместе «он погиб», «могучею речью язвил» вместо «разбил». Это естественно: авторское стихотворение перешло в область фольклора, а фольклор вариативен. Последние две строки в каждой строфе должны повторяться два раза, в рукописном тексте сделана соответствующая пометка. Эти стихи пели.
Пётр Иванович Власов – сын священника Иоанна Власова, хранителя книжного собрания Московской старообрядческой общины Рогожского кладбища, большого знатока старой книги, умершего обидно рано, в 1910-м в пятьдесят лет. Ныне оно, это собрание, в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Этот стихотворный опыт был у его сына, тогда четырнадцатилетнего подроста, едва ли не единственным. Пётр Власов публиковал в старообрядческой периодике исторические документы, кое-что успел до революции выпустить отдельными сборниками. Окончив школу и реальное училище, он поступил в 1911 году в Московский коммерческий институт (в советские годы – Институт народного хозяйства им. Плеханова), но не окончил его. Увлекшись древностями, редкими книжными памятниками, работал в антикварном книжном магазине библиографом. Затем, уже после революции, сменил несколько работ, но главной его профессией стало библиотечное дело. В январе 1930 года Власов устроился в Центральную библиотеку Наркомречфлота. Во время Отечественной войны вместе с книжным фондом был эвакуирован в Ульяновск. В декабре 1942 года был назначен директором Центральной научно-технической библиотеки. После переименования Наркомречфлота в Министерство речного флота остался в прежней должности, в июле 1948-го ему было присвоено звание старшего лейтенанта административной службы. На позднем фотоснимке он изображён гладко выбритым, с короткой щёточкой усиков между носом и верхней губой, в круглых очках на широкой переносице…
С 1940 года и до самой смерти Пётр Власов переписывался с Владимиром Малышевым. Отдельные его письма опубликовала историк-любитель Вера Анисимова на страницах сборника «Старообрядчество: история, культура, современность» в 2011 году.
В десятом выпуске «Трудов Отдела древнерусской литературы», который вышел в 1954 году, Владимир Малышев напечатал «Библиографию сочинений протопопа Аввакума и литературы о нём 1917–1953 годов» и упомянул о Власове: «Во время работы над этим указателем в Москве (Рогожская застава) умер персональный пенсионер Пётр Иванович Власов (24.I.1893–16.X.1953), большой знаток старообрядческой литературы, много помогавший мне при собирании сведений об Аввакуме и, в частности, при составлении этого библиографического обзора»12.
Удивительная судьба выпала робким, простым, нескладным, однако искренним строкам подростка-старообрядца! В литературоведческих работах по XIX веку встречаешь иногда клише: «ходили в списках». Речь о стихах или статьях, не пропущенных, запрещённых цензурой. «Ходило в списках» письмо Белинского к Гоголю, пушкинская ода «Вольность», его же «Деревня». Власов так и не узнал, что где-то в Ессентуках сидел, склонившись над письменным столом, следователь ОГПУ и читал его мальчишеские вирши, которые тоже стали «ходить в списках». В контексте того антирелигиозного времени они обретали особенный смысл, задавая образец поведения.
Своеобразие дилетантских строк Власова с его неточными и глагольными рифмами и совсем ненужной последней строфой в том, что они эмблематичны, выглядят, как развёрнутый текст, который словно бы сопровождает и поясняет некое изображение: портрет Аввакума, репродукцию картины, где он изображён, и т.п. Старообрядческий автор полностью абстрагируется от «Жития…». Профессиональные поэты – Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин, Варлам Шаламов, Арсений Несмелов, Николай Новиков, Виталий Гриханов – отталкиваются в той или иной степени именно от литературного памятника, перерабатывают и по-своему трактуют его образы, сюжеты. Но все они, и Власов тоже, стремятся дать оценку тем ценностям, ради которых жил и погиб мятежный протопоп…
Епископ Викентий получил в 1932-м десять лет. Он обвинялся в «создании и руководстве Северо-Кавказским филиалом Всесоюзной контрреволюционной организации старообрядцев», подготовке антисоветского восстания, шпионской деятельности в пользу Румынии, в распространении антисоветской литературы, агитации против вступления в комсомол и колхозы. Через год его по болезни освободили досрочно. Второй раз арестовали в 1938-м в Москве и до смерти забили при допросе.
То была эпоха, когда снова потребовалась аввакумовская воля и аввакумовская непреклонность. Не случайно созданное в Ленинграде в середине 1920-х годов старообрядческое братство названо было именем протопопа Аввакума. Его непосредственный организатор и руководитель епископ Геронтий (Лакомкин) арестован был тоже в 1932-м в один день с Викентием. Тогда ему исполнилось шестьдесят. Свои десять лет он отбыл в лагерях полностью, причём ни разу не нарушив постов, и на свободу вышел в самый разгар войны…
Отечественная художественная литература, где отражён образ мятежного протопопа, это объёмный, тяжёлый и неподъёмный пласт, его не так просто «взрыхлить» литературоведческим «плугом». Даниил Мордовцев, старообрядческий епископ Михаил (Семенов), Алексей Чапыгин, Всеволод Никанорович Иванов, Фёдор Абрамов, Владимир Личутин, Владислав Бахревский, Дмитрий Жуков, Елизар Мальцев, Николай Коняев, Глеб Пакулов, едва не погибший вместе с Александром Вампиловым на Байкале, когда их лодка напоролась на топляк. В череде больших произведений вспомню ещё затерянную ныне на страницах сборника «Ока» 1990 года маленькую и очень симпатичную миниатюру калужского писателя Александра Козловского «Паучина»… Поэзию не беру нарочно. Сопоставлять всех этих авторов в одной статье я, конечно, не ставлю своей целью. Коротко коснусь эмигрантской литературы – только двух авторов, оказавшихся в изгнании. Их сблизило с Аввакумом собственное страдание и утрата.
Иван Лукаш написал небольшие, удивительно проникновенные очерки «Потерянное слово» об Аввакуме и «Боярыня Морозова», и, мне кажется, вряд ли ему бы это удалось, останься он на родине, когда всё вокруг благополучно и собственная жизнь вполне удалась. «В Аввакуме, в боярыне Феодосии Морозовой и в других мучениках раскола не их тёмные ошибки, не исступленность, даже не железное их упорство в страданиях поражает потомка, а именно это чуяние гибели Руси, невымоленного Дома» («Потерянное слово»). То же самое ощущал тогда и он сам, и многие другие, когда после 1917 года ушла навсегда былая императорская Россия – в историю, в глубокую память, в «тёмные аллеи» дорогого прошлого… Лукаш подметил одну важную особенность «Жития…». «Как-то не замечали, что простая повесть Аввакума о невыносимых страданиях, застенках, пытках и ссылках – улыбающаяся повесть». Аввакум как будто посмеивается над своими испытаниями. «Он – выше их. Он – с ними шутит». Тем же светом светел рассказ Фёдора Абрамова «Из колена Аввакумова» и жизнь его героини. Это потому, что люди знают, ради чего жить и ради чего умирать.
Арсений Несмелов сравнивает два разных поколения, уже не детей и отцов, а внуков и дедов. Образцом человеческой цельности становится для него именно Аввакум. Она оказалась особенно востребованной, да и всегда будет самым востребованным человеческим качеством в эпоху, когда распадается связь времён.
Он перечитывает «Житие…». Я – его «Протопопицу».
Наших прадедов Бог по-иному ковал,Отливал без единой без трещины –Видно, лучший металл Он для этого брал,Но их целостность нам не завещана.Их потомки – не медь и железо, а жестьВ тусклой ржавчине века угрюмого,И не в сотый ли раз я берусь перечестьСтарый том «Жития» Аввакумова.Чтобы остаться самим собой, необходимо отыскать веру и идею, ценность которой была бы выше любых земных благ, тот смысл бытия, который не завершается со смертью в отмеренных каждому человеку земных координатах. Именно здесь откроется тогда загадка и значимость человеческой цельности. У Несмелова целое поколение её лишено. Она «не завещана», что-то разомкнулось в преемственной цепочке времён и поколений. Что и почему? Какое звено выпало? В поисках ответа брали в руки «старый том» не только авторы, оказавшиеся на чужбине, но и те, кого с Аввакумом объединил один страдальческий путь, одно родство «хождения по мукам»…
Наш спор – не духовныйО возрасте книг.Наш спор – не церковныйО пользе вериг.Наш спор – о свободе,О праве дышать,О воле ГосподнейВязать и решать.Конечно, Варлам Шаламов, «Аввакум в Пустозерске».
Предметный ряд первого четверостишия со всем материальным (книги, вериги) отрицается и сменяется во втором целым комплексом идейных постулатов.
Удивительно и с другой стороны совершенно неудивительно, как этот Аввакумовский путь – до самого костра – объединил столь разных русских людей, изгнанников и оставшихся на родине мучеников. Объединил потому именно, что не был пустым результатом упрямства. Фанатизм – феномен последних атеистических столетий. Он несвойственен ни древнеримским мученикам, ни русским страдальцам за веру. Как подчёркивал уже на излёте советских лет академик Александр Панченко, «древнерусский человек в отличие от человека просветительской культуры жил и мыслил в рамках религиозного сознания. Он “окормлялся” верой как насущным хлебом. В Древней Руси было сколько угодно еретиков и вероотступников, но не было атеистов, а значит, и фанатизм выглядел иначе» («Боярыня Морозова – символ и личность»).

