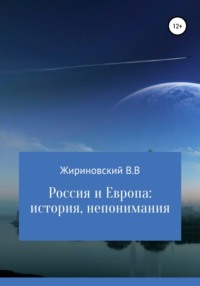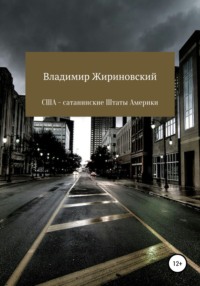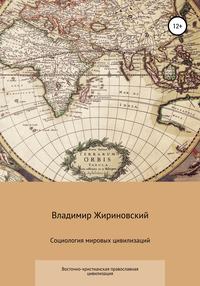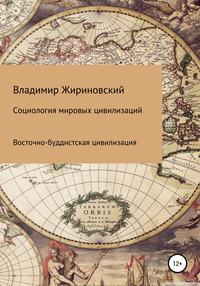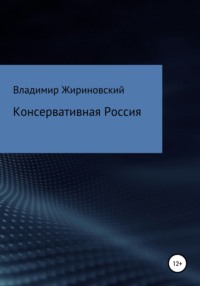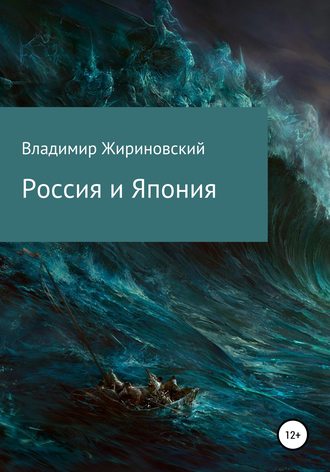 полная версия
полная версияРоссия и Япония
На фоне такой позиции правительства России существует понимание и мнение, что эти северные острова не “представляют собой на 100% территорию России и являются “специальной зоной””, в отношении которой ведется спор о суверенитете с Японией. Понимание Россией данного вопроса остановилось на этой позиции, и никаких подвижек вперед от этой позиции не наблюдается.
Итак, что же еще представляет собой мнение о том, что этот спорный район целесообразно превратить в “специальную административную зону”? Подобное предложение, возможно, разделяется третьими странами. Однако в таком случае, прежде всего, нельзя не задать вопрос, что представляет собой, вообще говоря, “специальная административная зона” по своему юридическому статусу. Если это означает, что данный район не принадлежит ни России, ни Японии, ни какой-либо другой стране, то предложение о такой зоне, вероятно, нельзя не оценить как легковесное и безответственное. Быть может, идея учреждения зоны, которая находилась бы под опекой Организации Объединенных Наций, представляет собой близкую к приведенной выше концепции “специальной административной зоны”. Формула системы опеки свидетельствует о наличии той формы, при которой по этой формуле управляющая власть осуществляет управление, как своей собственной территорией, районами, где проживают люди, пока еще не достигшие способности к самоуправлению. В случае если имеется в виду, что район передается под опеку ООН, то именно эта организация получает право на его управление.
На первый взгляд, это кажется допустимым, но в этом случае от управления устраняются Россия и Япония, имеющие здесь свои особые интересы. Такое решение представляло бы безответственный подход к проблеме. В случае с Северными территориями вызывает также глубокое сомнение, желает ли российское население, проживающее там в настоящее время, оказаться под такой опекой.
Обращаясь к истории, можно сказать, что все 11 районов, которые были включены в систему опеки после второй мировой войны, позднее получили независимость. Последними из них остались острова Тихого океана, расположенные к северу от экватора – Маршалловы острова, Микронезия и Палау. Это свидетельствует о том, что подопечные территории представляют собой районы со временным статусом. Меры, которые принимаются по отношению к ним, носят всего лишь временный, переходный характер, рассчитанный на период до того, как они в свое время либо достигнут независимости, либо войдут в состав какого-нибудь государства. Представить независимость северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп невозможно и абсурдно. Если спросить, какому государству после окончания опеки эти территории могли бы принадлежать, таким государством стало бы одно из двух государств – либо Россия, либо Япония.
Если Северные территории будут принадлежать России, то лучше им оставить тот статус, который у них имеется в настоящее время. На самом деле, замысел превратить северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп в “специальную административную зону” – это стремление принять необходимые промежуточные меры, которые, спасая престиж России и Японии, смягчили бы удар по России в результате передачи суверенитета над этими островами в руки Японии. Однако если этот замысел направлен на то, чтобы не допустить потерю лица со стороны России, то для этого, вероятно, существуют другие способы. Абсолютно понятно, что можно обойтись без учреждения “специальной административной зоны”, которая не принадлежала бы ни Японии, ни России. Больше всего такой их неопределенный личный статус и, как результат этого, обстановка на этих островах, вероятно, не удовлетворят российское население Северных территорий, настроенное на серьезный подход к решению проблемы.
На протяжении всего периода конфликта предлагались варианты промежуточного договора, который был бы направлен на то, чтобы продвинуться еще на один шаг вперед. Так, в январе 1978 года во время встречи между министром иностранных дел Японии С. Сонода, прибывшим с визитом в Советский Союз, и министром иностранных дел А.А. Громыко советская сторона предложила, продолжая переговоры о заключении мирного договора, в качестве промежуточного документа заключить договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Японией. Это предложение было продиктовано тем, что в тот период переговоры по территориальной проблеме совсем не получали динамичного развития. Хотя советская сторона и вручила министру иностранных дел Японии С. Сонода проект этого договора, который он не склонен был принять, японское правительство переданный ему проект договора игнорировало. Содержание проекта договора, состояло в следующем. В преамбуле проекта договора было сказано: “…Подтверждая намерение продолжать переговоры о заключении мирного договора, СССР и Япония преисполнены решимости создать прочную и долговременную основу для развития всестороннего сотрудничества между ними, прежде всего в политической области, а также в сфере экономики, науки, техники и культуры, договорились о нижеследующем…” Основной же текст этого договора гласил, что обе страны:
–воздерживаются от применения силы и от угрозы силы, разрешая только мирными средствами конфликты в отношениях между обеими странами,
не допускают использования своей территории для действий, которые наносят ущерб безопасности своего партнера,
–в случае возникновения ситуации, которая угрожает миру, обе стороны проводят консультации о мерах, которые можно немедленно предпринять для улучшения сложившейся ситуации,
–ставят своей целью принять меры, направленные на прекращение гонки ядерных и обычных вооружений, и установить международный контроль над полным и всесторонним сокращением ядерного и обычного оружия,
–стремятся, наряду с экономикой, развивать научно-техническое сотрудничество и обмен в области науки и культуры,
–не стремясь к господству ни в Азии, ни на Дальнем Востоке, не признавать претензий на господство над этими регионами со стороны любой державы.
Такие предложения, вероятно, были необходимы с точки зрения Советского Союза для укрепления отношений с Японией, которая в то время превратилась в экономическую державу, и были внесены, учитывая до известной степени намерения Японии, чтобы смягчить ситуацию с переговорами о заключении мирного договора.
Но в основном в этих действиях был скрыт замысел не допустить сближения в отношениях между Японией и Китаем. Статья о консультациях в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств и статья, направленная против гегемонии в проекте названного выше договора, ставят перед собой именно эту задачу, так как в тексте договора совершенно не затрагивался вопрос о Северных территориях. Кроме того, предложение о тесных консультациях между Советским Союзом и Японией в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств являлось совершенно неприемлемым для Японии, по японо-американскому договору безопасности находящейся в союзных отношениях с Соединенными Штатами.
Возможно, наиболее реалистичным является предложение российской стороны о заключении до 2000 года договора о мире, дружбе и сотрудничестве, в котором было бы записано обязательство разрешить проблему Северных территорий, и разрешить территориальный вопрос в отдельном договоре. Это российское предложение было продиктовано намерением действительно нормализовать отношения России и Японии на основе решения территориального вопроса. Вместе с тем, отложив решение, Россия сможет извлечь некоторую пользу из отношений сотрудничества.
Тот факт, что после окончания второй мировой войны прошло более полувека, и между двумя соседними государствами до настоящего времени еще не заключен мирный договор, вызывает сожаление. Мирный договор представляет собой договор, в котором два государства, в свое время находившиеся в состоянии войны или в состоянии, близком к состоянию войны, считают необходимым отчетливо поставить точку на таком состоянии и полностью нормализовать межгосударственные отношения. Если при этом не устанавливается государственная граница, то существует опасность, что это вновь приведет к конфликту между ними. В связи с этим демаркация государственной границы или делимитация этой границы представляет собой важное, необходимое условие выработки мирного договора между такими государствами.
Некоторые руководящие лица в России откладывают заключение мирного договора, ссылаясь на то, что определение государственной границы представляет собой существующую нерешенную проблему, и поэтому предлагают заключить по этому вопросу договор или соглашение, заменяющее мирный договор. В качестве примера таких договоров или соглашений, отличающихся от мирного договора, приводятся: договор о коллективной безопасности в Азии, меры по укреплению доверия, договор о неприменении ядерного оружия, договор о дружбе и сотрудничестве и т.п. Имеется информация о том, что договором, который со времени встречи “без галстуков” в апреле 1998 г. в Каване предлагает президент РФ Б.Н. Ельцин, является договор, который называется “Договор о мире, дружбе и сотрудничестве”.
Японская сторона не выступает против такого договора, но она понимает его суть совершенно особым образом. Со времени окончания второй мировой войны прошло больше полувека. Если договор, который заключат Россия и Япония по прошествии стольких лет, будет включать в себя не только просто демаркацию государственной границы, но и иные положения, соответствующие историческим изменениям, произошедшим в указанный выше период, то ничего страшного в этом не будет. Но вопрос заключается в том, каким было содержание документа, предложенного в ноябре 1998 года президентом России Б.Н. Ельциным в письме в адрес премьер-министра Японии К. Обути. Российский руководитель неожиданно предложил, чтобы в договоре, который Япония и Россия должны были бы заключить к 2000 году, было бы выражено только обязательство разрешить территориальный вопрос, а вопрос о прохождении линии государственной границы и принадлежности Cеверных территорий разрешить позднее, в отдельном договоре.
Япония понимает это предложение как предложение заключить мирный договор без статьи об установлении государственной границы. Такой подход, как об этом упоминалось выше, им невыгоден.
Для российской стороны выдвижение подобного предложения ставит своей целью достижение определенного политического результата: тот или иной договор заключенный с Японией, позволит, громко заявить как внутри страны, так и за рубежом о полной нормализации отношений между Японией и Российской Федерацией, не проведя при этом пограничного размежевания. Это предложение в данном случае воскрешает в памяти прецедент советского периода, который состоял в том, что команда Л.И. Брежнева – А.А. Громыко предлагала Японии договор, заменяющий договор о мире.
Одним из главных правовых барьеров в процессе принятия невыгодных для России внешнеполитических решений, которые могут быть приняты президентом РФ (если, например, президент заключит мирный договор между Японией и Российской Федерацией, который будет включать в себя возвращение Японии северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп), представляет ратификация этого документа парламентом России. Кроме того, по Конституции Российской Федерации необходимо одобрение такого договора парламентом и на всенародном референдуме.
Распространено мнение, что в связи с имеющим место в настоящее время соотношением политических сил в российском парламенте, утверждение в этом законодательном органе договора о дружбе между Японией и Российской Федерацией представляется сомнительным. Несомненно, при ратификации договора требуется его одобрение обеими палатами парламента Российской Федерации. Представляется, что в настоящее время в нижней палате парламента ‑ Государственной Думе ‑ преобладает отрицательное отношение к возвращению Японии Северных территорий.
Однако среди депутатов российского парламента не так много тех, кто располагает точными знаниями по вопросу о Северных территориях. Посредством развертывания просветительской работы, с разъяснением точных исторических сведений о Северных территориях, о том, что при заключении мирного договора соответствовало бы “принципам законности и справедливости”, а что – нет, необходимо исключить возможность пропагандистского влияния и убеждения депутатов проголосовать с наименьшей выгодой для России.
Отношение к вопросу о Северных территориях таких российских политиков, как президент СССР М.С. Горбачев, бывший президент РФ Б.Н. Ельцин и бывший премьер-министр РФ Е.М. Примаков, имеет один общий момент. Это – тенденция попытаться отложить решение названного вопроса на будущее. Другими словами, такой подход к данному вопросу означает “тактику, направленную на то, чтобы отложить территориальный вопрос в долгий ящик”. Если прочитать воспоминания М.С. Горбачева то становится ясно, что он ограничивается выводом о том, что для этого необходимо было заблаговременно “создать атмосферу” для разрешения вопроса о Северных территориях. Его воспоминания непременно разочаруют тех, кто непосредственно желает решения этой проблемы. Какое бы место в этих воспоминаниях мы ни взяли, нигде нельзя прочитать о том, что если российская сторона сначала возвратит северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, т.е. в последовательности, обратной вышеуказанной, то российско-японские отношения немедленно улучшатся. В последнее время бывший президент СССР М.С. Горбачев стал даже заявлять: “Если бы я оставался на своем прежнем посту, вопрос о Северных территориях, вероятно, уже давно был бы разрешен”.
В начале 1990 года во время поездки в Японию Б.Н. Ельцин, еще не бывший тогда президентом России, опубликовал “пятиэтапный план” разрешения территориального вопроса в японо-советских отношениях. Несмотря на то что после этого он выступил за ускорение претворения в жизнь этого “пятиэтапного плана”, он ни разу не заявил о внесении в него изменений. Согласно этому плану, обе страны прежде всего “публикуют декларацию, в которой признается наличие территориального вопроса” (первый этап), далее превращают названные выше территории в “зону совместной деятельности” (второй этап), затем “демилитаризуют” ее (третий этап), подписывают мирный договор (четвертый этап) и после претворения в жизнь каждого из этих этапов разрешение территориального вопроса “передают последующим поколениям”, чтобы они выбрали либо “совместное управление”, либо “превращение в свободную зону”, либо “возвращение” указанных выше территорий Японии (пятый этап).
Бывший премьер-министр Е.М. Примаков придерживался в этом вопросе еще более жесткой позиции, чем президент Б.Н. Ельцин. Он был приверженцем того, чтобы разрешение вопроса о Северных территориях “отложить в долгий ящик”. Е.М. Примаков в январе 1996 года на пресс-конференции, состоявшейся сразу после назначения его министром иностранных дел, заявил, что разрешение вопроса о Северных территориях, существующего в российско-японских отношениях, следует отложить на усмотрение будущих поколений, как это сделано с вопросом об островах Сэнкаку в японо-китайских отношениях. После того как ему был вручен протест Министерства иностранных дел Японии, Министр иностранных дел того времени Е.М. Примаков, взял назад свое предложение, направленное на то, чтобы отложить разрешение вопроса о Северных территориях в долгий ящик в соответствии с “формулой Сэнкаку”, и вместо этого выдвинул предложение о совместном хозяйственном освоении названных выше островов.
В вопросах совместного хозяйственного освоения Северных территорий имеются две точки зрения. В соответствии с одной из них считается, что такое освоение будет содействовать разрешению вопроса о Северных территориях, а в соответствии с другой полагается, что оно создаст препятствия для разрешение этого вопроса.
Сторонники первой точки зрения объясняют свою позицию следующим образом: чем не иметь никакого отношения к Северным территориям, лучше, чтобы хотя бы осуществлялось их совместное хозяйственное освоение – это повысит степень японского присутствия на островах и послужит “подготовкой атмосферы” для превращения их сначала фактически, а затем и юридически в территории Японии. Сторонники же второй точки зрения полагают, что совместное хозяйственное освоение названных территорий приведет к невольному или фактическому признанию того, что северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп находятся под суверенитетом России и что это может стать зародышем распада движения за возвращение Северных территорий.
Единственное, что произойдет, если с наступлением 2000 года не будет претворено в жизнь заключение мирного договора между Японией и Российской Федерацией – многие японцы разочаруются в своих ожиданиях. Японцы, с большим воодушевлением воспринявшие улучшение российско-японских отношений, в особенности после неофициальной встречи высших руководителей Японии и России в Красноярске, и рассматривавшие эту встречу как последний шанс на возвращение три года спустя северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, вероятно, испытают глубокое чувство разочарования.
Оставив в стороне вопрос о том, являются ли подобного рода опасения оправданными или нет, а также вопрос о том, кого требуется привлечь к ответственности, можно с достаточной степенью уверенности предположить, что оптимизм в отношении будущего российско-японских отношений, стремительно усилившийся после речи премьер-министра Р. Хасимото в обществе “Кэйдзай доюкай” (лето 1997 года), стал стремительно сходить на нет. Япония также убеждает российскую сторону, что сегодня, когда прекратилась холодная война и исчезло вооруженное противостояние между Соединенными Штатами и Советским Союзом, военно-стратегическая ценность северных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп значительно уменьшилась: эти названные выше острова, по их мнению, представляют собой не столько дополнительную собственность, сколько тяжелое наследие предыдущей эпохи, которое препятствует полной нормализации российско-японских отношений.
Российское население, в настоящее время проживающее на этих островах, чувствует раздражение в связи с тем, что из-за неразрешенности вопроса о принадлежности островов оно продолжает находиться в состоянии неопределенности. Вот почему большинство жителей уже не выступают против возвращения этих островов Японии.
Российская сторона выступает против возвращения Японии Северных территорий, аргументируя это как дипломатическими, политическими, экономическими (промышленность, туризм), так и психологическими факторами (престиж и честь граждан России).
Основное положение, которое выдвигает Япония в пользу того, чтобы получить северные острова – их “мизерность”. Мол, Россия в качестве компенсации за возвращение мизерных по своей величине островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп приобрела бы, вероятно, нечто гораздо большее – расположение Японии и возможность для России действовать в качестве полноправного члена Азиатско-Тихоокеанского сообщества при получении сильной поддержки со стороны Японии, а также активного сотрудничества с ее стороны в политике, дипломатии, экономике и других областях, и это только один пример.
Начало XXI века: российско-японские отношения
В настоящее время ни моментов, вызывающих непримиримые противоречия, ни вопросов, которые следовало считать спорными, за исключением территориального вопроса, в российско-японских отношениях почти нет. Хотя территориальный вопрос и не решен, существует много областей и ресурсов, которые позволяют взаимно развивать сотрудничество между двумя странами —Японией и Россией. Следовательно – прежде всего сотрудничество. Таким образом, одной из областей, в которых Япония и Россия могут сотрудничать, вероятно, является сотрудничество в области международной политики.
В этом случае сотрудничество Японии и России в современном мире, когда форсируется глобализация международной политики, после окончания холодной войны является не только просто желательным, но и настоятельно необходимым. Япония и Россия представляют собой государства – члены “большой восьмерки”, то есть группы главных государств – партнеров в современном мире. Права и обязанности, вытекающие из такого их статуса, поистине огромны. Если говорить конкретно, то сразу в памяти всплывают такие из них, как разоружение, контроль над вооружениями, разрешение конфликтов, возникающих в различных регионах мира, вклад в дело мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и т.п.
Например, в Токийской декларации, подписанной в октябре 1993 года премьер-министром Японии того времени Морихиро Хосокава и президентом России Б.Н. Ельциным, говорится следующее: “Премьер-министр Японии и президент Российской Федерации, приветствуя результаты, достигнутые до настоящего времени в области контроля над вооружениями и разоружения, и подтверждая необходимость их добросовестного воплощения, едины в понимании важности дальнейшего продвижения этого процесса и придания ему необратимого характера”. Названная выше Токийская декларация гласит: “Стороны приветствуют подписание в январе 1993 года в Париже конвенции о запрещении химического оружия и выражают надежду на то, что к данной конвенции присоединится как можно большее число государств, и она будет способствовать миру и стабильности во всем мире. Стороны соглашаются также тесно сотрудничать друг с другом в целях эффективного обеспечения режима нераспространения оружия массового уничтожения, средств его доставки, а также связанных с ним материалов, оборудования, технологии и знаний и в целях повышения транспарентности поставок обычных вооружений”.
Токийской декларация гласит: “Премьер-министр Японии и президент Российской Федерации… соглашаются активизировать вклад обеих стран в усилия ООН, направленные на урегулирование глобальных региональных проблем, и предпринимать тем самым совместные усилия для дальнейшего повышения авторитета Организации”.
Во имя еще большего развития сотрудничества между Японией и Россией в политической области желательна полная и всесторонняя нормализация российско-японских отношений. Два государства, испытывающие трения во взаимных отношениях, должно быть, не смогут активно и успешно вносить вклад в те международные отношения, которые затрагивают двусторонние отношения, и в многосторонние отношения, являющиеся гораздо более широкими, чем двусторонние отношения. Осознавая в достаточной степени это обстоятельство, лидеры Японии и России в Токийской декларации записали следующее: “Высшие руководители обеих стран едины в том, что для реализации задачи дальнейшего развития политических и экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе по различным вопросам существенную важность имеет полная нормализация отношений между Японией и Россией, играющими важную роль в этом регионе”.
Мировая практика решения территориальных вопросов насчитывает десятки, если не сотни прецедентов возвращения, передачи, отчуждения или иной формы передела территорий. Среди них, например, вывод в апреле 1946 года Советским Союзом своих войск с острова Борнхольм (площадью 558 кв. км), являющегося территорией Дании и оккупированного советскими войсками непосредственно после капитуляции Германии во второй мировой войне, после чего этот остров был возвращен Дании.
К числу принятых и зафиксированных документально решений территориальных вопросов относится подписание в феврале 1955 года Советским Союзом с Китаем окончательного протокола о безвозмездной передаче военно-морской базы Порт-Артур, после чего советские войска были выведены из этого района. В сентябре того же года Советский Союз возвратил Финляндии военно-морскую базу Порккалла-Удд (площадью 381 кв. м), которую советские войска оккупировали после капитуляции Финляндии в сентябре 1944 года и позднее взяли у нее в аренду. Советский Союз (Россия) пережил в 1969 году даже опыт кровавого инцидента вокруг острова Даманский (Чжэнбаодао) в связи с вопросом об определении государственной границы с Китаем. В результате длительных многолетних переговоров вопрос о пограничном размежевании, за исключением трех спорных пунктов, связанных с определением фарватера в районах впадения в реку Амур реки Уссури и реки Аргунь, в конце концов был разрешен в результате серьезной уступки России.
Во времена существования Советского Союза продолжались самые разные споры в отношении территории и границ. Однако в 1975 году на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе было принято решение “о нерушимости границ, сложившихся после второй мировой войны” (так называемый Хельсинкский Акт), в результате чего все территориальные проблемы в Европейском регионе были окончательно разрешены.
Япония также в свое время имела проблемы, связанные с восстановлением суверенитета над островами Амами-Осима, островами Огасавара и островом Окинава, но все они были благополучно разрешены, в результате чего она добилась восстановления над ними своего суверенитета. В настоящее время Япония настаивает перед Республикой Корея на том, что ей принадлежат расположенные в Японском море безлюдные острова-скалы Такэсима (их площадь 0,23 кв. км; по-корейски эти острова называются Токто и находятся фактически под управлением Республики Корея).