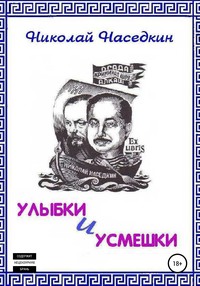Полная версия
Алкаш. Криминальный роман
Мне был предложен стакан чаю. Я с церемонной благодарностью его принял и, прихлебывая сей благородный напиток, вступил в светскую беседу. Мальца патлатого задавил я в пять минут. Он чего-то вякнул там про экзистенциальное понимание жизни, упомянул Жан-Поля Сартра, блеснув при этом умно очочками. Ну я и выдал!
– А вы помните, ещё Гуссерль был не совсем прав, утверждая, что жизнь есть существование? Не вполне согласен я и с Кьеркегором, считавшим жизнь выше существования. И уж совсем не прав Ортега-и-Гассет, отрицавший жизнь вне существования. Мне кажется, ближе к истине Монтень и наш блаженной памяти отец Павел Флоренский, которые утверждали: жизнь есть жизнь.
Я глянул проникновенно в глаза очкарику и утвердительно спросил:
– Надеюсь, вы согласны?
Тот, бедолага, уловив издёвку, занервничал, взялся что-то лопотать о многомерности философии общения. Лена, нимало его не стесняясь, подошла ко мне, обхватила голову мою руками, улыбнулась глаза в глаза, сочно поцеловала в губы и прижала лицом к груди.
– Умница ты моя!
Парнишка моментом куда-то слинял.
– Это тот, который очень хочет жениться?..
– Да ну его! – досадливо прервала Лена. – Ещё молоко на губах не обсохло… Пойдём к тебе, а то соседки сейчас припрутся.
Аркаши с Анжеликой, хвала аллаху, не было. Мы разделись, быстро, нетерпеливо, как в первый раз, и нырнули в постель. От блаженства, от счастья, от неожиданности случившегося я чуть не терял сознание.
– Лена! Леночка, я люблю тебя! – бормотал я непривычную для себя фразу, и я говорил правду.
Когда мы, истомлённые, лежали, откинув одеяло, и курили в темноте, Лена меня убила.
– Ты знаешь… Могла бы не говорить, но скажу: я ведь тебе изменила.
– Ха! Ну и шуточки!
– Какие шуточки, – голос её был твёрд и ровен. – Я вчера, после концерта, что ты мне закатил, ужасно разозлилась, взяла, да и позвонила тому москвичу с квартирой. Его Максом зовут, он с третьего курса. Он давно уже в гости приглашал, клеился. Обрадовался, конечно. Ну, я и поехала. Вот и всё.
– Как всё! – подскочил я на постели. Её будничный тон ставил меня в тупик. – Ты что же, прямо так сразу и отдалась ему?
– Почему сразу. Сначала коньяку выпили, потом слайды начали смотреть, на потолке – легли для этого… Ну и… Что ты как маленький!
– А родители? – я всё ещё не хотел смиряться.
– Какие родители? Парню двадцать шесть уже – один живёт.
Я отвалился на подушку и принялся бурно, по-киношному, дышать. Я не знал, что надо делать – опять разбежаться-рассориться?
– Ну, зачем, зачем?
– Сам виноват. Учти, ещё раз концерт мне закатишь, я и вот этому рохле Федюне отдамся – будешь знать!
– Но как же, как ты теперь собираешься, а? И с тем, и со мной? – я уже городил-спрашивал всякую чушь, голова не соображала.
– Да за кого ты меня принимаешь? – поджала она губы. – Он оказался грубым и здоровым мужиком. Представляешь, с первого же раза начал переворачивать меня, сзади пристраиваться… Тьфу, вспоминать противно!
Я заскрипел зубами, приподнялся на локте, пытаясь увидеть-рассмотреть в густом полумраке её глаза. Сердце моё колотилось от бешенства – это уже запредел. Говорить что-либо – бессмысленно. Бесполезно. Я опять откинулся навзничь, зажмурил глаза, стиснул зубы и принялся задавливать-давить злые позорные слёзы. Проклятье! Ну зачем свела меня Судьба с такой… такой… И заставила её любить…
Я понял-убедился окончательно и бесповоротно: я её люблю! Чёрт побери и её, и меня, но я её люблю!
Люблю постыдно и клинически.
5
На этот раз роман наш безоблачный не продлился и трёх суток.
Выпадает порой такой чёрный день в жизни человека, когда всё идёт с утра кувырком да наперекосяк, и к вечеру утверждается в душе одно только желание – удавиться или вены вскрыть. Утром, спозаранок, мы рассорились с Леной из-за пустяка: оба спешили на факультет, взвинтились – она меня подъязвила, я подпустил ей «дуру». Поехали в школу порознь.
Мне в этот день предстояло сдать зачёт по научному коммунизму и экзамен по истории советской литературы. Если за экзамен я не волновался, то зачёт дурацкий заранее бесил. Ну и, конечно, попался вопросик ещё тот: «”Малая земля” Л. И. Брежнева – новый этап в развитии теории и практики научного коммунизма». Преподаватель – деловой доцент со странной фамилией Локон – на семинарах позволял себе усмешливые комментарии к преподаваемому им предмету, но во время сессий его как подменяли: в зануду превращался, гад.
Я всё же попробовал отвильнуть.
– Геннадий Семёнович, – конфиденциально, косясь на второго экзаменатора, предложил я, – вы же знаете, что я просмотрел этот шедевр, содержание знаю – давайте не будем время тратить, а?
– Нет-нет, – с ухмылочкой, но вполне деловито оборвал Локон, – попрошу подробнее и с собственными выводами: в чём же состоит эпохальное значение произведения товарища Леонида Ильича Брежнева?
Сволочь конъюнктурная! Пришлось мямлить-пересказывать, припоминать подвиги полковника-стратега – вымучивать зачёт. Эта дурацкая «Малая земля» уже в который раз меня достала!
Ещё когда я после первого курса проходил практику в многотиражке ЗИЛа «Московский автозаводец», случился политический анекдот. Буквально на третий день практики дежурный по номеру попросил меня посмотреть-сверить вместо него оттиск одной полосы – ему позарез приспичило отлучиться в рюмочную. Я и посмотрел, я и сверил. Как раз на этой странице тискалось начало этого эпохального шедевра советской соцреалистической литературы: перепечатывали «Малую землю» якобы по бесчисленным горячим просьбам тружеников завода. Я принялся читать врезку от редакции, и глаза мои ополтинились: «посредственный участник Великой Отечественной войны товарищ Леонид Ильич Брежнев делится своими воспоминаниями…»
Я кинулся к своему завотделом, а тот от души всхохотнул: эх, мол, чему вас только на журфаке учат – деревня! Там же частица «не» будет – «непосредственный»– и её, эту частицу, позже, ручным набором вставят. «Фонарик» называется на журналистском сленге – запомни, мол, студентик…
На следующий день зиловские работяги развернули родимую многотиражку и кто со страхом, а кто и с наслаждением узнали-вычитали о «посредственном участнике» минувшей войны. Редактора «Автозаводца» разжаловали в простого парторга цеха, ответсека и того дежурного рюмашечника турнули из партии и с работы. А я потом жарко доказывал на факультете, что я не верблюд…
Мои надежды на очищающий экзамен меня подбадривали. Литературу я всегда сдавал с ходу и на «отл.». Вот и на сей раз, мельком глянув на вопросы, я тут же вызвался отвечать. Экзаменаторша – сухая, без определённого возраста и без ярко выраженных половых признаков дама, известная в узких кругах литературовьедка Полина Абрамовна Серая – слушала мои рассуждения о борьбе литгруппировок в 20-е годы вполуха, записывая что-то своё в тетрадь. Когда же я перешёл ко второму вопросу – «Поэзия Н. Рубцова в контексте времени» – вдруг оживилась, заволновалась, принялась сбивать меня. Да что случилось-то? Я начал сам горячиться, доказывать своё, но ей ответ мой явно не нравился.
– Вы слишком преувеличиваете талант этого поэта, – наконец сухо подытожила докторша филнаук. – Он далеко уступает, например, Пастернаку или Мандельштаму. Журналисту необходимо разбираться в поэзии.
– Но как же! – вскричал наивно я. – При чём тут Пастернак с Мандельштамом? Хорошие поэты! Но в связи с Рубцовым сразу всплывает в памяти имя Сергея Есенина, его «тихая» поэзия…
– Это у Есенина-то тихая поэзия? – голос окололитдамы стал ещё суше. – Довольно.
Она склонилась над моей зачёткой и нервно что-то в ней накорябала. Я взял, глянул – «хор.».
– П-п-позвольте, – я даже начал заикаться, – но у меня никогда по литературе не было четвёрки – это невозможно!
– Теперь есть, – она смотрела на меня холодно и даже с ненавистью.
И вдруг до меня дошло, я понял сердцем: не меня она так ненавидит – Рубцова с Есениным! Вот тебе и профессор русской литературы…
В ДАС я приехал с огнетушителем «Кавказа» в портфеле. Аркадий уже кейфовал дома – довольный и вполпьяна: огрёб зачёт по коммунизму и привычный трояк по лит-ре. Гуляй, ребята! Ленка пока не появлялась, да я и предчувствовал – ссора-обида опять затянется, и сегодня Елену Григорьевну вряд ли стоит ожидать. Да и дьявол с ней! Где-то задержалась и Аркашина Анжелика – . Мы пустились в загул вдвоём.
И вот тут я получил оглушительный, жестокий удар ниже пояса… В прямом смысле! У меня вдруг обнаружилась-проявилась глазная болезнь: приспичило отлить паршивый ядовитый «Кавказ», и только я приступил к процедуре – глаза мои от боли полезли на лоб. Я глянул на себя в зеркало этими выпученными идиотскими глазами и мгновенно понял – влип. Это точно, как ещё её именовали в студенческом фольклоре, – птичья болезнь: не то два пера, не то три пера.
Я взвыл. Кинулся из ванной к Аркаше: что делать? Как быть? Аркадий был по этой части уже дока: он вместе с первым опытом любви подцепил тогда, на первом курсе, от мясистой Лизаветы и подарочек. Аркаша осмотрел-обследовал меня и философически резюмировал:
– Мужик всё должен испытать. Да-а-а… Теперь слушай сюда: первым делом – пить нельзя. Ни грамма! А завтра – к Лазарю Наумычу в диспансер.
Я кинулся искать эту стерву. Клянусь, я бы тут же на месте убил её! Но Бог её в тот вечер спас – она не ночевала в ДАСе.
На следующий день, прибежав из больницы, уже с первым бициллиновым зарядом в заднице, я ворвался в 307-ю. Она спала сладко, уткнув нос в подушку. Я сдёрнул одеяло.
– Одевайся!
Девчонка-соседка из своего угла молча испуганно смотрела. Эта же тварь попробовала куражнуться: спать, мол, хочу – отстань.
– Одевайся, – без крика, страшно повторил я.
Лицо моё, я чувствовал, побелело насмерть. Она испугалась. Молча вскочила, накинула халат. Я схватил её цепко за руку, поволок из комнаты, по коридору, вверх по лестнице – она чуть не падала, теряя сабо. Встречные дасовцы шарахались от нас. Я отпер дверь, втолкнул её в комнату, повернул ключ на два оборота, скрестил руки на груди и молча начал на неё смотреть. Она вдруг испугалась всерьёз, прижалась лопатками к шкафу.
– Ты чего, Вадь? Я у родственников ночевала… Правда, правда!
Я разлепил пересохшие губы, прохрипел:
– И ты на этот раз от родственников уже сифилис мне привезла?
– Какой сифилис? – распахнула она глаза. – Ну и шуточки!
– Шу-точ-ки?! – взревел не своим голосом я и схватил со стола прикрытый газетой охотничий складной нож. Мы им безобидно чистили картошку и резали хлеб, но лезвие у него мощное, широкое – убойное.
– С-с-сука! – я наотмашь замахнулся…
И в этот миг я увидел её глаза – заспанные, ненакрашенные, детские, переполненные недоуменным страхом. Она смотрела почему-то не на лезвие, а прямо мне в лицо. Бледность высветлила скулы. Рот её начал приоткрываться для последнего предсмертного крика…
Что-то дрогнуло во мне. Но движение руки уже началось, убийственный удар остановить уже было нельзя.
Я дико взвизгнул, бросил левую руку, ладонью вниз, на плоскость стола и – ударил.
Нож с хрустом вошёл в мою плоть, пробил её насквозь, пригвоздил к дереву. Брызнула кровь.
Я тупо смотрел на перламутровую рукоять – она покачивалась.
Лена вскрикнула и закрыла лицо руками.
Глава IV
Как я потерял и руку, и голову
1
Утром, уже в девять, мы с ней были в вендиспансере.
Всю дорогу, два квартала, вышагивали молча: я впереди, она сзади. Я знал: теперь я не скажу с ней ни слова, ни полсловечка что бы ни случилось – уже бывали в моей жизни случаи, когда неделями я, психанув, не разговаривал с родной матерью. Я ещё накануне замолчал, когда она, Лена, бросилась было ко мне с лепетом, слезами, руку раненую хватать начала. Я только процедил: «Завтра к девяти идём в больницу вместе», – и вывел её за порог.
В коридоре венерической лечебницы, несмотря на столь ранний час, уже толпились жертвы своего темперамента обоего пола. Я сел в мужскую компанию-очередь, Лена пристроилась напротив, среди баб, бабёнок и девах. Там сидели сучонки и моложе её – совсем школьницы-семиклашки. Впрочем, кожных хворей на свете немало, бывают заразы и безрадостные. Лена сидела, уткнувшись взглядом в затёртый пол, уши её горели. Она была без косметики, гладко причёсана, в длинной тёмной юбке, белой кофточке с глухим воротом: ни дать ни взять – воспитанница института благородных девиц. Над её головой яркий плакат с голой грудастой проституткой предупреждал: «Не соблазняйся – пожалеешь!» Груди простипомы с чудовищными сосками были почему-то ядовито-фиолетового цвета – и орангутанг пьяный вряд ли соблазнился бы.
В руке моей пульсировала боль. Ладонь, туго спеленатая бинтом, густо благоухала «Шипром». Перевязку мы с Аркашей делали ночью, уже под утро, так что йод или зелёнку искать – не то время, да и недосуг. Из-под повязки торчали лишь кончики пальцев. Я мог шевелить только большим и мизинцем, безымянный же, средний и указательный распухли и горели огнём.
Два мужика рядом со мной разговорились. Я прислушался, отвлекаясь от корявых дум и боли.
– Хе, да я уж восьмую ходку делаю, ветеран здешний, – весело, с аппетитом жаловался худой, похожий на слесаря-алкаша. – Прямь напасть какая-то: как залезу на новую бабу, так глянь и – закапало. Уж не повезёт, так и на родной сестре триппер словишь…
– Ты што, с сестрой родной, што ли? – раззявил рот губастый и упитанный его собеседник.
– Со сродной! Совсем, «што ли»? Поговорка это такая, про сеструху-то… А ты чего, тоже с этим?
Губастый скривился, вздохнул.
– Эх, если б! Я бы от радости сплясал щас… Сифон у меня проклятый. Никак не отцепится. Нахрадила одна стерва ещё в позапрошлом ходу – вот и маюсь. Всехо-то разочек и трахнул её, а вот… Хадина!
Я непроизвольно отодвинулся от сифилитика, с содроганием подумал: «Чёрт, а ведь и мои анализы ещё неизвестно что показали… Как оглоушит сейчас Лазарь Наумыч, обрадует…»
Старый циник упёр в меня свой чудовищный рыхлый багровый шнобель и брезгливо поинтересовался:
– Привёл свою коханую?
– Привёл, – буркнул я.
– Зови, а сам подожди за дверью.
Я вышел, кивком позвал Лену. Она суетливо, жалко привскочила, заспешила под взглядами очередей в кабинет.
Минут через десять она выскользнула обратно и так же, опустив очи долу, пошла по коридору к лаборатории.
– Ну, рассказала она – от кого? – спросил я Лазаря Наумыча, хотя и так прекрасно всё знал.
– А вот это, молодой и влюбчивый человек, есть врачебная тайна. Ты вздумаешь укокошить соперника, а мне – грех ненужный на душу.
Укокошить?.. Ха! Мне и в голову не приходило…
Однако ж, когда, закачав в мышцу ещё одну порцию антибиотика, я шагал обратно в ДАС, бросив бывшую возлюбленную в заразной лечебнице, я всерьёз задумался над словами старого еврея. А что, действительно, я ведь сильнее всех и пострадал. Взять вот, да и садануть быка этого московского, сынка номенклатурного ножом под дых… Или хотя бы морду ему отшлифовать…
Впрочем, одному-то где мне: судя по её описаниям, этот третьекурсник Макс Мельник, которого я сразу переиначил почему-то на немецкий лад Мюллером, – был здоровёхонек. Меня особенно бесило даже не то, что хмырь этот, как выражаются на востоке, испил из моего кувшина, а – его сынковость, его квартира, подаренная ему папашей, райкомовским кабаном, его несомненная спесь: уж, конечно, он махрово презирает таких, как я, – сирых и убогих дасовцев.
«У-у-у, сволочь! Точно – убью!» – потешил я себя мечтаниями, разгребая промокшими насквозь сапогами снежно-грязевое месиво московских мостовых и придерживая правой рукой горящую в огне боли левую. И главное гадство – выпить нельзя, а как без этого наркоза иначе можно уравновеситься?
На следующий день Судьба решила щекотнуть меня, проверить на вшивость. Я томился в очереди за уколом, когда приоткрылась дверь кабинета, и медсестра, презрев все и всяческие врачебные тайны, завопила на весь коридор:
– Мель-ник! Мельник есть?
Я вскинулся: по коридору ко мне стремительно приближался этот негодяй. И вправду – Мюллер: массивный наглый нацистский какой-нибудь унтерштандартенфюрер. Накануне, сладко мечтая о мщении, я знал-надеялся, что всё это произойдёт нескоро – вот-вот каникулы, да и пока рука подзаживёт… И вот, пожалуйста, надо резко принимать решение, вскакивать, размахиваться, бить его по харе…
Очень получилось бы зрелищно!
Он прошествовал мимо, мельком глянув на моё, не знакомое ему, лицо. По виду его можно было подумать – идёт он не в кабинет венеролога триппер свой демонстрировать, а на трибуну комсомольского собрания – речугу толкануть…
Тьфу на тебя, морда фашистская! Провались и ты, и она вместе с тобой!
Суки заразные!
2
Наш Дом активного секса в каникулы опустел.
Укатил по путёвке и мой Аркаша – в подмосковный студенческий лагерь. Тоска – хоть взвой. Беспокоила рука, но больше душа тревожилась. Без спасительного «Кавказа» как бы и впрямь не начать себе вены потрошить.
Я то и дело натыкался на её вещи, ненужно каждый раз волнуясь. У меня осталась целая коллекция: махонькие тапочки, гребешок, зажигалка газовая, первый том «Опытов» Монтеня…
Я уж не говорю о записках и фотографиях. Тех фотографиях. Я отпечатал тогда всю плёнку, 36 кадров, словно сделал колоду порнокарт, и в двух экземплярах. Не знаю, как распорядилась своей колодой она, я же сразу выбрал-оставил пять её изображений – самых художественных и качественных, остальные уничтожил. Хотел теперь изрезать и плёнку, но зачем-то решил оставить-сохранить. Зачем?.. А затем, чтобы сладко и ядовито помечтать в пьяном угаре, как однажды, когда она будет счастлива с другим, остепенившеюся матерью семейства, я, страдающий, брошенный, презираемый, – предъявлю-вытащу из тайника эту плёночку и посмотрю, как изменится она в лице.
Просто посмотрю и – всё…
Я ходил из угла в угол по комнате часами – в тишине, в одиночестве – и, укачивая больную руку, всё думал, вспоминал, размышлял. Пора уже нагрянула и за диплом вплотную садиться, и преддипломную практику проходить, и с распределением конкретно решать. В самом деле – не ехать же в Севастополь. Или всё же – в Севастополь?..
Голова бастовала.
Руку тревожить я старался как можно реже, перевязывал через день. Сначала, приседая от боли, обжигал рану одеколоном, потом купил мазь Вишневского. Ладонь припухла. Всё туже распиралась пульсирующей болью. Пальцы по-прежнему не шевелились. Видно, дурацкий нож задел, а может и вовсе перерезал сухожилия. Тогда мне светило до конца жизни ходить с растопыренными пальцами…
И вот тут, дурак, вместо того, чтобы помчаться в поликлинику, я, только лишь завершился мой укольно-бициллиновый курс, на последние рубли купил билет, отстучал телеграмму и помчался от тоски московской к родному дядьке, полному моему тёзке – Вадиму Николаевичу, в славный хлебосольный город Ворошиловград. Поживу, решил, у родичей недельку, откормлюсь на домашних харчах, попью горилки – уже можно теперь. Да и над дипломом посижу, ведь в тамошней библиотеке наверняка найдутся мои любимые поэты. Тему я взял самую что ни на есть творческую и от журналистской практики далековатую: «Общность интонации в поэзии Сергея Есенина и Николая Рубцова». Я уже и тогда предполагал-предчувствовал: газетная подёнщина – всё же не мой хлеб.
Но уже в поезде, ночью, мне стало оченно и оченно препаршиво. В плацкартном вагоне натопили так, словно эта была передвижная баня, и я себя на второй полке чувствовал доподлинно, как на полке. Порою я всерьёз воображал, будто еду, как и мечтал совсем недавно, в Крым. Там ждут меня родимые дивные очи – огромно-серые, бесхитростные. Плещет море… Вдали, у самого горизонта, движется белый пароход… Над волнами – чайки… Возле берега выпрыгивают из моря два ласковых дельфина, весело кувыркаются… Мы с Леной, той Леной, взявшись за руки, заразительно смеёмся…
Внезапно море темнеет, застывает, мертвеет. По нему, прямо из-под наших ног, скользит огненный пунктир – стремительно, целенаправленно, страшно – и вонзается в корабль: словно в гигантском игральном автомате под названием «Морской бой». Взрыв! Белый корпус разламывается, оседает, погружается в кисельную морскую муть. Совсем близко от берега покачиваются белыми брюшками вверх мёртвые дельфины. Лена впивается в левую мою ладонь острыми ногтями – до нестерпимой разрывающей боли…
Стряхивая душный кошмар, я бьюсь лбом о третью полку, прихожу в себя, отдуваюсь, свешиваю голову вниз. Мои попутчики-соседи, разметавшись от жары, храпят, бормочут, вздрагивают, – переживают свои сонно-дорожные кошмары. Рука болит, на душе, как за окном вагона, – мрак и темь…
Жена дядьки, хлопотунья Надежда Михайловна, всю войну оттрубила фронтовой медсестрой. Она тут же, за столом, когда ещё не закруглился обильный празднично-встречный завтрак, чуть не насильно размотала мою руку, глянула сквозь толстые очки на рану, которую я, якобы неосторожно, нанёс себе во время игры неведомой, и заволновалась. Да и то! Я и сам напугался: ладонь чудовищно распухла, вокруг раны блестевшая натянутая кожа зловеще потемнела. Тётя надавила пальцем, послышался явственный и какой-то нежный хруст – словно потрогали-помяли папиросную бумагу.
– Температура есть? Озноб? Понос? – вцепилась в меня Надежда Михайловна. – Как ночь спал? Аппетит какой?.. Впрочем, аппетит, вижу, пока есть, слава Богу. Температуру сейчас замерим… Но, голубчик, в любом случае – немедля к врачу. Срочно! С антоновым огнём, милый мой, шутки плохи.
– Это гангрена, что ли? – сник я. Вот и произнесено страшное роковое слово, которое пытался вытравить я из своего сознания, забыть. – Вы преувеличиваете, тётя.
– Если бы! На-ка вот градусник под мышку, да почитай пока.
Она подсунула мне толстенный фолиант медицинской энциклопедии. Я посмотрел:
Гангрена – омертвение органа или его части в живом организме при нарушении кровообращения… При этом ткани подвергаются гнилостному распаду. Чаще всего кровоснабжение нарушается в результате механического разрушения питающих сосудов – ушибов, размозжения, разрывов… (Ничего себе словечко – размозжения!) Различают сухую и влажную гангрену… Поражённая гангреной часть тела увеличена в объёме, имеет синеватый, сине-чёрный или чёрный цвет, а в случае присоединения гнилостной инфекции – бурый или зелёный… Резкого отграничения мёртвых тканей от здоровых не отмечается, и гангрена быстро прогрессирует. В организм всасываются продукты гниения и разложения, что ведёт к общим тяжёлым реакциям: повышается температура, возникают потрясающие ознобы (потрясающие – во завёрнуто!), нарушается функция кишечника, пропадают сон, аппетит, язык сухой, появляются вялость, заторможенность. Всё это создаёт смертельную угрозу для жизни больных. Требуется экстренное хирургическое вмешательство…
Да-а-а, не слабо!
Я глянул на градусник: чуть есть – 37 и 8. Впрочем, организм мог подогреться от доброй порции горилки. Вялости и заторможенности вроде нет, но это опять же – следствие домашней перцовой настойки…
Но, нет, хватит себя обманывать: я знал и понимал трезво – действительно, уже срочно требуется постороннее хирургическое вмешательство в мои внутримышечные воспалительные дела. Видно, во мне и вправду начался гнилостный распад. Бр-р-р! Я криво усмехнулся:
– Тётя, это значит – мне руку оттяпают?
– Не знаю, – сурово отказалась от обезболивающих слов бывшая фронтовая медсестра, – могут и, как ты выражаешься, оттяпать. А могут и просто прочистить хорошенько рану.
– И сколько же, в лучшем случае, я проваляюсь в больнице?
– В лучшем – месяц, а то и два, а, не дай Бог, осложнения пойдут, то и больше.
Я сидел как оглушённый. Вообще не люблю жёстких ситуаций в жизни, а тут прямо в острый угол Судьба меня загнала. Мало того, что рискую руку потерять (чему я, впрочем, ещё не верил и верить не хотел), так вдобавок диплом сорву, год потеряю. Да и представить себя в больничной палате в чужом городе, среди чужих, среди старичья…
– Я – в Москву! – вскочил я с кресла.
Дядька с тёткой враз и дружно замахали руками. Вадим Николаевич любил меня, да и подумать было ему больно, что лишится он внезапно и так вдруг ежедневной и законной чарки за обедом и ужином.
– Да типун тебе, Вадя! Сейчас руку горилочкой промоем, компрессик сделаем и – никаких докторов-шарлатанов не понадобится.
– Вадим, ты с ума сошёл! – со своей стороны подступила ко мне Надежда Михайловна. – Тут буквально несколько часов могут оказаться роковыми. Ты что же, жить уже совсем не хочешь?