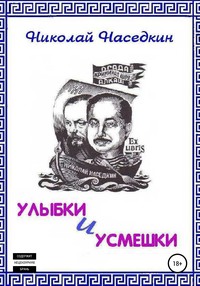Полная версия
Алкаш. Криминальный роман
Но меня было уже не остановить. У меня так всегда: секундное взрывное решение тут же становится бронированным. Даже если я четверть часа спустя начинаю в нём сомневаться и раскаиваться. Только в Москву! Как бы дела ни повернулись, я хотя бы диплом спасу. Да была и ещё одна – потаённая – причина…
Я чмокнул тётушку на прощание, подхватил так и не распакованную сумку и бросился на вокзал. Дядюшка, моментом собрав мне в дорогу сидор с едой и бутылкой антисептической жидкости, а ещё прихватив чекушку на провожальную минуту, еле поспевал за мной.
– В Москву! В Москву! В Москву! – кричал я, как нервическая героиня Чехова, правда, не вслух, а мысленно, но с не меньшей тоской.
В Москву!
3
Вагон странно и мерзко потряхивало – рывками, неритмично.
Каждый толчок отзывался в воспалённых мозгах и левой руке. И чей-то резкий взвинченный голос всверливался в уши совсем рядом, с соседней полки, однако слов я разобрать-понять не мог.
Я начал открывать глаза. Меня сразу затошнило, в желудке булькнуло. Я всё же разлепил опухшие веки – вместо тёмного дерева вагонной полки надо мной в страшной высоте белел потолок. Длинная трубка люминесцентной лампы слепила мёртвым светом. Тряска и крики продолжались.
Я опустил подбородок на грудь, чуть приподнял свинцовый затылок и увидел-разглядел: металлическая спинка койки, на которой я лежал, к спинке поясницей привалилась фигура в белом халате. Она, сотрясая мою кровать, визгливо-женским голосом корила кого-то:
– Свинья! Хошь бы соседей постыдился! Замолкни, я те сказала! Заткнись!..
В ответ мужской плаксивый дискант:
– Скотина грёбаная! Блядь распоследняя!.. Ну дай – только раз курну… Один только разочек, а! У-у-у, сука! А ещё дочь единокровная…
– Не на-до… – попросил шёпотом я.
Меня никто не услышал.
– Не на-до!
Ноль внимания. Я кашлянул и, набрав от бешенства сил, простонал яростно:
– Не на-а-адо меня-а-а трясти-и-и!
Фигура в халате повернулась: девка щекастая, румяная – уставилась непонимающе.
– Вы меня трясёте, мне – больно, в голову отдаёт, – промямлил я из последних сил.
– Поду-у-умаешь! – вдруг обиделась девица, но, передёрнув дебелыми плечами, отошла.
Я с облегчением откинулся на жёсткую подушку и закрыл глаза. Та-а-ак, значит, я – в больнице…
Я начал смутно припоминать, как ещё в вагоне мне стало совсем нехорошо, рука словно под пыткой на углях поджаривалась. Я подпитывал-поддерживал себя всю ночь тётушкиным лекарством прямо из горлышка и не пьянел, а лишь взбодрялся.
Однако ж дома, в ДАСе, я еле успел помыться-побриться и взяться за перевязку, как хворь, отбросив шутки, скрутила меня всерьёз, принялась душить – меня затрясло. Я перетрухнул, но сообразил – до студенческой поликлиники на Ленгоры не доберусь, в метро же и сомлею. Стукнулся к администраторше этажа, та сперва засомневалась – не с похмелья ли меня корёжит, но, увидав разбинтованную руку, охнула, набрала 03.
Припомнил я и как привезли меня в эту задрипанную старую больничку, стоящую под вековыми тополями и вязами, как с ходу, едва переодев и не слушая моих воспалённых истеричных возражений, меня потартали по узкому бесконечному коридору, заволокли в операционную со светильником, похожим на НЛО, припечатали лопатками к холодному столу, заткнули рот и нос удушающей приторной маской…
И вот тут, припомнив-восстановив всё это, я пережил одну из самых тяжких минут в своей жизни. Я чувствовал жгучую боль в левой руке, но только сейчас понял – горит плечо! Ещё боясь заглянуть под одеяло, я попробовал пошевелить левой рукой… Её не было! И вправду – по самое плечо!..
Чтобы не завыть в голос, я прикусил до дикой боли нижнюю губу и медленно приподнял одеяло – рука моя, родимая моя левая рученька была при мне. Она протянулась плетью вдоль тела, заканчивалась белой массивной куклой. Я даже хотел на время обмануть себя, уверить, будто на месте и ладонь, но было видно и ясно – рука укорочена. И всё же первый испуг-шок о потере всей руки помог мне осознать-пережить истинную беду.
Я лишь философски вздохнул: сам виноват и уже ничего не поправишь…
Впрочем, было пока не до философии и не до горестных раскаяний: меня крутило-мутило-корёжило так, что ни с каким, даже самым жутким похмельем и сравнить нельзя. Подобное, судя по киноширпотребу, испытывают наркоманы во время ломки. Я бы с удовольствием побежал в туалет и вывернулся наизнанку, но сил встать-подняться не находилось. Просить же утку, или как там эту посудину называют, я ещё не умел. Принялся терпеть. Потом подумал: хорошо бы медсестру вызвать – пусть снотворного вколет, но никакой кнопки сигнальной рядом не обнаружил…
Потом я буду зло усмехаться над этим своим первым больным желанием, а тогда, к счастью, без всяких снадобий я опять заскользил, заскользил вниз по бесконечному покатому спуску, как на санках в детстве с горы, и зарылся в рыхлый и тёмный сугроб сна.
В следующий раз очнулся-проснулся я, судя по всему, глубокой ночью. Полумрак, лишь над входной дверью испускал зловещий красный свет ночник. Через проход, напротив меня, пристанывал-скулил тот же дрянной голос:
– Ой, маманя! Маманя!.. Ой-ой, ну что же это?.. Маманя! Ой, маманя!..
И так – ровно, механически, беспрерывно. Я приподнял голову, взглянул: там сидел, отвалившись спиной на козырёк своей кровати, мужичонка, покачивался из стороны в сторону, зажав обеими руками белую культю – правой ноги не было по пах. На табурете рядом с койкой сидела девушка – не та, не давешняя, а тоненькая, с длинной косой – и молча смотрела на страдальца.
– Зинка! – простонал тот. – Ну дай мне покурить! Помру ведь – дай!
– Нельзя, папа, нельзя. Ты же знаешь. Усни так…
– У-у-у, вражина! Я думал, ты добрее Зойки, а ты – туда же… Ой, мамонька-маманя!..
Мужик голосил и разговаривал в полный голос, словно находился в многолюдной палате один. Но я не успел раздражиться, как снова унырнул в спасительное сонное беспамятство, хотя рука и продолжала гореть, словно ошпаренная. Видимо, организм уже притерпелся к боли, да и мозги никак не могли прочиститься после наркоза.
Окончательно приплыл я на этот берег уже ярым днём, во время обхода. Осмотрелся. В палате, длинной и узкой, потолок грязно-белый и с лепниной по периметру умахал от пола метров этак на шесть. В этом колодце стояло-теснилось девять коек торцами в главный проход. За козырьками большинства из них виднелись костыли.
Два доктора и медсестра с журналом начали с крайней койки у двери. На ней сидел, видать, только что – утром – поступивший дедуля деревенского вида: тощенький, пегая борода венчиком, в клетчатой рубашке и застиранном синем трико с пузырями на коленях. Плотный доктор, выпятив живот, остановился над ним, брюзгливо спросил:
– Ну, что у нас тут случилось?
– Да вот, и сам не пойму – мозоля обыкновенная была и вот…
Дедок закатал баранкой штанину, выставил на одеяло жилистую жёлтую ногу. Я чуть не ахнул: выше щиколотки она синюшно раздулась, мертвенно залоснилась. Хирург брезгливо ткнул в лодыжку перстом, отёр его куском бинта.
– Всё, дед, отплясался – резать будем, под самый корень.
Ну, подумалось, сейчас старик и взвоет-заголосит, завсплёскивает руками, кинется упрашивать доктора… Но старый вдруг с облегчением почмокал сухими губами, раскатал бодро линялую штанину обратно.
– Ну, вот, и слава тебе Господи! Теперь отдохну хоть на старости лет. А то прямочки замучили, ироды – и гонют, и гонют на работу, всё эксплатируют. Мало им!..
Уж кто там бедолагу эксплатирует – осталось загадкой, врачи двинулись дальше. Следующего, пожилого мужчину с больной ногой, главный тоже приказал готовить к операции. Ещё у трёх, кроме нытика, супротивного соседа моего, уже не хватало по ноге. А самый молоденький в палате, совсем парнишка, оказался и вовсе без обеих ног, но уже готовился к выписке. Девятый сопалатник мёртво лежал в углу с перемотанным вдоль и поперёк торсом – ему накануне оттяпали правую руку по самое плечо.
Сосед-плаксун, когда подошла его очередь, кинулся сразу причитать:
– Ой, доктор, ой не могу! Дайте мне укол какой от боли! Не сплю же я, горемычный, ни капельки!..
– Где это я вам уколов наберусь? – неприязненно буркнул эскулап. – Прокурил свою ногу, терпи теперь. Мужик ты, чёрт побери, или нет! Другие вон терпят…
Как я потом уже расспросил-разузнал в подробностях: все безногие в палате ампутированные конечности свои прокурили – разумеется, кроме бедного мальчишки, попавшего под трамвай. Вот так да! А я всё слушал жуткие врачебные предупреждения-агитки про эндартериит облитерирующий, да никогда не верил, посмеивался. Мамочки мои, да надо ведь с курением-то завязывать!
Забегая вперёд, скажу: слаб человек. Страх мой тотчас улетучился, лишь только я выбрался из больницы, и курил я потом ещё года три… Впрочем, об этом речь впереди.
А тогда, в палате, врач, подсев ко мне, страшно меня пуганул: мне бы, по его словам, хотя б на сутки раньше попасть на операционный стол… А теперь не исключено – чёрная отрава-гниль не остановлена, поползёт дальше и тогда…
Что тогда – он мог бы и не договаривать.
Несколько дней и ночей я жил трясуном и каждый раз во время мучительной перевязки всё внутри у меня обрывалось, замирало. Однако ж доктор брюзгливый, в очередной раз внимательно обследовав культю, удивлённо хмыкал:
– Надо же! Везёт тебе, парень, да и мне тоже – лишней работы, вроде, не предвидится
Уже много времени спустя, обдумывая всё это, я пришёл к выводу: а ведь в какой-то мере она же меня и спасла – Лена. Да-да! Убийственные порции антибиотика, уничтожая греховную заразу, попутно придушили, видно, и часть гангренных микробов, задержали страшный гнилостный процесс. Надо бы поподробнее об этом справиться у медиков, да всё забываю.
И ещё: до могилы (а до неё, может быть, и осталось-то мне – шаг-два!) буду добром вспоминать я того сановного, брюзгливого и грубого на вид хирурга по фамилии Горшков. Он же запросто мог отпилить-оттяпать без всяких хлопот рученьку мою и по локоть, и по самую шею, дабы не утруждать себя потом повторной операцией… Дай Бог ему приличной пенсии под старость и любящих не хулиганистых внучат!
Всё же мир, несмотря ни на что, не без добрых людей.
4
Но это я сейчас такой вумный как вутка, только вотруби не ем.
Тогда же, когда очнулся я полностью и совсем, душа моя, как у известного опального путешественника, страданиями народа уязвлена стала. Я имею в виду люд-народ болезный, и в первую очередь – себя самого. Меня всё бесило, раздражало, вгоняло в тоску: и боль непрерывная, и этот эскулап бесцеремонный, и лающие овчарками медсёстры в пятнистых халатах, и уколы из здоровенного конского шприца – одного на троих больных (благо, о СПИДе тогда и не слыхивали), и утки эти вонючие, и постоянное присутствие в нашей мужской палате дщерей нытика, да и голод не на шутку донимал.
В эту неделю, пока не разыскал меня Аркаша, я мог бы вполне стать дистрофиком, если бы оставался только на подножном больничном корме. Понятно, что все общепитовские повара воруют, однако ж в этой рядовой больничке пищеблоковцы болели клептоманией в особо острой воспалённой форме. Ещё в первый день, когда я очнулся уже далеко после обеда, сосед справа – выздоравливающий мясистый старик без левой ноги с сивыми будённовскими усами – посочувствовал:
– Тошнит, поди?.. Знаю, знаю, не до еды теперь, а вот попить надо… На-ка, я тебе чайку сладенького из столовки попросил – возьми-ка вон на тумбочке.
Я глянул: на нашей общей с этим дедом тумбочке стояли два гранёных стакана с водичкой. Видя моё недоумение, сосед спохватился:
– Ох, а в каком же чаёк-то? Я и сам запамятовал. Нукась…
Он прихлебнул из одного стакана, затем из другого и удовлетворённо расправил усы.
– Вот он, чаёк-то – с сахарком. Пей, родимый.
Я поначалу подумал: мол, дедок-ветеран меня разыгрывает, развлечь хочет наивной шуткой, однако размышлять не моглось и не хотелось – я, приглушив брезгливость, жадно выхлебал чай. Но потом я убедился, что Андрей Иваныч, так звали соседа моего, и не думал шуточки шутить – в больничной столовке потчевали бесцветным чаем, жидким супцем, сухой кашей и пригорелой рыбой. Так что мне невольно пришлось в начале больничной жизни пользоваться радушием Андрея Иваныча, которого супружница регулярно снабжала сидорами с ветеранским вполне жирным пайком.
Правда, за полукопчёную колбаску, сгущённое молоко и домашние пирожки с ливером приходилось мне платить временем и вниманием. Андрей Иваныч страстно любил повспоминать свою боевую юность, именно юность – когда он был лихим красноармейцем-конником. О последней войне он как-то умалчивал: то ли в плену побывал, то ли в тылу отсиделся.
Поначалу я с еле скрываемым вздохом откладывал Монтеня, в бреду прихваченного мною в больницу, и, подавляя зевоту, слушал пламенные воспоминания ветерана. Но уже вскоре зевота перестала меня донимать. Одно дело, что Андрей Иваныч оказался рассказчиком от Бога, живописал всё увлекательно, зримо, но он к тому же упомянул-обронил к случаю название города – Баранов. Вот тут уж я принялся слушать всей душой. Оказывается, в 1921-м Андрей Иваныч, тогда ещё безусый сын полка в армии командарма Тухачевского, громил банды ярого врага советской власти, кровавого гада Антонова.
Особенно запал мне в память один эпизод из мемуаров Андрея Иваныча: бравый командарм Тухачевский, не в пример предшественникам-слюнтяям, объявил бандюгам смертный и беспощадный бой. Он издал приказ: людей, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда и следствия. В селениях, где замечены бандиты, брать заложников и расстреливать их, если бандиты не сдадутся. И ещё: ежели в доме у кого найдено будет оружие – расстреливать на месте и без суда хозяина-укрывателя.
– И вот в селе одном, – рассказывал Андрей Иваныч, утирая губы и усы от одесской сальной колбаски, – уж щас и названия не упомню, остановились мы с моим ротным, у которого я вестовым служил, в избе крайней. А там – парнишка, самый старший из пяти, мой ровесник – лет тринадцати. Я, само собой, на него сверху вниз циркаю сквозь зуб: на мне будёновка со звездой, гимнастёрка, ремнём перехваченная, галифе на полгектара, шашка боевая на боку да наган в холщовой кобуре. Вертелся-вертелся пацан этот вокруг меня, слюни от завидок пускал, а потом надумал чего-то, отозвал меня за сарай, сопли утёр и шепчет: дескать, знает-видел, где дед его винтовку с шашкой закопал. Только, грит, винтовку забирайте, а шашку мне – я, грит, тоже хочу в Красной Армии воевать у славного командарма дяденьки Тухачевского… Ну совсем ещё малец глупой – сопляк.
А дед его и вправду матёрым бандюгой оказался, даром, что бедняк из бедняков. Уже когда у стенки сарая стоял под дулами, беззубый рот свой расхлявал, рубаху посконную рванул на груди да как завопит: «И-и-ироды! Убивцы! Креста на вас, бандитах, нету!»
Представляешь, он же, антоновский гад, нас бандитами и окрестил. Да и живуч оказался, даром, что тощий – сущий скелет. Дважды залп пришлось давать – патроны тратить.
– А парнишка? – спросил я.
– Чего парнишка?
– Ну, парнишка-то этот, внук – где во время расстрела был?
– А-а-а… Да не помню. Вроде, там же и стоял… Он потом к нам просился, да кто ж его возьмёт – бандитский выродок…
Признаться, и я тогда, замороченный компропагандой, считал Антонова бандитом, а Тухачевского героем, но всё равно меня поразила вот эта предательская тупоголовость одного из предтечей Павлика Морозова. Так и вижу, как стоит он – в короткой рубашонке, рваных портках – позади шеренги красноармейцев и с любопытством наблюдает, вытягивает шею…
Однако ж, разумеется, свой бутерброд с колбаской от щедрот геройско-ветеранского пайка я укусывать не перестал, но, заминая бандитско-боевые воспоминания, перевёл на другое:
– Андрей Иваныч, а что это за город такой – Баранов? Красивый хоть?
– А чёрт его знает. Я ведь с тех пор в нём и не бывал. Да и тогда только три дня в самом Баранове стояли, потом в уезд отправились, а тут следом меня и ранило в первый раз. Единственное чего помню: две улицы городские только и есть – одна вдоль, другая поперёк. А остальное – деревня деревней и грязь по уши…
Гм, странно, она рассказывала по-другому – красивый и уютный городок. Она… Я достал из-под подушки увесистый том литпамятника, раскрыл, уставился. Уже задрёмывающий Андрей Иваныч вполне мог подумать, будто я вычитываю-впитываю премудрости Мишеля Монтеня, вроде:
Размышлять о смерти – значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – не зло…
Ух, и золотые, платиновые слова!
Правда, в тот миг я вовсе не вдумывался в философствования великого француза – я рассматривал тайком от сопалатников фотопорнуху. Сам не знаю, каким макаром те пять фотоизображений Лены попали вдруг в мудрую книгу, а вместе с нею и в больницу.
Особенно долго изучаю я один снимок, любимый мною: Лена лежит на боку поверх одеяла, подперла голову рукой, смешливо улыбается в объектив, грудки французские, с кулачок, – напоказ, треугольничек волос, нежно-плавный изгиб бедра; вся маленькая, миленькая, родная…
Сука паршивая!
5
Аркаша появился, как джинн из бутылки, внезапно.
И, конечно, с бутылкой – да не одной. Я так ему обрадовался – до слёз: они прямо брызнули у меня из глаз, когда увидал я его долговязую фигуру у колонны в мрачном вестибюле больницы. Друг кинулся ко мне навстречу, хмельно-возбуждённый и от вина, и от встречи, но вдруг запнулся, уставился с испугом на мою культю на перевязи.
– Вадим! – вскрикнул он и остановился, не зная, что и как говорят в таких случаях.
Я вспомнил, как лет за десять до того пришёл к однокласснику в больницу. Он попал под мотоцикл – ему отрезали ступню. Как же мучительно было мне в ту минуту, когда я увидел его – уже на костылях, убогого, – как не мог найти ни слов, ни интонации…
– Аркаша! – скривил я плачущую мину, отводя его в уединённый угол. – Представляешь, теперь девок толечко одной рукой мне обнимать и щупать – кошмар!
Он глянул на меня оторопело, ещё не уловив тональность.
– А пробки?! Как я теперь буду пробки из вина болгарского вытягивать – а?
И я дурашливо взвыл, тихонько прискуливая. Друг Аркаша сразу ожил, распрямился, всхохотнул, тряхнул дипломатом.
– Ничего, Вадька, прорвёмся! Болгарское не болгарское, а твой любимый крымский портвешок туточки, со мной…
Мы спрятались под лестничный марш, где уже до нас оборудовали из сломанной каталки свидальную скамью. Аркаша достал бутыль, распечатал, отломил по ломтю от батона и очистил по сосиске. Запасливый друг мой не забыл прихватить и стакашек. Мы выпили сперва за дружбу, потом, не мешкая, за всё, что хорошо кончается и сразу же доопустошили бутыль, дабы не попасться с поличным. Подзакусили и тихонько закурили. Аркаша начал живописать, как он приехал из студлагеря усталый и опустошённый – во всех смыслах, как увидел мой записон на своей кровати, как кинулся сразу сюда, а по дороге – в магазины…
Я был сыт, пьян и нос у меня был в табаке. Я готов был расцеловать друга Аркашу, но у нас, мужественных, жизнью битых сибиряков, не водилось этой московско-педиковской привычки – лизаться мужику с мужиком. Я лишь крепко на прощание пожал ему руку своей уцелевшей рукой и без всяких ёрничаний сказал:
– Ну, Аркадий, ты – настоящий друг! Спасибо.
– Да ладно, – засмущался мой гренадер, – каждый советский студент на моём месте поступил бы так же!
Ну никак не мог он быть серьёзным.
Я вернулся в палату уже выздоравливающим, неся под мышкой газетный свёрток с батоном, сосисками, бутылкой «Крымского» и тремя пачками «Явы». Эх, а вот про неё я и не спросил – приехала ли, что да как? – а друг Аркадий сам не догадался. Хотя, он же сказал, что в ДАСе и пяти минут не пробыл, так что вряд ли и сам чего знает.
Дома, то есть, тьфу, в палате нашей мерзкой я первым делом показал Андрею Иванычу уже распечатанное Аркашей горлышко злодейки – а? Ветеран сглотнул слюнки, но замахал руками.
– Что ты, что ты! У меня давление – уж и вкус позабыл.
Тогда я тихонько, прямо из газетного свёртка, нацедил себе в стакан сладко-хмельного эликсира и, прихлёбывая, принялся мечтать, глядя за окно. Там виднелся грустный обшарпанный купол церкви. Но всласть кейфовать и тянуть вкусную канитель хмельной мысли мешал тот хмырь напротив. На этот раз возле него дежурила младшая дочь, Зина. С нею зануда вёл себя потише, но полностью человеком быть это животное уже не могло. Дщерь только что вынесла из-под него зловонную утку, которую он требовал по десяти раз на дню, и теперь страдалец сидел, отвалившись на подушки, отдыхал. Время от времени он громко отрыгивал или звучно пускал буйные терпкие ветры. На нём болталась одна майка в жёлтых потёках и пятнах, трусы он не носил – тощий зад изукрашен зелёнкой. Он тупо, машинально массировал обрубок, почёсывая попутно бывшие свои мужские причиндалы, и вдруг привычно своим мерзким дребезжащим голосом заканючил:
– Ну дай мне курнуть, а… Разочек только… Ах и дрянь ты тоже, Зинка! Кури-и-ить хочу!..
И он с досады так оглушительно громыхнул-треснул задом, что дочь вздрогнула, втянула голову в плечи, но даже не обернулась, продолжала, бессильно уронив руки на колени, смотреть в окно, на старый купол без креста.
Я разглядывал в упор это человекоподобное существо и думал: ну, вот для чего оно ещё живёт? Всегда ли этот мужик был таким, или от несчастья своего так скурвился?.. Неужели и я когда-нибудь способен докатиться до такого? Вот тебе и – гомо сапиенс… Вот тебе и – Мишель Монтень… Вот тебе и: человек – это звучит гордо…
Мысли начали цепляться друг за дружку, переплетаться змейками, путаться. Вдруг передо мной появился живой Мишель Монтень – лысый, с усами, как у Аркаши, в пышном жабо, с мудрым усмешливым взглядом – и, погрозив тонким пальцем с массивным перстнем, выдал: «Запомни, жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы!..»
– Неустроев! Неустроев есть в этой палате?
Я вскидываюсь.
– Там пришли – внизу.
Судя по затемневшему окну, уже сгустился вечер. Спросонок я никак не соображу: Аркадий, что ли, снова нагрянул? Сердце почему-то колотится. Я накидываю застиранную пятнистую пижаму с дырками на локтях, почти бегом проскакиваю коридор, сбегаю по лестнице на первый этаж и – словно упираюсь-бьюсь лбом о толстенное стекло.
У колонны – она. В своей высокой лисьей шапке, клетчатом пальтишке с рыжим воротником, вельветовых чёрных брючках. В руках – пакет с полуголой парочкой, рекламирующей джинсы «Lee». Взгляд – напряжённый, виноватый и чёрт его знает какой там ещё.
Я с минуту смотрю на неё сверху, придерживая массивную дубовую дверь правой рукой. Сердце моё проворачивается и застревает в тесной рёберной клетке. Больно.
Я делаю шаг назад. Закрываю медленно дверь…
Спустя минут десять в палату прошаркивает старая нянечка, сгружает мне на постель пакет с целующейся джинсовой парочкой.
– Ты, что ль, Неустроев будешь? Вот – передать велено.
– Спасибо, – бурчу я и заглядываю в целлофановое нутро – апельсины, фанта, блок «Явы». И – записка на клочке газеты:
«Какой же ты дурак, Неустроев!»
6
Особенно первое время после больницы было душновато.
Я ходил словно в каком-то вакуумном мешке – меня явно сторонились. А может быть, мне это всё только мнилось, и я сам себе, по всегдашней своей мазохистской привычке, осложнял жизнь. Могло так и быть, что никто и не смотрел с диким надоедливым любопытством на мой левый, оканчивающийся пустотой, рукав. Эх, если бы сразу можно было присобачить протез!
С Аркашей же мы по-прежнему жили душа в душу. Он странно и резко вдруг посерьёзнел, дал отлуп всем своим бабёшкам, протрезвел и целыми днями шуршал в своём углу газетами, стряпал диплом. Тему он взял солидную: «Частота употребления высоких слов-понятий “партия”, “коммунизм”, “Политбюро” в материалах центральных газет».Аркадий увлечённо препарировал «Правду», «Комсомолку», «Известия», материал набирался обильный, и дружище мой загодя уверен был в отличной оценке своих трудов праведных.
Я же со своим дипломом попал в досадный непредвиденный переплёт. Нет, с материалом у меня проблем тоже не возникало: параллельное прочтение стихов Есенина и Рубцова рождало целый рой мыслей, чувств, ассоциаций, выводов и предположений. Диплом создавался, полнился, толстел – рождался. Но вдруг преподавательница – милая интеллигентная доценточка, которую я выбрал посажёной матерью своему детищу – экстренно ускользнула в декрет рожать своё детище, а руководителем моего диплома автоматически стала завша кафедрой П. А. Серая. Вот тут-то я и взвыл.