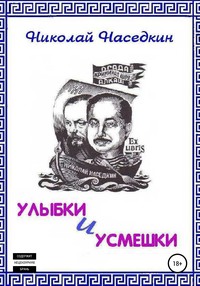Полная версия
Алкаш. Криминальный роман
Навалилось и другое: до конца марта требовалось что-то окончательно решать с распределением. Редактор «Славы Севастополя» прислал вызов-подтверждение: меня там ждут. Ждут?.. Во-первых, я и представить себе не мог, как после всего этого встречусь с той Леной. А во-вторых, смертельно не хотелось ехать инвалидом туда, где меня видели и помнили полноценным, весёлым и жизнерадостным. Домой, в забайкальскую убогую глухомань, по этой же причине – да и вообще! – не хотелось и не желалось. Тем более, я всё ещё мечтал о литературе, о славе. А известно, где у нас литература дышит – в Москве только да вблизи неё.
Я, к слову, уже проскальзывал и не раз в Центральный Дом литераторов на поэтические вечера, вдохнул, так сказать, отравы богемной столичной жизни. У меня готовилась подборка ещё в одной братской могиле – коллективном сборнике, пару моих стихотворных шедевровых опусов опубликовала «Литературная Россия». К тому же я там и, будучи на практике, несколько рецензий тиснул…
Во! А если в «Лит. Россию» попробовать распределиться, а? А что, немало наших ребят из ДАСа во время практик пускали корешки в столичных редакциях, приживались в них. Конечно, придётся помыкаться пока без прописки, без определённого жилья, зато впереди-то, впереди – свет в конце туннеля, будущее, карьера, слава, деньги и похороны на Новодевичьем… Нет, шутки шутками, а терять мне нечего – попробую, рискну. Я решил в ближайшие же дни провести разведку боем на Цветном бульваре.
С ней я во все эти послебольничные дни практически не виделся. Раза три мы сталкивались в дасовской столовой, да разок на факультете. Во мне каждый раз как бы случалось короткое замыкание, сердчишко скукоживалось. Я на ногах-ходулях проходил мимо, старательно отворачиваясь. Она, я чувствовал, смотрела на меня в упор, но тоже молчала. Честное слово, я сам до конца не понимал или боялся понять – что со мной происходит. Веду себя, как малолетний шкет. Когда же я – в конце концов, из конца в конец! – повзрослею?
В один из вечеров – это уже в апреле, 13-го, в мой день рождения – мы с другом Аркадием слегка расслабились. Матушка наскребла мне к этому дню внеплановый перевод, так что на двоих я праздник устроил вполне по-купецки, с размахом. Купил бутылку трёхзвёздочного армянского, огнетушитель шампанского, апельсинов, фанты – это для коктейлей. А на закусон – добротного сыру, хорошей полтавской колбаски, баночку ставриды в масле и две пачки замороженных пельмешек. Пир удался. Аркадий подарил мне шикарную зажигалку-пистолет – для однорукого курца в самую точку. Ту, голубенькую ленинградскую зажигалочку, Аркадий, по моей просьбе, вместе с Монтенем и тапочками давно возвернул по адресу, ещё когда я в больнице валялся. А со спичками я ох как намучился – трудновато приспосабливаться к однорукости проклятой. Я, кстати, не уставал благодарить Господа Бога, что сохранил мне в целости правую – профессиональную – руку, а то пришлось бы горе-журналисту заново учиться буквы рисовать.
Так вот, добро подкоктейлившись, мы с Аркашей вздумали спуститься вниз – в киноконцертный зал. Там постоянно гостили у нас всякие ну о-о-очень интересные люди: то великий маг и волшебник Юрий Горный, то популярный артист Александр Калягин, то суровый юморист Аркадий Арканов, то поэт-архитектор Андрей Вознесенский, а раз была даже сама Алла Борисовна Пугачёва и под расхристанный рояль нам песни забесплатно пела. Вот только, увы, ни разу не завернул в шумливый и гостеприимный ДАС по пути к родительнице Владимир Семёнович Высоцкий. Впрочем, когда мы заканчивали университет, он уже второй год лежал-покоился на Ваганьковском…
А в тот вечер, на мой день рождения, завернул в Дом активного секса на огонёк известный, как представили его в афише, «социолог, писатель и специалист по любви» Юрий Рюриков. Когда мы с Аркадием пробрались в привычный свой десятый ряд, гость уже вовсю просвещал дремучих студиозусов, переполнивших вместительный зал, по части любви. Я прислушался, вникая – он действительно сообщал довольно любопытные вещи. Оказывается: когда есть влечение между мужчиной и женщиной на уровне, так сказать, мозгов, ума – это порождает уважение; если соприкоснутся души – это уже дружба; когда возникает жар от соприкосновения тел – это называется страсть; а вот когда сливаются воедино все три влечения – вот это и есть любовь, настоящая и подлинная…
Я вдруг почувствовал что-то, обернулся: сзади, через два ряда, чуть наискосок сидела Лена. Она смотрела на меня. Я вспыхнул, отвернулся. Специалист по любви продолжал увлечённо просвещать тёмную молодёжь, я старался вслушиваться, но воспринимал всё как-то пунктирно, обрывочно.
Есть, оказывается, двойная оптика любви: недостатки любимого человека мы преуменьшаем, достоинства – преувеличиваем… Любить, значит – понимать… Минет в любви – не извращение… Эгоист может быть влюблённым, но – не любить… Главная измена в любви не физическая, а – психологическая, измена душой…
Я всё это слушал как бы её ушами.
Когда встреча закончилась, большая часть теперь шибко подкованных в теории любви дасовцев рванула в столовку. Аркадий степенно направился к нашим коктейлям и колбасе.
– Аркаш, – придержал я его за локоть уже на выходе из зимнего сада, – глянь-ка, только не останавливаясь: Ленка – сзади?
Гренадер мой вывернул шею, зорко осмотрелся поверх голов.
– Да, стоит у дверей зала, смотрит сюда. Позвать, может?
– Ш-ш-што ты! – зашипел я гюрзой на несмышлёного верзилу. – Идём.
В стеклянном бункере перед вахтой я зачем-то свернул к почтовым ячейкам, принялся перебирать невостребованные письма, открытки и переводы на «Н». Аркадий, понимающе ухмыляясь, торчал рядом.
– Ну, глянь, глянь – где она?
– Пошла в едальню, оглядывается.
– Ну и чёрт с ней! – вдруг разозлился я. – Айда дальше праздновать.
В комнате я из армянско-старлейской бутылки набухал по полстакана и залпом выпил свою порцию. Потом молча походил по комнате, жадно вытягивая из сигареты горячий дым, сделал ещё глоток оживляющей влаги. И – бросился из комнаты вон.
Мы столкнулись на вахте…
Как потом выяснилось, она уже почти достояла в очереди столовской, уже капустный салат на поднос поставила, как вдруг неведомая сила вытолкнула её из оголодавшей толпы, потянула, повлекла, потащила…
Мы практически и не говорили – какие-то междометия, возгласы, обрывки фраз. Я тут же, на глазах ко всему привыкшей вахтёрши, обнял-прижал к себе Лену. Острая боль пронзила увечную руку. И наш первый после бездонной разлуки поцелуй превратился в поцелуй-стон.
Дальнейшее я помню, опять же, смутно, отрывочно, бессвязно. Только впечатались в память вот эти внезапные, как зловещие предупреждения, вспышки боли: мы постоянно бередили рану.
Друг Аркаша, увидав нас на пороге со светящимися лицами и мутными взорами, тут же испарился. Потом, в последующие три дня, он то появлялся, то исчезал, выставлял на стол свежие бутылки – для поддержки праздника и наших сил.
Из постели мы почти не вылезали. Мы не могли наговориться, насмотреться, насытиться. Крепко сжимая объятия, мы всё пытались и пытались слиться в единое целое. В минуты отдыха и умиротворения я пошутил ласково и светло:
– Ну, что, налицо вроде бы все три влечения – и умов, и душ, и телес, а? Выходит, прав потомок древнерусских князей!
– Ты знаешь, – серьёзно и кротко сказала Лена, склонив надо мной лицо и заглядывая в глубь меня, – я ведь никогда не верила, что такое бывает. Я порой подходила к двери вашей комнаты – вот в этот последний месяц, – и у меня сердце замирало… Я люблю тебя – понимаешь?
Ещё бы не понять! Я только боялся до конца поверить, что это именно я, Вадим Неустроев, родившийся 13-го числа, – это именно я вытянул в лотерее счастливый билет.
И впереди – счастье, одно только счастье и ничего кроме счастья.
Господи – за что?!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I
Как я продался
1
И вот, спустя много лет, в таком же апреле, когда я очнулся и решил, что так жить нельзя, наутро после деньрождественской пьянки с Митей Шиловым, меня встряхнул ото сна нахрапистый стук в дверь. Дурацкий звонок, так внезапно всегда бьющий по нервам, я давно уже сам оборвал с корнем и продал.
Мгновенно, ещё со сна, я порешил не откликаться – я никого в гости не ждал и лицезреть не имел охоты. Но долбёж в мою худую дверь не прекращался, кто-то отбивал уже пятки, настойчиво и бесцеремонно добиваясь моей аудиенции. Конечно же, это не Митяй и уж тем более не Валерия – только этих двух людей я мог бы видеть сейчас без раздражения. Разумеется, припёрся этот сивобородый пролетарский козёл. Пускай подолбит напрасно – я же вроде как в Москве нахожусь.
Стук прервался, и вдруг послышался скрежет отпираемого замка. Ничего себе! Впрочем, я уже подозревал это. Я нашарил очки, охая, сполз с матраса, кое-как встал на две конечности: проклятый псевдо-«Смирнофф» запёкся в теле и особенно в башке сгустками тошнотной боли. Машинально я привёл в порядок свой домашне-повседневный костюм: подтянул затёртые джинсы-варёнки, расправил ворот серого, вязанного когда-то женой, свитерка. Поплёлся к двери. Второй замок уже тоже был отперт, в щели над цепочкой – харя Михеича. Он осклабился и в момент сунул копыто в проём, заклинил дверь.
– Во! А я уж печалюсь стою, – не помер ли с перепою? Сколько ж дрыхнуть можно, а, парень? Давай-ка, открывай – разговор есть.
– Ногу уберите, пожалуйста.
Он секунду помедлил, но всё же вынул из проёма свой чудовищный – 47-го нумера – американский армейский сапог. Моя издевательски подчёркнутая вежливость действует на этого костолома всегда обескураживающе.
Я скинул цепочку, впустил незваного гостя, демонстративно заслонил вход в комнату, выжидающе уставился в его кабаньи глазки. Странно, что он был один – обыкновенно, хотя бы Волос его сопровождает. Хотя, впрочем, какой из Волоса-глиста охранник! Когда я с ним, с Михеичем, ещё только столкнулся-познакомился (будь проклят тот злосчастный день!), в его свите-банде крутились штуки три чеченца, но как только вспыхнула война в их крае, они мгновенно испарились-сгинули.
Михеич прикрыл входную дверь, сам, по-хозяйски, запер замок нижний, накинул цепочку, для чего-то, скорячившись, выставив бычий зад, глянул длинно в глазок, удовлетворённо хрюкнул. Повернулся ко мне с уже, как всегда, масленой улыбчивой физиономией. Правда, при улыбке его этой под колючим злобным взглядом становилось сразу смурно на душе.
– Откуда ж это у вас ключи?
– Э-э, да ты и впрямь ничё не помнишь? Сам же мне по пьяни запасные отдал: дескать, возьмите, Иван Михеич, будьте другом, а то помру, никто и в квартиру не войдёт. Неужто позабыл? А-а-а, понятненько – именинничек… Головка-то бобо? Щас подлечим, подмогнём.
У меня не находилось сил спорить с ним и драться.
Борода расстегнул свой безразмерный кожан, выудил из недр его бутылку «Русской». Миллионер этот мафиозный всегда покупает водку самую дешёвую, суррогатную. И откуда же он про день рождения унюхал?.. Впрочем, он, гад, всё уже про меня знает лучше меня самого. Михеич сунул мне в руку бутылку, сдёрнул с плеч куртку, подвесил в шкафу на гвоздь, сверху пристроил неизменную свою разбухшую сумочку-визитку и прикрыл её кепоном клетчатым, клоунским, с нашлёпкой-помпончиком. Затем деловито пригладил клешнями седые космы вокруг мощного сократовского лба, распушил капиталовскую бороду. Я молча наблюдал, дождался, пока кончит он охорашиваться, протянул «Русскую» обратно.
– Я не пью.
– Чего-о-о? Хорош ерепениться-то! С ним, как с человеком, а он – кошки в дыбошки. Давай, давай стаканы – сполосни токо, а то опять, поди, в одеколоне.
Он, довольный подначкой, хохотнул, прошёл в комнату, мимоходом отстранив меня с пути.
– Ого! Да туточки целый банкетище был! Хорошо живёшь, парень, богато. Хотя, ты ж на вагоне сэкономил, я и позабыл. Ну – садись, будь, как дома. Закусь есть, стакашки, гляжу, – в чистой иностранной водке. Всё путём!
Он, опять же по-хозяйски, прошествовал на кухню, прихватил там табурет, вернулся, устроился над газетой-самобранкой, принялся ковырять жёлтыми броненогтями фольговую бескозырку бутылки. Я сел со вздохом на матрас, вылил в свой стакан остатки «Херши».
– Ты чего? – вскинулся Карл Маркс.
– Я не стану пить – бросил, – коротко повторил я.
– Ну брось чудить! Как не похмелиться-то?
– Я пить не буду, – жёстко, с ненавистью проговорил я и залпом хлебнул шипучки.
– Ну, на нет и суда нет. Упрашивать не люблю. Не пойму токо, чего ты, парень, кочевряжишься?
Он набухал себе до каёмочки, выдохнул на сторону из пасти углекислый свой вонючий газ, двумя глотками закачал в себя водку, уткнулся волосатыми ноздрями в ломоть хлеба. Потом, наклонив банку, выловил двумя жирными пальцами невинный пупырчатый огурчик, сладострастно его оглядел, сунул в жернова челюстей и, причмокивая, захрустел-заперемалывал сочную огуречную плоть.
Я молча на него смотрел.
Мерзавец подзакусил ещё рыбой, сжевал кус колбасы, взял, повертел в корявых лапах пустой баллон из-под «Херши», высосал из горлышка остатние капли, вытер сальные пальцы о штаны, полез за сигаретами.
– Ну, вот теперь и погутарить можно. Закуришь?
– Вы же знаете, что я не курю, – я старался говорить ровно, без придыхания, – и в квартире моей вообще-то – ноу смокинг.
– Это чего такое? – задержал он на полдороге зажигалку.
– Это значит, что здесь не курят. Я, кажется, имел уже удовольствие об этом преуведомлять. Так что, Иван Михеевич, вы меня фраппируете тем, что так явно, напоказ, манкируете правилами моего дома.
Висельник бородатый секунд десять таращил на меня зенки и всё же зажигалку загасил.
– Ну ладно – зачал придуриваться. Пойду, уж так и быть, в уборной курну. Да и надо мне по надобности.
Он ушёл в туалет. Я мигом схватил бутылку, прямо из горлышка сделал три больших горячих глотка. Поперхнулся, зажал себе рот. Чёртова водка застряла сразу прямо под кадыком. С полминуты я боролся с ней, пока не протиснул дальше в пищевод. Перевёл дух, вытер слёзы. Эх, все мои вчерашние намерения, решения и планы – насмарку…
Впрочем, почему же? Я ведь пить-напиваться не собираюсь, а без этих трёх живительных глотков мне решающий словесно-деловой бой с Михеичем ни за что не выиграть.
В туалете зарычал сливной бачок. Я глубоко вдохнул три раза.
И – приготовился.
2
Михеич, устроившись опять на шатком табурете, сразу ухватил быка за рога.
– Ну, парень, подобьём бабки? Сколь уж ты мне должон – знаешь-помнишь?
– Сколько… тысяч двести пятьдесят, я думаю?
– Ха! Шуточки шуткуешь? Ровнёхонько пятьсот пятьдесят две тыщи и пятьсот рубликов. Вот они, расписочки твои, все туто-ка.
– А пятьсот-то откуда взялось? – кисло усмехнулся я. – Да и вообще – не многовато ли?
– Так ведь, почитай, три месяца ты, парень, на мой счёт живёшь-то – а? И не худо живёшь. Вот и накапало…
– А-а-а, ладно, – брюзгливо прервал я. – Лишние только разговоры. Должен так должен… И – что дальше?
– А дальше-то всё попроще репы пареной будет: возвернуть надо должок-то, да и – разбежимся. У меня свои дела, у тебя – свои.
– Вот что, Иван Михеевич, в кошки-мышки играть перестанем. Я примерно предполагаю, какие гениально-дальновидные планы рождаются-клубятся в ваших талантливых, ваших изощрённых мозгах, так что давайте без обиняков. Итак, что конкретно вам от меня надо?
– Ну, что ж, – деловито построжел Михеич, степенно огладил сивую бороду, – давай по-деловому. Денежки ты мне возвернуть не могёшь. Ждать, пока ты их где-нибудь закалымишь – я не могу, времени нет. А продать у тебя нечего, акромя себя самого да квартирёшки, нету. Тебя, парень, я и за рупь двадцать не возьму: в делах ты валенок, для охранника кулаков у тебя нехватка. Вот и получается, касатик, остаётся одна лишь толечко квартирёнка твоя. О ней и – разговор.
– А если разговор о том, что никакого разговора между нами не получится? Видите ли, милейший, я вас знать не знаю, а расписки ваши дурно пахнущие без печати нотариуса, мой вам совет, – используйте по назначению в сортире.
Откровенно говоря, я не хотел, да и не собирался залупаться, но вот сорвался.
Нервы тоже – ни к чёрту!
Карл Маркс смотрел на меня с выделанным недоумением, улыбка растворялась в бороде, багровая темь наползла на бугристое лицо, глаза сузились. Он вдруг рывком нагнулся, кинул через газету-стол лапу, ухватил скрюченными пальцами меня за горло. Дыхание прервалось. Я захрипел. Михеич поднял-подтянул меня к себе и, глядя в упор в мои вылезшие на стёкла очков глаза, прорычал:
– Р-р-разом убью, сучар-р-ра! Шутки шутковать вздумал?
В последнюю – предсмертную – мою секунду он ослабил железный захват, оттолкнул меня. Я упал на матрас, долбанулся затылком о стену, схватился рукой за изломанное горло. Под зажмуренными накрепко веками наплывали позорные слёзы.
Я сглотнул шершавый ком, вдохнул раз и ещё во всю мощь лёгких, взял стакан, встал, молча прошёл в ванную, наструил ледяной воды, медленно, с болью сделал несколько глотков, посмотрел на себя в зеркало. Всё, парень, шутки кончились! Началась борьба не на жизнь, а на смерть…
Михеич встретил меня настороженным взглядом. Я сел на матрасе по-турецки, твёрдо встретил его взгляд.
– Я вас попрошу больше так никогда не делать. Не надо. Во-первых, это не интеллигентно, а во-вторых, вы можете не рассчитать в следующий раз – а кому от этого польза? Пускай убивать вам не привыкать стать, я это предполагаю, но квартирка-то моя, хвала Богу, ещё не приватизирована, так что…
Боров хотел что-то вякнуть, но я выставил щитом ладонь.
– Минуточку! У нас деловой разговор, а он не по-деловому затягивается. Я к нему, признаться, приготовился. Вот мои условия, от которых я не отступлюсь. Сколько там за мной? Пятьсот пятьдесят две с половиной? Значит так: вы мне сейчас, немедленно, выкладываете наличными миллион четыреста сорок семь с половиной тысяч. Это будет всего – два, как вы выражаетесь, лимона. Я живу в этой своей квартире ещё три месяца, ровно три – до пятнадцатого июля. Затем я квартиру, уже приватизированную, продаю вам или обмениваю и получаю ещё три – всего три – миллиона. И плюс какой-нибудь угол для проживания. Квартира моя по нынешним ценам стоит миллионов пятьдесят – это самое скромное. Думаю, пять лимонов – это по-Божески и вас не разорит. И ещё…
Михеич опять хотел перебить, но я не позволил.
– И ещё: эти три месяца напоследок я хочу и намерен пожить по-человечески, поэтому требую, или, если хотите, прошу поставить в квартиру какую никакую мебель – стол, стулья, диван. Всё равно это ваше будет и вам останется. Я же расписку напишу, что не запачкаю, не порву и не продам. Вот все мои условия.
Я с надеждой впился взглядом в похабное лицо бородатого нувориша: ну, ну же, заспорь, поторгуйся! Оставь мне, да и себе шанс… Однако ж он, посопев, хлопнул ладонью по толстомясой ляжке.
– Чего ж, хозяин – барин. Тем паче, я Валерке намерен квартирёшку твою подарить, а у неё аккурат в июле, шешнадцатого, день рождения-то. Годится.
Он поднялся, протопал в прихожую, вернулся со своей кожаной потёртой сумкой-кошелём, уселся вновь на табурет, вынул запечатанную пачку 50-тысячных, надорвал полосатую обёртку, поплевал на заскорузлые пальцы, принялся отсчитывать новенькие купюры, придерживая сумку локтем. Отслюнявив двадцать восемь радужных бумажек, он глянул на меня.
– У тебя сдача-то будет?.. Скоко это?.. Две с половиной тыщи?..
– Нет, – отрезал я, даже не заглядывая под матрас.
– Ну, нет так нет, – легко согласился доморощенный гангстер, – завернул остатние полусотенные в упаковочную ленту, спрятал в сумку, взамен достал пачку разношёрстных ассигнаций, отделил ещё сорок семь тысяч. Пошарил, меньше тысячной банкноты не нашёл, усмехнулся похабно и вытряс на ладонь мелочь.
– Ну вот, двухсот семидесяти рубликов и не хватает. Простишь?.. Хотя, погодь, я вон бутылку тебе пустую оставлю – триста пятьдесят целковых. Да ещё и магарыч получился мой. Так что – в расчёте. Считай, а потом и расписочку нарисуешь.
Я принял кучу дензнаков, деловито пересчитал, демонстративно просмотрел все полтинники на свет, попробовал на вшивость-фальшивость мокрым пальцем. Нет, пока этот Кырла Мырла со своей бандой фальшивую монету не чеканил.
Я сунул капиталы под матрас, накорябал, подложив под листок бумаги его сумку-кошель, документ, дождался, пока Михеич хлебнёт-обмоет сделку, наотрез опять отклонив собутыльничание, проводил его к выходу. Уже закрывая за ним дверь, я предупредил:
– Надеюсь в эти три месяца вас не видеть, не встречать. Знаю – присматривать будете, но в гости больше не пущу – и не стучитесь. Кстати, и замки завтра сменю.
Этот вонючий новый русский не успел ничего хрюкнуть в ответ, как я захлопнул дверь.
Потом быстро прошёл в комнату, решительно ухватил за горло мерзкую бутылку с остатками паршивой водки, отнёс в ванную и вылил всё до капли в раковину.
Травись ты ею сам, козёл сивобородый!
3
Первым делом я добросовестно умылся и выскоблил зубы.
Хотелось ещё испить освежающей водицы, но я изо всех сил себя сдерживал. Затем отыскал под матрасом клочок газеты с телефоном, давно уже сохраняемый, набрал номер. Ответил мужской голос:
– Вас слушают.
– Здравствуйте! Скажите, это – «Оптималист»?
– Да, это клуб «Оптималист». Что вас интересует?
– Будьте добры: когда у вас следующий набор и сколько всё это стоит?
Мужчина нисколько не удивился сумбурности вопроса, охотно ответил:
– Следующие занятия начинаются у нас в среду, девятнадцатого, в шесть часов вечера. Родственников мы приглашаем накануне, во вторник, также к восемнадцати ноль-ноль. Курс на сегодняшний день стоит сто пять тысяч. Вы родственник или?..
– Спасибо, – прервал я, – до свидания.
Ну, вот и слава Богу, что не с сегодняшнего дня. Значит, я осуществлю-таки мечту идиота – опохмелюсь напоследок по-царски, по-королевски.
Я скидываю домашние портки и затрапезный свитеришко, пристёгиваю-прилаживаю на место протез в светло-жёлтой лайковой перчатке, которая, увы, уже потёрта и замызгана. Ничего-ничего, теперь финансы появились, – обновим-заменим. Костюм парадно-выходной у меня, само собой, не шибко моден, но вполне опрятен. В трезвом человеческом виде, вот как в это утро, я появляюсь на людях только в нём.
Впрочем, про человеческий вид – это я перегнул. Облик мой, конечно, страшен – в зеркало смотреть неохота: курдюки под глазами, по впалым щекам вновь проклюнулась щетина, космы нестриженые и плохо мытые уже по ушам свисают, усы какие-то прокисшие…
– Э-э-эх, гадина ты гадина! – говорю я сам себе с укоризной и ещё раз убеждённо выдыхаю. – Всё! Чёрт меня побери – всё!
Накинув плащишко, обувшись и прихватив старую спортивную сумку, я выбираюсь из своего логова. Лифтом я давно не пользуюсь – чего ж дышать на соседей-попутчиков перегаром, да и застревает он то и дело без причины. Спускаюсь по лестнице. Тут запахи витают-клубятся пошибче самого тошнотного перегара: подъезды в доме нашем идиотском выходят прямо на улицу, без дверей, так что по лестницам справляют малую и большую нужду все, кому не лень.
Я выхожу на белый свет, на апрельское безудержное солнце. Дом наш громоздится в самом центре города. По радиусу, буквально в двух шагах – вокзал, рынок, облбиблиотека, университет, театр, местный Белый дом, два ресторана, памятник великому вождю, барановский пешеходный Арбат, именуемый здесь улицей Коммунистической. Короче – центр города. Хотя из окон моих, кои смотрят во двор, виднеется панорама частных хибар, особнячков и усадебок с садами, огородами, гаражами, сараями и стайками.
Таков уж этот город – Баранов.
В последнее время я всё реже и реже выбирался на улицу и особенно не любил выходить из дому с утра, когда в организме всё перекручено, зыбко, надломлено и шершаво. В этот раз три воровских глотка водяры взбодрили меня, но всё равно недостаточно. Идти тяжело: и координация движений развинчена, походка неловкая, напряжённая, плетущаяся, да и всё мнится-кажется, будто каждый встречный-поперечный поглядывает-смотрит на тебя с больным интересом, с недоумением, насмешкой.
И особенно, конечно, ненавистны в этакие минуты знакомые лица и физии. Раньше у меня очки были фотохромные, темнели на свету, и я чувствовал себя чуть защищённее за ними, безопаснее. Да вот с месяц тому, как раз последние мартовские заморозки ударили, – размозжился прямо лицом о застывшую лужу. Хорошо, ещё глаза целы остались, а то бы и вовсе круглым инвалидом заделался. Ну, а эти старые запасные очки, тоже, разумеется, неспроста треснули.