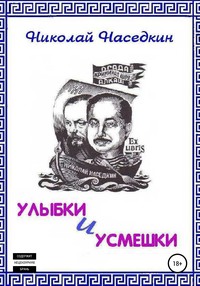Полная версия
Алкаш. Криминальный роман
Как сам Паша потом живописал в подробностях, он бы не решился ни на какие шаги-объяснения, если бы не совершенно дикий случай. Тоня в своём Тёплом Стане, в своей общаговской комнате-секции встретила гостей одетая ещё по-домашнему – в халате. И потом, когда праздничный стол был оформлен, она скрылась в ванную – переодеться. А Паше, уже пьяному без вина и плохо соображающему, приспичило позарез в туалет по малой нужде – в той цивилизованной общаге лимитчиков санузел был раздельным. Он прошёл в коридорчик, запутался и по ошибке торкнулся в дверь ванной. Двери отверзлись, и Паша превратился в соляной столб – вмиг окаменел и покрылся солёным потом: хозяйка в одних беленьких трусиках, тоже окаменев, смотрела на него зелёными глазищами, демонстрируя свои прелести во всей неприкрытой красе. А грудь у Тони – это я ещё в новогодний вечер углядел под блузкой – имелась, так сказать, в достаточном количестве. Павлу было чего лицезреть, вернее – персизреть.
В это прекрасное мгновение, которое остановилось, пока недогадливая (или чересчур по-женски догадливая) Тоня не прикрыла свои алые девичьи сосцы, Паша и обезумел окончательно. Немудрено, что буквально через три месяца они с Тоней сочетались законным браком, сняли комнату и принялись плодиться и размножаться. Я, само собой, на свадьбе был свидетелем очередного чужого счастья.
Мы с Аркашей остались на пятом курсе в трёхместке вдвоём – Паша превратился в «мёртвую душу». Кстати, совсем недавно узнал я про то, как нынешние, времён перестройки, дасовские мёртвые души сдают своё общежитское место, причём за валюту – койко-место стоит 80-100 баксов. Вот, уж действительно, – o tempora, o mores!
Тогда же, в начале 1980-х, про паршивые девяностокопеечные доллары и мыслей ни у кого из нас не возникало, так что остались мы с Аркашей на трёх койках в комнате вдвоём.
Последние могикане.
4
Впрочем, «вдвоём» – это сильно сказано.
Я-то, если откровенно, подустал и душой, и телом. Да и ничего удивительного в том нет: вон Печорин, мой ровесник практически, уже к двадцати пяти годам оравнодушел к женским прелестям, заскучал, перестал пополнять коллекцию любовных побед. Мне страстно вдруг захотелось какой-то чистой, возвышенной, поэтической любви, чего-нибудь этакого в духе Тургенева, а ещё лучше – Руссо. С сексуально озабоченными такое случается сплошь и рядом. И мечтания-воздыхания мои были на небесах услышаны.
Дело в том, что я стихи не бросил и в университете. Даже ходил пару раз в знаменитую поэтическую студию Игоря Волгина, который в те годы ещё считался пиитом, а не достоевсковедом. Но литстудия мне не глянулась – не люблю обсуждать свои творения публично, да ещё и в рукописи. Однако ж, по издательствам да редакциям, как и все молодые, упорно таскался-похаживал. И вот свершилось: подборку из пяти моих стишков тиснули-таки в одном «молодогвардейском» сборнике. С биографической врезкой, фотопортретом – всё как полагается. Это ещё на четвёртом курсе.
И вот, когда я уже перестал удивляться (почему это меня не узнают на улицах и не требуют автографов?), я впервые и вкусил глоточек славы. Я приехал на летнюю практику, уже во второй раз, в Севастополь. Ещё в прошлом году я, никогда до того не видавший моря, раз и навсегда влюбился в этот красавец город русской славы и уже подумывал: не распределиться ли после журфака сюда? Тем более, что в редакции городской газеты отнеслись ко мне с распростёртыми объятиями, пришёлся я здесь явно ко двору.
И вот я вновь очутился на черноморских берегах, уже в ранге публикующегося поэта и в ожидании светлого глубокого и лирического чувства. В первый же день, в типографской столовой, я ощутил вдруг на себе жар пристального взгляда. На меня смотрела во все свои серые глаза-блюдца светловолосая девочка, похожая, право слово, на ангела во плоти. Я даже смутился, поперхнулся, чуть не подавился полусъедобным общепитовским рагу и торкнул под столом Володю из спортотдела: кто это? Оказалось: новая корректорша, только что из школы – Лена.
Без всяких грязных задних мыслей, просто в силу привычки, инстинкта, я дождался Лену на выходе из столовой и, опять же по обыкновению, с ухмылочкой протянул ей пачку московской «Явы».
– Мадам закурит?
Лена почему-то виновато улыбнулась и смущённо призналась:
– Я не курю, что вы!
Гм… Я сразу сменил тон: передо мной действительно стояла нормальная девушка – это я понял потасканным своим сердцем сразу.
– Вас зовут – Лена? А меня – Вадим. У вас есть ещё от обеда десяток минут? Может, подышите солнцем, пока я буду травить свои лёгкие?
– Подышать солнцем? – улыбнулась чудесно она. – Так только поэт сказать может…
Вот так да!
– Поэт? Вы знаете, что я пишу стихи? – вскричал невольно я, пропуская её вперёд на простор летнего приморского дня.
Мы пошли вниз, к Артиллерийской бухте. Лена обернула ко мне лицо, нараспев начала:
Как много может человек,
Когда он полюбил…
Батюшки светы! Сердце моё облилось кипящим бальзамом. Я вскрикнул, прервал:
– Так вы видели мою подборку в «Парусе»?
– Ещё бы! Мне очень-очень понравились ваши стихи! – И вдруг она, странно глянув на меня, выдала. – Я знала, что вы опять приедете на практику, ждала…
Не успел я как-нибудь чего-нибудь ответить, как она добавила:
– Я ещё в прошлом году все-все ваши статьи читала, все до единой…
Я, конечно, от всего этого обалдел, невольно сам себя шибко зауважал. И, уж разумеется, сразу почувствовал к Елене влеченье – род недуга. А когда я узнал-услышал, что она тоже пишет стихи, и у неё тоже только-только случилась первая публикация серьёзная и тоже в «Молодой гвардии» – я и вовсе закипел, потерял голову.
В тот же день Лена, когда я подписал уже заранее припасённый ею экземпляр моего «Паруса», подарила мне сборник «Ранний рассвет» со своим стихотворением, написанным ещё в шестнадцать лет. Предисловие к сборнику и комментарии написал, между прочим, тот самый публичный знаменитый поэт, на которого сочинил я ещё в Сибири поэму-пародию. Но когда я прочёл его напутствие, адресованное лично Лене, я многое простил этому эстрадному попрыгунчику-старперу – «Я верю тебе, Лена!..» Видать, и этого старого фигляра тронули поэтические откровения севастопольской девочки:
Бродит что-то непонятное, Чуть разгульное во мне – Дали-шири необъятныеЧасто вижу я во сне.Часто снятся ветры буйныеИ кочевника стрела,Реки звонко-чистоструйные,В вышине полёт орла.И над степями ковыльнымиЗолотым щитом луна, И объятья чьи-то сильные, Кубки пенного вина, Кони лёгкие, горячиеЧасто-часто снятся мне.Оттого-то, верно, плачу яИ смеюсь порой во сне.Сейчас, уже, можно сказать, итожа жизнь, я более всего не перестаю удивляться двум вещам в своей Судьбе: во-первых, когда меня не любят, то есть когда вдруг не отвечает мне взаимностью красавица, которая понравилась мне; и, во-вторых, ещё более поражался я и изумлялся, когда в меня влюблялись – каждая девушка или женщина, ответившая на мои чувства, ставила меня в тупик. Ну, за что, за что можно любить такого обормота, как я?..
Воистину, мир Божий полон чудес, и сердце женское – одна из самых изумительных тайн на свете.
Немудрено, что я заговорил так поэтически и пылко: любовь Лены ошеломила меня, окрылила, вознесла в поднебесные выси. Мы начали, как принято говорить, встречаться: гуляли после работы по уставшему от жары и многолюдья Севастополю, ели мороженое и выпивали иногда по бокалу шампанского в павильоне на Большой Морской, выходили по Приморскому бульвару к Графской пристани, любовались бухтой, памятником затопленным кораблям, сторожевой башней вдали… Ничего нет томительно красивее моря на закате дня! А по выходным мы ездили купаться в Херсонес или на пляж Солнечный, искали там местечко поуединённее и не могли насмотреться друг на друга и наговориться. Загорелое юное тело Лены, едва прикрытое голубым купальником, тревожило-волновало мой взгляд, но я и мысли не допускал, чтобы прикоснуться к нему даже случайно.
Буквально уже на второй день, когда я проводил Лену до дому, она пригласила меня зайти, познакомиться с родителями. Я, понятно, сразу испугался, даже руками замахал – знакомство с предками моих подруг никогда не входило в мои планы. Но Лена серьёзно и убедительно обосновала:
– Папа с мамой волнуются, когда я прихожу поздно, а когда они узнают тебя – волноваться перестанут.
Ну – что тут возразишь?..
В этот вечер, правда, я не смог перешагнуть себя и порог Лениной квартиры, но на следующий день, приготовившись морально и внешне, в белой рубашке, с розами в потной руке, предстал перед очами её родителей. И уже через полчаса я пребывал в уверенности, что знаком с Евдокией Петровной и Василием Кирилловичем со времён оных, когда ещё под стол пешком ходил. Я сразу понял, в кого уродилась такой красавицей и разумницей единственная дочка их, Елена – чудесные оказались старики.
Отец, правда, не утерпел – ещё в начале, когда за знакомство подняли мы за изобильным, к моему приходу накрытым, столом напёрстки с домашней наливкой, – высказал-намекнул в тосте: мол, дочку растили-холили они в надежде, что достанется она в жёны достойному, не ветреному человеку. Но Василий Кириллович и договорить толком не успел, как Евдокия Петровна за рукав принялась его осаживать, утихомиривать, пенять ему:
– Да уймись, старый! А то дочка наша сама в людях не разбирается! Она человека-то сердцем видит…
Лена, глядя на них, улыбалась.
5
В Москву вернулся я в вагоне, но на крыльях. И, по мнению Аркаши, поглупевшим.
Чуть не каждый день я принялся строчить и получать письма, бегать на переговорный пункт. А Аркаша… Аркаша был уже далеко не тот, что в начале дасовской житухи. О, теперь Аркадий пользовался в общаге устойчивой и громкой славой полового гиганта. И – заслуженно. Перескочив барьер собственного девства, вкусив и распробовав прелести плотской любви, он кинулся в разгул очертя голову, взялся орошать горячим своим и неизбывным семенем ненасытные лона будущих журналисток и психичек, аспиранток и стажёрок, а также молодых ещё бабёнок из обслуживающего персонала. Аркадий гляделся гренадерски браво, имел шикарные усы, к тому же слыл за буржуина, хотя стипендии не получал – любящие предки-северяне снабжали его преизбыточным количеством деньжат. Так что Аркаша, вполне весело и беззаботно ёрничая, любил напевать, как бы заочно подтрунивая над деканом журфака Ясеном Николаевичем Засурским:
Я спросил у Ясена: «Где моя стипендия?»Ясен не ответил мне, качая головой…И, конечно, мы зажили в комнате нашей не вдвоём, а по формуле-системе 2 + х, где х (икс) – это постоянно меняющиеся подружки Аркадия. Вечерами и ночами за шкафами, которыми наглухо отгородил свой угол-бордель Аркаша, раздавались причмоки поцелуев, хихиканье, похотливые смешки и сладострастные всхлипы. Аркадий поначалу принялся было приводить-таскать и на мою долю милашек, но вскоре бросил свою затею и уже рад был хотя бы тому, если я не особо ворчал. Правда, я старался сильно-то не брюзжать – не хотелось ханжить и фарисействовать. К тому ж, я взялся всерьёз за учёбу, выматывался с непривычки на семинарах, лекциях, в библиотеке и когда приходил домой уставшим, хлопал – при желании – стаканчик-другой винца (у Аркаши за шкафами застолье не переводилось) и засыпал как младенец, не слыша чавканья совокупляющихся рядом тел. А во сне перелетал я к морю, видел белые барашки волн, гомеровские белые колонны Херсонеса и светло-серые девчоночьи глаза…
Перед праздниками – очередным Октябрём – в почтовой ячейке на букву «Н» меня ждала телеграмма: «Буду проездом Москве шестого пассажирским вагон три встречай Лена». Я засуетился, взял у Аркадия взаймы двадцатку и, встав на колени, умолил:
– Бога ради, Аркаша, друг, освободи мне комнату на праздник – первый и последний раз прошу! Посношайся где-нибудь на стороне…
Аркаша в положение вошёл, просьбе внял, даже скабрёзно, хмырь развратный, ухмыльнулся:
– Нельзя ли, – пошутил, – в шкаф забраться-затаиться да поприсутствовать при вашем свидании?
Я даже всерьёз психанул:
– Свинья ты, Аркадий! Грязная похотливая свинья!
Аркаша, разумеется, – на попятную. А я ведь и в самом деле ни о чём таком-этаком и думать не смел. Куда Лена собралась, я ещё не знал, но поезд севастопольский приходит вечером, так что всё равно ночевать где-то придётся. Я, в случае чего, устроюсь на свободной кровати. В случае чего?.. Нет, всё же в подлом моём проститутском нутре, где-то в развращённом подсознании, мелькали и горячие мыслишки: а вдруг?.. Чего уж скрывать, от Лены я был без ума во всех смыслах, но пока, в Крыму, да и то только в самые последние дни, мы испытали лишь головокружение и сладость ненасытную от долгих обморочных поцелуев. И я понимал: праздник вдвоём, наедине, праздник с вином и взглядами глаза в глаза, с невольными соприкосновениями и вольными поцелуями…
Я купил, как в Севастополе, три нежно-алых розы, сразу, с подножки вагона, подхватил Лену в объятия, отнёс в сторону от суетливой толпы, прижал к себе, поцеловал в смеющиеся детские губы.
– Лена, куда ж ты едешь? Где твой чемодан?
– К тебе. Чемодан – вот, – она показала свою маленькую лакированную сумочку и вкусно рассмеялась. – Ведь я проездом… в Севастополь. Билет обратный уже в сумочке. Так что два дня и две ночи наши, маэстро!
Ночи?.. Я вмиг вскипел, заклокотал, как переполненный чайник. Но всё же не утерпел, уточнил:
– А как же мать с отцом тебя отпустили?
– А почему они могли не отпустить меня? – Лена всерьёз, с недоумением взирала на меня. – Мне уже восемнадцать, во-первых. А во-вторых, я же им сказала: я еду повидать тебя и побродить по праздничной столице. Что же в этом дурного?
И дурного, действительно, в этом ничего не было. Я отбросил пока все жаркие ненужные мысли на потом: впереди уйма времени – как Судьба повернёт, так и будет. И я, по заранее продуманному плану, помчал Лену на метро к проезду Художественного театра, в полуподвальное кафе «Артистическое» – единственное место в предпраздничной Москве, где можно почти без очереди закусить и выпить. Действительно, у входа в это питейно-питательное заведение толпилось всего человек десять. Уже через полчаса мы с Леной сидели за двухместным столиком, пили шампанское и весело вгрызались в плоских цыплят, поджаренных, как шутили студиозусы, в табаке.
Я парил в невесомости. Лена со своей голубенькой ленточкой в светлых локонах, синеньком джемпере поверх голубенького платья обращала на себя внимание многих посетителей мужеска пола и даже не только нормальных.
– Ты знаешь, – весело шепнул я Лене, порозовевшей после второго бокала игристого вина, – а ты в своём голубом наряде нравишься даже голубым.
– Кому, кому? – не поняла Лена.
Я рассказал невинной ещё до наивности девчонке, как попал однажды здесь, так сказать, сексуально впросак. В день стипендии или получки из дому я позволял себе порой шикануть – поужинать по-барски, на широкую ногу. Впрочем, тогда вполне можно было на червонец посидеть прилично одному в ресторане, а уж в кафешке и вовсе обойтись пятёркой. Однажды я с таким загульным намерением впервые и заглянул в «Артистическое». Я уже читал-знал, как здесь любили отдыхать некогда корифеи старого МХАТа, сидел за столиком, почтительно осматривался, с придыханием поглощал исторический воздух богемного кафе.
Ко мне подсели два парня, заказали себе мадеры, отбивные, яблоки. Начали жевать, выпивать и трепаться. Конечно, чокались и со мной. Один из них – кудрявенький, безусый, с томными глазами и пунцовыми губами бантиком – вдруг начал странно льнуть ко мне, хихикать, вздыхать, хватать меня за руку и подливать в мой стакан своего вина. Я долго (был ещё тот пентюх деревенский!) не врубался, пока приятель кудрявенького, улучив минуту, когда тот выпорхнул в туалет, не оглоушил меня: «Я вижу, – говорит, – ты не понимаешь: Шурочка-то мой – педик. Он, поросёнок, втюрился в тебя…»
– Представь, Лена, – хохотнул я, – моё остолбенение. Скорей расплатился и – спасаться. Тот Шурик-Шурочка чуть не плачет, в руку вцепился, а я бормочу-вру, будто я жених и меня невеста ждёт… Умора! Потому-то сюда легко попасть – добрые люди стороной обходят.
Лена неуверенно улыбалась – шучу я или рассказываю мерзкую правду? Она принялась робко оглядываться на посетителей.
– Да не бойся ты! – приободрил я. – На женщин они внимания не обращают всерьёз…
Лена поморщилась, не скрывая, что тема ей не нравится. И – поспешила на свежий воздух. Мы допили любовный полусладкий напиток и вышли. На улице, блескучей и промозглой от недавней мороси, я помог Лене поплотнее укутать горло шарфиком, притянул к себе, поцеловал.
– Ну, что – ко мне в ДАС?
– Пойдём лучше погуляем, а? Я хочу к Пушкину…
Что ж, мы пошли вверх по Горького к бронзовому Александру Сергеевичу… Потом ещё выше – к Владимиру Владимировичу… Потом с третьей и последней розой побрели по бульварам к Михаилу Юрьевичу… Потом, уже без цветов, к другому Александру Сергеевичу…
Когда до закрытия метро оставался всего час, я не выдержал:
– Лена, Леночка, ну поехали, наконец, ко мне! Уже метро вот-вот… Да и через вахту ночью труднее прорваться – там бабки-церберы такие…
Она подняла на меня свои большие, свои любящие, но печальные глаза.
– Вадим, я не хочу… Я боюсь.
– Меня?! Лена, да за кого ты меня принимаешь? – я вскипел искренне, всерьёз. – Да неужели против твоей воли я чего-нибудь…
– Вот именно, – сурово прервала Лена, – за себя я и боюсь…
Мы бродили по Москве всю ночь. Если бы мне кто раньше сказал, что я способен на такое, я бы только глумливо фыркнул. Однако ж, вот…
На следующий день мы подъехали к ДАСу, прошлись-прогулялись вдоль перемычки под колоннами, как герой Андрея Мягкова в «Иронии судьбы». Я попробовал ещё раз, в последний:
– Лена, ну хоть просто на пять минут заглянем – погреемся, отдохнём, посмотришь, как я живу…
– Вадичка, не искушай, не мучай меня! – с улыбкой, но опять же всерьёз взмолилась Лена. – Не надо спешить – у нас же вся жизнь впереди…
Увы мне, увы! Я смирился. Я один заскочил наверх, обрадовал известием Аркашу, отхватил у него взаймы ещё четвертной, сунул в сумку бутыль шампанского и яблоки – свои припасы к празднику вдвоём, поднадел под пиджак свитер, а пуловер прихватил для Лены: признаться, ночью мы продрогли донельзя – даже поцелуи уже не согревали. Отогреваться мы заскакивали на вокзалы.
Я заставил Лену поднадеть мой тёплый пуловер под пальтишко, и мы опять пустились бродяжничать. Я, смирившись, уже с энтузиазмом воспринимал такое необычное и долгое свидание с любимой. Я щедро дарил-показывал ей Москву, которую сам исходил уже пешком вдоль и поперёк. Окончательно убедил Лену бросить свой Львовский институт, куда она поступила поспешно на заочное отделение журналистики, и смело переводиться в Москву…
К исходу вторых суток всё у нас смешалось в головах, как в доме Облонских. Мы бродили, смеялись, болтали, целовались, мечтали, пили шампанское, а я даже и коньяк пару раз, питались пирожками, бутербродами и яблоками, попали на концерт Аллы Пугачёвой в зал «Октябрь», катались на метро и трамваях… А уж стихи… Стихов – и своих, и других классиков – надекламировали-начитали столько, что на целую библиотеку хватит.
Часов за пять до севастопольского поезда мы всё же не выдержали и переспали вместе – да простится мне этот невольный и пошловатый каламбур. Мы нашли одно свободное местечко в толчее Курского вокзала, Лена примостилась у меня на коленях, обняла за шею, я обхватил её родное невесомое тело, прижал хозяйски-сладко к себе, и мы унырнули в глубокое, тяжёлое, но счастливо-безмятежное беспамятство. Я, скорчившись в жёстком вокзальном кресле, прижимал, сонный, к себе крепко-накрепко спящую красавицу – свою будущую жену. Впереди нас ждало счастье…
В последние минуты, на мокром туманном перроне, Лена, откинув голову, засматривая внутрь меня, наивно и строго декламировала-внушала мне знаменитые кочетковские строки:
С любимыми не расставайтесь,С любимыми не расставайтесь, С любимыми не расставайтесь,Всей кровью прорастайте в них.И всякий раз навек прощайтесь,И всякий раз навек прощайтесь,И всякий раз навек прощайтесь, Когда уходите на миг…Вот пишу сейчас, и всё переворачивается в груди: как я был счастлив!
И – как я мог быть счастлив…
Глава III
Как я сошёл с ума
1
Аркаши дома не было.
На столе красовались початая бутылка грузинского коньяка, тарелки с остатками пиршества. Я отмок в горячей ванне, выпил полстакана «Арагви», проглотил кусочек сыра и бухнулся в постель. Хотел немного помечтать, но не успел – так обвально я срывался в пропасть сна только на первом году в армии.
Очнулся я глубоким вечером от говора и смеха. Окно уже фиолетово меркло. Горела только настольная лампа. За столом сидел Аркаша с двумя пассиями. Они чокались, закусывали, нещадно дымили и травили анекдоты.
– Представляете, – прыснул Аркадий, – муж в дверях, а она – кверху ногами… Ха-ха! Тс-с-с…
Он попытался приглушить свой утробный смех и веселье своих балаболок, оглянулся на мой угол. Я хотел нахмуриться, но переизбыток счастья колыхнулся в душе, как вино в бокале, в ушах ещё звенело – со сна, что ли? – имя Лена.
– Ничего, Аркаш, – бодро сказал я, потягиваясь, – я уже не сплю. Если дамы позволят, я, с их разрешения, запрыгну в брюки.
– Лена, Валя! – скомандовал Аркадий. – А ну за шкаф на пару минут! Видите, товарищ-ч стесняется.
Лена?.. Ну и ну!
– Да хватит тебе, – осадил я Аркашу. – Девушки, отвернитесь и – все дела.
Девчонки, лупившие на меня глаза, хихикая, отвернулись. Впрочем, хихикала та, что, вроде бы, Валя – пампушечка с распущенной по плечам рыжей гривой. Вторая – маленькая, худенькая, с короткой тёмной причёской-каре – лишь хмыкнула. Потом, когда, уже одевшись и сполоснувшись под краном, я подсел к столу на минуту, я разглядел, что у этой Лены – такие же громадные выразительные и тоже серые глаза, правда, один из них, левый, заметно темнее другого. Дурной, говорят, признак – демонический. Впрочем, это когда глаза вовсе разноцветные, здесь же вариации оттенков одного и того же прекрасно-серого цвета. Волосы и овал лица этой Лены разнили её с той, а то я бы испугался такому сходству. У этой лицо было тоньше, с резкими скулами, и губы чуть смазаны, нечётко очерчены. И ещё Лена эта была миниатюрнее моей: в чёрных вельветовых брючках и белой водолазке, с чуть заметной линией груди, она смотрелась мальчишкой.
– Знакомься, – представил Аркаша, – это наши, журфаковские, с первого курса. Валюха – моя землячка почти, из Норильска. А Леночка – из славного чернозёмного града Баранова. Не знаю, правда, где этот достославный град Баранов стоит. Где, Ленусь?
– Между Москвой и Парижем – пора бы знать пятикурснику университета, – Лена сказала это строго, без тени улыбки.
– Ну, вот и опять выговор! – сделал вид, будто сконфузился дылда Аркадий. – Ленчик, тебе ведь всего восемнадцать годиков – не будь такой строгой, а!
Восемнадцать?.. Что-то многовато совпадений. Я выпил коньяку, пригляделся к ней повнимательнее. Странно, почему я не встречал её на факультете? Хотя, впрочем, у нас на каждом курсе училось по 250 гениев пера обоего пола, так что и не все однокурсники друг дружку вплотную знали. Да что уж там говорить о других, если даже именитый Влад Листьев (упокой Господь его душу!) не запал лично мне в память. Когда я увидал его через несколько лет в телеящике, то начал мучительно припоминать: где же мог я видеть этого «взглядовца»? Батюшки, да мы же с ним однокорытники, на одном курсе – правда, в разных группах – все пять лет учились. Даже на одной коллективной фотографии рядышком стоим. Он тогда ещё не имел славы и не ампутировал основную смысловую часть имени своего, был обыкновенным Владиславом…
«Круто девчонки начинают, – подумал я, посматривая на их раскрасневшиеся лица, сигаретины в ярко-алых ртах. – Интересно, которая из них Аркашкина? Или – обе?.. Он вроде пухлявых предпочитает… А чёрт! Мне-то что…»
Я ещё клюкнул «Арагви» за здравие щедрого Аркаши, за красоту благовоспитанных дам и – распрощался. Вернее – уединился. Насколько это, конечно, возможно в единственной комнате. Я пристроился в своей нише к тумбочке, выставил спину столующимся гулякам, засветил переноску, раскрыл тетрадь и принялся изливать на бумагу письмо в Севастополь. Лена, моя Лена, ещё в это время мучилась-тосковала в душном вагоне, я представлял себе её бездонные глаза, её милые пухлые, чётко очерченные губы, прозрачные пальчики с голубенькими жилочками и крохотными ноготочками, светящимися розово-перламутровым праздничным лаком…