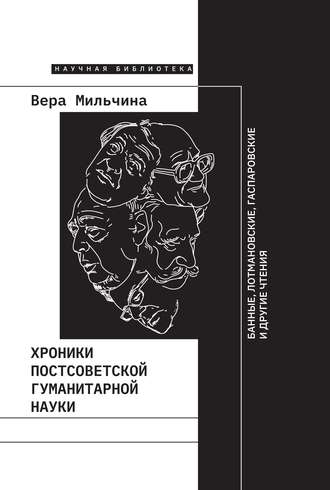
Полная версия
Хроники постсоветской гуманитарной науки
Два докладчика вышли за хронологические рамки первой половины XIX века. Александр И. Володин охарактеризовал круг идей американского экономиста и социолога Г.-Ч. Кэри (1793–1879), сочувственного исследователя российского местного самоуправления, ученого, чьи книги вызывали, с одной стороны, пылкую брань Маркса и Энгельса, и с другой – постоянный интерес Герцена (предметом расхождения Герцена и Кэри служило, однако, отношение к личной свободе, которую американский ученый связывал с единоличным владением землей, а русский – с общинным владением).
Вера Проскурина рассказала о рукописном журнале 1915 года «Бульвар и переулок», в создании которого принимали участие Бердяев, Вяч. Иванов, М. Гершензон и содержание которого до сих пор было известно только по мемуарной литературе[30]. Пародийно-юмористический отсвет, который бросают материалы журнала на «высокую» литературную и философскую продукцию этого круга авторов, позволяет увидеть их фигуры в совершенно новом свете.
Помимо запланированных выступлений публику, как выяснилось, ожидало на Третьих Эйдельмановских чтениях несколько сюрпризов.
Первый сюрприз был чрезвычайно симпатичен и любопытен. Владимир Бараев рассказал о том, как в 1966 году ездил с Эйдельманом и группой московских литераторов по Сибири и какие последствия это имело для нашей культуры: поскольку одним из главных свойств Натана Яковлевича была его способность служить неким «катализатором» идей и событий, то в результате его знакомства с В. В. Бараевым, в ту пору заместителем главного редактора журнала «Байкал», в этом журнале были напечатаны «опальная» повесть А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне» и главы из книги А. Белинкова о Юрии Олеше, а сам Бараев занялся биографией М. Бестужева и написал о нем книгу, которую Эйдельман помог включить в список «пламенных революционеров», утверждавшийся ЦК КПСС и изначально не содержавший имени Михаила Бестужева как революционера недостаточно «пламенного».
Другого свойства были остальные сюрпризы. Один носил совершенно абсурдный и непреднамеренно «хеппенинговый» характер: во время одного из выступлений некая женщина, явно нуждающаяся в услугах врача-психиатра, перебив докладчика, пылко и достаточно визгливо принялась разоблачать КГБ и мафию, которые, не то воплотившись в докладчика и избрав его своим слепым орудием, не то, напротив, присоединив его к бесконечному ряду жертв, посредством невидимых флюидов на расстоянии травят, грабят и насилуют говорящую, ее родных и вообще всех на свете. Сей печально-анекдотический аккорд напомнил, по остроумному замечанию Кирилла Рогова, отрывок авангардного кинофильма, где реальности нормальная и бредовая постоянно меняются местами, выползая одна из-под другой.
В самом же конце чтений место докладчика занял не представившийся публике и не объявленный в программе бородатый юноша. В достаточно авторитарном и уж, во всяком случае, явно не предусматривающем возражений тоне юноша поставил нас перед необходимостью прослушать его поэму «Петростройка», отражающую, по его убеждению, многие важные особенности нашего (с ним) мышления. Публика поэму прослушала, но, кажется, осталась при подозрении, что наше мышление она отражает в той же степени, что и монолог неуравновешенной дамы (в конце концов, ее шизофрения – тоже принадлежность нашего времени). Впрочем, поэма показывает, что автор вполне владеет навыками версификации и что заветам Пушкина («ко мне забредшего соседа душу трагедией в углу») нынешние стихотворцы верны.
Так закончились Третьи Эйдельмановские чтения, что же касается моего отчета, то я закончу его ставшим, кажется, уже столь же традиционным, что и сами Чтения, пожеланием – чтобы через год мы вернулись в живописный подвал журнала «Знание – сила» на Четвертые Эйдельмановские чтения[31].
Пятые Эйдельмановские чтения
(18 апреля 1995 года)[32]
Прошло пять лет после смерти Н. Я. Эйдельмана, и в день его рождения, 18 апреля, в редакции журнала «Знание – сила» под председательством А. Г. Тартаковского снова состоялись Эйдельмановские чтения – пятые по счету. То, что в 1991 году казалось экстраординарной акцией, вызванной безвременной утратой, постепенно превратилось в некий привычный, «календарный» элемент научного быта. С этим связано, по-видимому, и уменьшение в программе докладов мемуарного характера; в этом году больше говорили не о самом Н. Я., но о том, что входило в круг его интересов и о чем он почти наверняка полюбопытствовал бы услышать. Это, мне кажется, симптом очень обнадеживающий, в котором можно увидеть залог долгой жизни Эйдельмановских чтений: жить только воспоминаниями невозможно, научные же сюжеты останутся, и люди, ими интересующиеся, надо надеяться, не переведутся.
Хотя мемуарная линия и была редуцирована, прозвучавшее первым выступление Александра Формозова «О книге Н. Я. Эйдельмана „Ищу предка“» было по преимуществу именно мемуарным и изобиловало прелестными и вполне эйдельмановскими штрихами ушедшего быта, вроде, например, такого – Н. Я. и докладчик сообщают друг другу по телефону о появлении новой самиздатовской книги кодовой фразой: «Есть пушкинские материалы». К юмору Эйдельмана Формозов возвращался не раз. Фраза из книги «Ищу предка»: «Питекантроп был посмертно реабилитирован» – шокировала изысканно остроумного антрополога Я. Я. Рогинского, сосватанного Формозовым в консультанты Н. Я., но очевидно, что для Эйдельмана такое совмещение временных пластов было совершенно органичным – равно как и несколько шокировавшее самого Формозова включение в книгу о происхождении человека (миллионы лет до нашей эры) рассказа о вполне современной поездке в Узбекистан для знакомства с куда менее древними наскальными рисунками.
Выступление Формозова вызвало две реплики: одну – мемуарно-шутливую (Лев Осповат напомнил эпизод, связанный с другой ранней книгой Эйдельмана – «Путешествие в страну древних летописей», которую два друга поначалу подрядились сочинять вместе, «не допуская, – как гласил составленный договор, – к работе женщин Эйдельмана и детей Осповата»), другую – вполне серьезную; впрочем, это была даже не реплика, а вопрос. Стоит ли включать книгу «Ищу предка» в сколько-нибудь полное собрание сочинений Эйдельмана, спросил Андрей Тартаковский, и получил честный ответ: нет (во всяком случае, в полном виде); заслуживают переиздания отдельные главы (портреты ученых), текст же в целом нуждается в обстоятельном научном комментарии и дополнениях (антропология успела уйти вперед).
Проблемам издания эйдельмановского наследия был специально посвящен доклад Сарры Житомирской «Наследие рассказчика: трудности текстологии произведений Эйдельмана». Писатель-рассказчик в понимании Житомирской – это тот, кто испытывает потребность многократно рассказывать об одних и тех же эпизодах, и всякий раз по-разному, так что каждый последующий вариант оказывается в чем-то богаче, но в чем-то и беднее предыдущего, и каноническое понятие последней авторской воли размывается. Житомирская привела в пример двух мемуаристов такого типа, с рукописями которых ей приходилось работать: это В. Д. Бонч-Бруевич, на чьих рассказах отражались тончайшие перемены политической конъюнктуры, и А. О. Смирнова-Россет, отбрасывавшая уже написанный вариант воспоминаний и принимавшаяся вспоминать то же самое сызнова под влиянием болезни. Хотя мотивы, двигавшие Эйдельманом, были совершенно иными, с его текстами происходило нечто подобное; один из нескольких примеров, приведенных докладчицей, – очерк «Что и где Липранди?», который появился впервые в 9-м выпуске сборника «Пути в незнаемое» (1972), затем в измененном и сокращенном, но, с другой стороны, существенно дополненном виде вошел в книгу «Пушкин и декабристы», а затем, в сборнике «Обреченный отряд» (1987), вновь принял первоначальный вид. Еще сложнее история статьи 1982 года об эпиграфе Тынянова, почерпнутом из письма Грибоедова; от него тянутся нити и к последней сданной в набор при жизни Эйдельмана книге «Быть может, за хребтом Кавказа…», и к статье в «Дружбе народов» (1987) «Мы молоды и верим в рай», и к отрывку из нее, напечатанному в «Науке и жизни» (но и отрывок отличается от статьи в целом!), и к главе из «Обреченного отряда» – и всякий раз основная «тема» претерпевает некоторые изменения, становясь одновременно и богаче, и беднее. А ведь существовали еще и устные интерпретации сюжетов, разработанных в книгах и статьях: Н. Я., как известно, очень много выступал в самых разных аудиториях, от выступлений остались пленки, причем есть выступления на одну и ту же тему, не сходные ни друг с другом, ни с соответствующими текстами. Вывод: к переизданию Эйдельмана мы еще не готовы, подхода к его текстологии еще не нашли и ограничиваемся механическим воспроизведением.
Этот вывод энергично оспорил Андрей Тартаковский, представлявший в данном случае не только теорию, но и практику (он составил сборник «Из потаенной истории России XVIII–XIX веков», вышедший в издательстве «Мысль» в 1993 году, его стараниями в том же издательстве уже подготовлена верстка книги, включающей «Вьеварум» и «Лунина», а «Высшая школа» собирается издавать сборник пушкиноведческих работ Эйдельмана[33]). Не стоит делать из проблемы фетиш, сказал он, книги надо воспроизводить отдельно, а статьи – отдельно, ибо и они тоже имеют право на самостоятельное существование. Собственно, проблема здесь куда более общая, чем сугубо текстологическая или, тем более, «эйдельмановедческая». Перед людьми, готовящими к печати самые разные сочинения, встает выбор: что лучше – издать быстро, но с недоработками, или безупречно, но сильно погодя? Этот последний случай подразумевался в пессимистической реплике: «А с текстологией мы его (Эйдельмана) никогда не издадим!» – поданной Морганом Рахматуллиным, к чьему докладу мы и переходим.
Доклад этот, при внешней скромности подачи (ни глобально-теоретических зачинов, ни эффектных обобщений), содержал до сих пор не введенный в научный обиход чрезвычайно любопытный фактический материал[34]. В 1926 году С. Н. Чернов напечатал «Записку о состоянии и домашних обстоятельствах ближайших родных государственных преступников, по приговорам Верховного уголовного суда осужденных». Эта публикация (на которую с тех пор опирались все исследователи декабристского движения) была сделана по копии, Рахматулин же разыскал в Военно-историческом архиве оригинал, снабженный пометами Николая I; дело в том, что составлена была эта записка для того, чтобы император мог определить, чьи семьи принадлежат к числу наиболее нуждающихся, и пометы как раз и содержат указания – кому и какое вспомоществование назначить. Выясняется, что из причисленных к «имеющим нужду» или «живущим бедно» почти всем была назначена помощь либо денежная (единовременная, затем во многих случаях ставшая ежегодной), либо иного рода (определение детей на казенный кошт в те или иные учебные заведения). Не до конца проясненным остался вопрос о мотивах императорской щедрости: просто милосердие, отказ отождествлять безвинных родственников с самими декабристами или желание убедить себя, что масса подданных – на его, царя, стороне. Как бы там ни было, очевидно одно: Николаем двигал не, выражаясь современным языком, популизм (принятые меры оставались почти полностью секретными). На вопрос же Сарры Житомирской, не прослеживается ли соответствие между поведением декабристов на следствии и объемом царских щедрот (покладистым – дал, строптивых – обделил), докладчик отвечал, что нет, не прослеживается: были обделенные, но отнюдь не по причине их «дурных» ответов на допросах.
О Николае I речь шла и в докладе Ларисы Захаровой, посвященном путешествию цесаревича Александра Николаевича по России (1837), как оно отразилось в неопубликованных документах – инструкции, которую вручил сыну император перед отъездом, общей инструкции для всех участников путешествия, врученной князю Ливену, письмах, которые наследник слал с дороги отцу, и ответах императора[35]. За невозможностью перечислить все подробности царских наставлений и великокняжеских впечатлений назовем лишь самые выразительные: в посещаемых городах наследнику было разрешено танцевать только польский танец с пожилыми дамами и две или три французские кадрили; приезд Александра Николаевича вызвал особенный восторг в Тобольске, поскольку до этого никто из русских царей там не был; наследник, в 1856 году даровавший амнистию декабристам, еще в 1837 году просил отца о смягчении их участи. Оба выступления, касавшиеся Николая I, удачно напомнили о том, что император этот был безусловно многообразнее и интереснее всех односторонних и хрестоматийных представлений о нем.
Два доклада были посвящены временам более удаленным, чем привычные для аудитории Эйдельмановских чтений XVIII и XIX века. Игорь Данилевский говорил о нравственности летописца[36]; отвергнув две противоположные трактовки – пушкинскую (летописец-Пимен, бесстрастный и безмятежный) и шахматовскую (летописец-политикан, руководствующийся сугубо мирскими интересами), докладчик выдвинул собственную интерпретацию: летописцы были прежде всего христианами и писали свои хроники не для князей и не для потомства, но для Страшного суда (одно из возможных прочтений словосочетания «временные лета»).
Андрей Юрганов начал свой доклад «Правда и вера Ивашки Пересветова»[37] фразою: «Ивану Пересветову не повезло» – и тотчас разъяснил, в чем именно: мало того, что иные исследователи (начиная с Карамзина) сомневались в существовании Пересветова или по крайней мере в его авторстве, вдобавок никто не смог понять, в чем истинный смысл писаний этого автора, ставящего в пример русскому монарху турецкого султана – истребителя христиан. Ключом к уяснению этого смысла Юрганов назвал трактовку Пересветовым и вообще авторами XVI века понятия «правда» как понятия «утробного», тождественного гармоническому мироустройству, богоустановленности. Такая «правда» для Пересветова важнее веры, хотя соединение их («если бы к правде турецкой да веру христианскую…») представляется ему идеальным. В «Сказании о Магмет-салтане» Пересветов изображает богоугодным турецкого султана – потому что тот, захватив Константинополь, действует согласно воле Христовой – устанавливает в государстве «правду» (справедливый порядок), тогда как христианский император Константин этого не делал (потому-то, за его грехи, Бог от него и отвернулся). Богоугодность, утверждает Пересветов, определяется не по вере, а по близости к правде, которую Бог любит сильнее всего. Назвав построения Пересветова архетипом русской утопической мысли, Юрганов специально остановился на отличиях этой утопии от канонической западной утопии, придуманной Т. Мором; если Мор печется прежде всего о совершенном обществе, Пересветова интересует в первую очередь совершенное государство.
Георгий Кнабе в докладе «И. С. Тургенев и русская античность 1840‐х годов»[38] представил повесть «Вешние воды» как свидетельство истончения, ухода из европейской жизни той самой античности, которая до этого была и для европейцев, и для русских живой реальностью, формой, пригодной для адекватного описания событий самоновейших. Анализу текста «Вешних вод» и соотношения в них антично-римского и русского пластов предшествовал большой монолог докладчика, из которого можно было понять, что он разочаровался в традиционных методах анализа текста и в способности науки узнать, что думали князь Трубецкой и поручик Панов 14 декабря 1825 года, когда бежали по петербургской набережной. Помыслы двух этих страдальцев до такой степени заинтриговали докладчика, что он постоянно с грустью констатировал их закрытость для позднейших поколений. Нимало не претендуя на решение этого вопроса в том, что касается Трубецкого, могу высказать предположение касательно мыслей, одолевавших 18 апреля Панова (не поручика, а Сергея Игоревича): безусловно он думал о том, как жаль, что внезапный недуг помешал ему принять участие в Пятых эйдельмановских чтениях и прочесть объявленный в программе доклад.
Выступление Александра Каменского снова вернуло аудиторию в конец XVIII века. Каменского интересовало присутствие «екатерининского» субстрата в реформах, задуманных и/или осуществленных Александром I в начале его царствования[39]. Ключевым понятием для этого доклада стало понятие преемственности – преемственности в реформах (между деяниями Александра и его бабки Каменский усматривает больше сходств, чем различий) и преемственности в их изучении: с точки зрения докладчика, один из главных недостатков нашей исторической науки – в ее фрагментарности, в том, что каждый исследователь изучает свой конкретный период, общая же история реформ в России до сих пор не написана (тезис, который попытались оспорить некоторые из слушателей).
Александру – а точнее, псевдо-Александру – был посвящен и доклад Александра Архангельского «Самозванство без самозванца (Еще раз о старце Федоре Кузмиче)»[40]. Докладчик начал с изящного сравнения людей, ищущих разгадку этой загадки, с «тайными ферматистами», то есть математиками, в глубине души не теряющими надежду доказать заведомо недоказуемую теорему Ферма. Впрочем, к таким тайным ферматистам от истории принадлежал Эйдельман, который, как точно заметил Архангельский, хотя и не мог до конца поверить в то, что сибирский старец в самом деле был Александром, но все-таки очень этого хотел. Напротив, докладчик решительно отверг возможность тождества между старцем Федором Кузмичом и императором Александром Павловичем, основываясь прежде всего на аргументах, почерпнутых, можно сказать, из исторической психологии. Легенда, сказал он, ведет свое начало от Л. Н. Толстого, не видевшего разницы между русским царем и русским писателем: русский писатель мог мечтать об «уходе» и даже в конце концов его осуществить, но русский царь, божий помазанник, не мог позволить себе бросить на произвол судьбы страну и покинуть престол тайком, украдкой (иное дело – неосуществленные планы Александра провести в России политические реформы, превратить ее в конституционную монархию и уже потом передать бразды правления своему преемнику, планы, о которых напомнил аудитории Андрей Тартаковский). Старец Федор Кузмич не был императором, но старцем он был не самозваным, а самым настоящим, появление же его в 1836 году именно в том районе Сибири, где в тот период упорно ожидали явления некоей особы царской крови (например, «воскресшего» Константина Павловича), было, возможно, обусловлено его стремлением «пострадать»; возможно также, что именно поэтому он столь уклончиво отвечал на прямые вопросы о своем происхождении.
Доклад Наталии Мазур назывался «К истории взаимоотношений А. С. Пушкина и круга „Московского вестника“»[41]. Назвав вначале «робкой» свою главную идею (о том, что в знаменитой пушкинской «Осени» отчетливо различима полемика с хомяковской «Зимой», которая в свою очередь была полемическим ответом на «Зиму» Пушкина), докладчица затем безо всякой робости, а, напротив, чрезвычайно уверенно развернула перед аудиторией, с одной стороны, предысторию отношения московских любомудров к Пушкину (от надежд сделать Пушкина своим «знамением», усмотреть в нем русского Гёте и выражение духа нации – до разочарования в его жизненной и литературной позиции: плодами наук пренебрегает; в жизни ориентируется не столько на Гёте, сколько на Байрона; застенчивых и стыдливых архивных юношей нарочно шокирует своим сенсуализмом), а с другой стороны, предысторию отношения Пушкина к московским любомудрам (которое также начиналось с надежд, но очень скоро стало вполне адекватно описываться басенной реминисценцией из письма к Дельвигу: «Московский вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?»). В результате стало ясно, что означает внешнее сходство многих оборотов и образов в пушкинской «Осени» и хомяковской «Зиме» и какое противостояние угадывается за ними.
Автор этих строк представила доклад (написанный совместно с Александром Осповатом) о неизданной книге дипломата, мыслителя, литератора князя П. Б. Козловского «Социальная диорама Парижа» (1824–1825)[42]. В книге этой Козловский, по определению г-жи де Сталь, «истинный европеец», «русский, упитанный европейской цивилизацией», предстает космополитом в высшем смысле, который чувствует себя вправе высказывать неприятные истины не только своему, но и чужому народу. Портрет французской нации – рассудочной, бесконечно тщеславной, почитающей женщин только на словах, но никак не на деле – написан не галлофобом, но человеком, который принимает французские проблемы так же близко к сердцу, как и проблемы своей родной страны. Козловский всерьез рассчитывал напечатать свою «Диораму» и уже отдал рукопись парижскому издателю, но затем забрал назад – после того, как осведомленный французский знакомец разъяснил ему, насколько этот текст противоречит французским «библиографическим нравам».
Кончились чтения произнесенным «без объявления» докладом Владимира Махнача, из которого выяснилось, что все мы поголовно употребляем слова «тирания» и «тиран», «деспот» и «деспотия» неточно и совершенно не так, как завещал Аристотель[43]. Делая по ходу любопытные лексикографические экскурсы (в «Краткой советской энциклопедии» 1943 года нет ни слова «тирания», ни слова «диктатура» – одна лишь диктатура пролетариата), докладчик напомнил, что, по Аристотелю, существуют лишь три формы правления: монархическая, аристократическая и демократическая – и три отклонения от них (когда правление осуществляется не в интересах всего общества, а в интересах его части): тирания, олигархия и охлократия. Если взглянуть на советскую историю с этой точки зрения, то окажется, во-первых, что с 1917 года мы никогда не жили при «полноценной» форме правления, а всегда – при «отклонениях», во-вторых, что в 1920‐е годы у нас происходила борьба революционной олигархии с революционной охлократией, в-третьих, что Сталин был тираном, но не диктатором, так как диктатура есть экстраординарная власть, отнюдь не тождественная тирании, а вот Пиночет был типичным экстраординарным диктатором – и еще множество интереснейших вещей. Очевидно, что докладчик принадлежит к числу тех счастливцев, которые верят, что если назвать все вещи изначальными, «правильными» именами, то все установится и придет в порядок не в одной лишь словесности, но также и в жизни. Такой вере можно только позавидовать.
Конечно, значения терминов очень важны, но гораздо важнее стоящая за ними историческая реальность, подробности которой нам зачастую внятны далеко не достаточно. Главная ценность Эйдельмановских чтений, пожалуй, состоит именно в том, что их участники в меру сил, не спеша, без широковещательных выводов и броских концепций продолжают то погружение в глубину истории, мастером которого был Эйдельман. И единственное, чего можно пожелать (помимо, разумеется, того, чтобы чтения происходили ежегодно, без всяких сбоев), – это чтобы обсуждение докладов приблизилось по интенсивности и насыщенности к самим докладам, чтобы «интермедии» сделались так же интересны, как и сама «пьеса».
Шестые Эйдельмановские чтения
(18 апреля 1996 года)[44]
Шестые Эйдельмановские чтения состоялись по традиции 18 апреля 1996 года, в день рождения Н. Я. Эйдельмана, в редакции журнала «Знание – сила». Открыл чтения их бессменный председатель Андрей Тартаковский, совершенно справедливо заметивший, что за шесть лет их существования чтения эти стали необходимой принадлежностью нашей научной жизни, так что, если бы они вдруг прекратились, и участники, и аудитория (и то и другое у чтений более или менее постоянное) почувствовали бы себя обделенными.
Первым прозвучал доклад Игоря Андреева «Самозванство на Руси»[45]. Докладчик выказал изрядное знакомство с новейшей исторической, социологической, культурологической терминологией (выражения «сакральность», «стереотипы поведения и мышления», «сознание простецов» и проч. звучали в докладе постоянно) и поставленный на научную ногу патриотизм: самозванство, утверждал он, уникальное русское явление, в европейской истории ничего подобного не было, да и «уровень сакральности» там, оказывается, был ниже, чем в России.
Декларированной целью доклада было описать черты средневекового сознания (сознания простецов), которые способствовали возникновению самозванчества. Таковых было названо три: 1) восприятие нового как узнавание старого, то есть поиски в любом новом явлении того, что роднит его со старым; 2) уже упоминавшаяся сакральность власти, сочетающаяся с рецидивами язычества («народное православие»): народ наделяет самозванца и царя сверхъестественными свойствами, в том числе и колдовскими; 3) символизм как стиль мышления простецов (поиски на теле «царей» свидетельств их богоизбранности – «царских знаков»). Все это, по мнению докладчика, обуславливало предрасположенность народного сознания к самозванческой идее: если царская власть сакральна, то противиться царю или тому, кто объявляет себя царем, греховно. Элементами, на которых работала «модель» самозванчества, были названы внушение и подражание, а свойствами, какие народное мышление приписывает царю, – законность, богоданность и справедливость его власти (царь как источник и слуга права).









