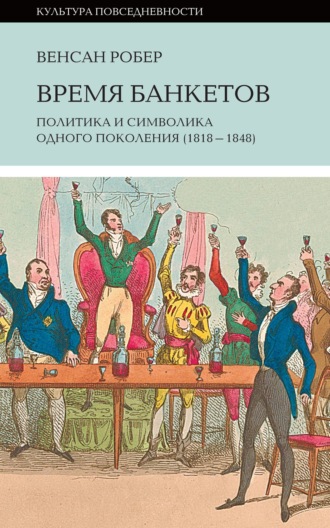
Полная версия
Время банкетов
Наконец, в ту пору ни один праздник нельзя было считать удавшимся без музыки. Понятно, что музыка не умолкала на банкете в «Теленке-сосунке», устроенном в честь Россини: в ту минуту, когда он вошел в залу и направился к своему почетному месту, «восхитительный оркестр под водительством г-на Гамбаро заиграл пленительную увертюру к „Сороке-воровке“», а во время самого пиршества «время от времени звучали фрагменты опер, которые, даром что всем памятные, были выслушаны с вниманием, в подобных обстоятельствах беспримерным. То была дань, достойная их автора». Затем, за десертом, настала пора тостов; сначала выпили за героя праздника, затем за покойных великих композиторов: Глюка, Гретри, Моцарта, Меюля, Паизиелло, Чимарозу. После каждого из этих тостов, сообщает «Пандора», «оркестр исполнял фрагмент музыки того композитора, за кого он был произнесен». Так обстояло дело на банкете в честь великого Россини. Но описанный Бальзаком вымышленный банкет в честь Люсьена де Рюбампре, поэта и романиста, славы Ангулема, также не обошелся без музыки. Полковник, командующий местным гарнизоном, предоставил для праздника военный оркестр. Музыка привлекла во двор гостиницы множество зевак, и их примеру едва не последовал Давид Сешар, зять Люсьена, скрывавшийся от кредиторов; именно на это и рассчитывал Пти-Кло, устроитель празднества. Банкеты, таким образом, нуждались в музыке, и те, какие устраивались в честь депутатов, не составляли исключения. Нантский «Друг Хартии» отмечает, что «во время банкета [устроенного в честь господ де Сент-Эньян] раздавались гармонические звуки; мелодии были выбраны со вкусом, и эта пленительная музыка смолкла, лишь когда гости начали расходиться». «Булонский комментатор», описав убранство залы в цирке Искусств, где чествовали депутата Луи Фонтена, уточняет: «Музыканты, помещенные в укромном месте, при появлении г-на де Фонтена заиграли „Да здравствует Генрих IV!“, а во время трапезы беспрестанно исполняли фрагменты, избранные в соответствии с предметом собрания»[145]. Оркестр или по крайней мере несколько музыкантов требовались, чтобы приветствовать появление в зале наиболее уважаемых гостей, а затем, во время самого пиршества, исполнять фрагменты, приуроченные к обстоятельствам и к подразумеваемому смыслу мероприятия. Задача тоже не из легких: в провинции, за неимением профессиональных музыкантов, таких как оркестр г-на Коллине, который сопровождал банкет в «Бургундском винограднике» и о котором, впрочем, правительственные газеты отзывались с немалым пренебрежением, приходилось использовать подручные средства: в лучшем случае оркестрантов местного театра, в худшем – музыкантов из числа национальных гвардейцев или пожарных, а то и просто просвещенных любителей. Это нередко становилось предметом бесчисленных мелочных войн между властями, с одной стороны, и организаторами либеральных празднеств, а подчас и самими музыкантами, с другой.
Подведем итоги. Нанять залу, украсить ее; затем накрыть стол, выбрать меню, заказать блюда лучшим поварам города (вспомним банкет в честь Люсьена де Рюбампре, устройство которого взял на себя «знаменитый ресторатор из Умо, чьи индейки, начиненные трюфелями, известны даже в Китае и рассылаются в великолепной фарфоровой посуде»); наконец, пригласить музыкантов. Все это стоит денег, даже очень больших денег. Организаторы банкета обычно предпочитали не распространяться об этой стороне дела, потому что простым горожанам такие удовольствия были не по карману; вдобавок в разглашении финансовых подробностей никто не нуждался; о подписке редко объявляли в прессе, а подписчиков ставили в известность о цене в тот момент, когда предлагали им подписной лист[146]. Поэтому у нас мало непосредственных сведений на этот счет. Зато полиция и администрация придавали финансовой стороне банкетов большое значение, и сообщаемые ими данные по большей части не противоречат одно другому. Как мы помним, участники банкета в «Бургундском винограднике» платили каждый по 20 франков. В такую же цену обошлось подписчикам участие в лионском банкете в честь Корселя в августе 1820 года или участие в банкете в Мо в честь Лафайета в сентябре 1828 года[147]; руанские подписчики в сентябре 1818 года заплатили по 25 франков; та же сумма потребовалась от участников банкета в честь герцога де Броя, Биньона и Дюпона (из Эра) в Берне девять лет спустя и в честь депутата Жиро из Эна в Шиноне в октябре 1829 года[148]; что же касается либералов из департамента Об, они в ноябре 1829 года внесли по 30 франков на чествование своего депутата Казимира Перье и двух его коллег, Паве де Вандёвра и Евсевия Сальверта[149]. Участники бретонских банкетов летом 1820 года, которые мы уже упоминали, истратили, насколько можно судить, немного меньше: в Морлé и в Бресте по 15 франков, из которых треть пошла бедным, сообщает генеральный прокурор Бурдо[150]. Тот же тариф действовал в Лионе в октябре 1821 года (банкет в честь Корселя)[151] и в Труа в июле 1826 года (банкет в честь Казимира Перье)[152]. Таким образом, участие в политическом банкете в эпоху Реставрации обычно обходилось сотрапезникам в сумму от 15 до 25 франков. Следует напомнить, что в ту эпоху ремесленник зарабатывал столько за неделю, а поденщик в провинции – за две; эта сумма равнялась примерно четверти годовой подписки на парижскую ежедневную газету (цена которой колебалась между 72 и 80 франками); между тем такая подписка была доступна только людям с достатком, а большинство городских жителей, интересовавшихся политикой, не могли себе позволить такой роскоши (поэтому горожане либо подписывались на газету в складчину, либо читали прессу в кафе или кабинетах для чтения, а в простонародной среде даже практиковался поднаем газеты на час или на полдня). Потратить подобную сумму на один-единственный праздник, одну-единственную трапезу могли либо люди очень состоятельные, либо те, кому недостаток средств частично компенсировала истинная преданность политическим идеалам: мелкие буржуа, мастера-ремесленники, возможно также клерки из нотариальных контор, приказчики и студенты. Многозначительная деталь: если во время самой трапезы проводился сбор денег на бедных или если где-то в углу стояла кружка для пожертвований, участникам банкета приходилось раскошелиться еще раз, но в этом случае они тратили очень мало: от силы один франк, а то и меньше[153]. Было ли тут дело в скупости? Возможно. Но возможно и другое: плата за участие в банкете была так велика для части гостей, что они просто не имели возможности потратить еще хоть что-нибудь на бедных.
Отсюда нетрудно сделать вывод, что в эпоху Реставрации политический банкет никогда не был общенародной практикой – потому что не мог быть таковой. Празднества компаньонов, как мы видели, обходились их участникам очень дорого, так дорого, что для некоторых из них это становилось аргументом против самого института компаньонажа; но у компаньонов не было семьи, а на один банкет они, сколько можно судить, никогда не тратили больше пяти франков. Единственный известный мне политический банкет, доступный для публики сравнительно скромного достатка, – тот, что состоялся в саду Божона 27 июня 1822 года и был устроен в честь двух новоизбранных столичных депутатов-либералов; в тот раз – возможно потому, что требовалось заполнить огромную залу, – гости, которых насчитывалось около тысячи, заплатили всего по шесть франков[154]. Поэтому не следует принимать на веру сообщения префектов, генеральных прокуроров, не говоря уже о полицейских комиссарах: все они, конечно, утверждали, что за столом на банкетах собирались только люди никому не известные, ничем не примечательные, но это очевидная ложь. Конечно, не все гости принадлежали к числу избирателей, по той причине, что не достигли требуемого возраста или не обладали необходимым имущественным цензом (тридцать лет и триста франков прямых налогов в эпоху Реставрации). Но в банкетах никогда не участвовали люди ничтожные; все участники были нотаблями, крупными или мелкими.
Представители простого народа доступа на банкеты не имели; банкеты почти так же, как и право избирать, хотя и в чуть меньшей степени, представляли собой форму участия в политической жизни, зависящую от ценза, имущественного состояния. Просто-напросто ценз в данном случае был чуть менее высоким, а следование условиям – сугубо добровольным. Что же оставалось в таком случае тем, у кого не хватало средств для участия в празднике, или тем, которые спохватились слишком поздно? Присутствовать поблизости. Префекты могут сколько угодно уверять, что «собрание не сделало ни малейшего впечатления на публику, которая его едва заметила»[155] или что «это, с позволения сказать, празднество не породило здесь ни в одном классе общества ни малейшего возбуждения»[156]. Но время от времени в каком-нибудь донесении, меньше связанном с политикой, например в жандармском рапорте, можно прочесть о «множестве любопытных из всех классов общества, которые стремились увидеть и услышать, что происходит на банкете»[157]; еще выразительнее сообщение о том, что в коммуне Сен-Мартен-ле-Винь, пригороде Труа, вокруг дома, где остановился Казимир Перье, и того дома, где прошел банкет в его честь, «деревья были украшены коронами и иллюминированы цветными стеклышками. ‹…› Многие местные жители пришли посмотреть на иллюминацию, а затем мирно разошлись по домам»[158]. А в сохранившемся в архиве анонимном письме в Министерство внутренних дел по поводу этого же самого вечера храбрый юрист пишет о «целой толпе» и «очень большом скоплении народа», чреватом «некоторыми опасностями»[159]. Итак, банкеты вполне могли привлекать внимание любопытных – частью простых зевак, ибо празднества эти, даже если они имели частный характер, вносили разнообразие в сонную повседневную жизнь провинциальных городов, но частью и тех, кто сочувствовал политическим убеждениям устроителей. Риск, что эти собрания завершатся беспорядками, был, по всей вероятности, очень мал, а поскольку все кончалось мирно, местные власти в донесениях министру легко могли задним числом приуменьшать приток граждан к месту проведения банкета. Тем не менее нет никаких оснований утверждать, что празднества эти оставляли население совершенно равнодушным; более того, присутствие любопытных становилось одним из свидетельств успеха мероприятия. Перечитаем Бальзака: «К пяти часам вечера в зале собралось человек сорок, все во фраках. Во дворе толпа обывателей, в сто с лишком человек, привлеченная главным образом духовым оркестром, представляла сограждан»[160].
Тосты и песни
Отчеты, опубликованные в прессе, особо подчеркивают сердечное согласие, царившее среди гостей; эта деталь заслуживает специального внимания, поскольку она всегда выдает скрытую тревогу и облегчение от того, что все прошло гладко. Со своей стороны, власти упорствуют в нежелании исполнить волю некоторых организаторов, которые хотели бы получить в свое распоряжение несколько полицейских агентов или пожарных, на тот случай, если потребуется удалить с банкета каких-нибудь смутьянов. Поддерживать мир и покой в зале, где собраны несколько десятков, а то и сотен персон, – дело не такое легкое. Конечно, принято считать, что во время праздника, в атмосфере всеобщего веселья, мелкие разногласия забываются и наступает всеобщее братание, но можно предположить и другой исход: хмель ударит в голову кому-то из гостей и они перестанут себя контролировать, начнутся непотребные выходки, а то и потасовки, а политические противники не преминут этим воспользоваться. Над праздником нависает призрак оргии[161].
На банкете следует пить и есть, но умеренно; кроме того, нужно уметь себя вести. Либералы были тем более заинтересованы в том, чтобы их не обвинили в обжорстве, что сами они охотно предъявляли аналогичное обвинение своим политическим противникам, министерским депутатам, которых Беранже заклеймил прозвищем «пузаны». Что же касается обвинения в пьянстве, к первым либеральным банкетам оно было вовсе не применимо, поскольку там не произносили никаких тостов, а значит, не пили шампанского. Из некоторых отрывочных данных можно сделать вывод, что число бутылок на одну персону вполне соответствовало тогдашним нормам: одна бутылка, не больше. Когда устроители, ввиду особой политической важности события, хотели быть абсолютно уверены, что все приглашенные сохранят достоинство и самообладание, они решали ограничиться одним-единственным сортом вина; так, например, сделали организаторы лионского банкета 1822 года. Кроме того, пришедшие должны были следить за своим внешним видом; нам удалось найти гневное протестующее письмо депутата от Монтобана, графа де Прессака, в честь которого избиратели устроили банкет весной 1830 года. Дело в том, что одна ультрароялистская тулузская газета осмелилась утверждать, что оратор и часть гостей к концу праздника остались в одних рубашках и, по-видимому, собирались пуститься во все тяжкие. Наконец, не могло быть и речи о присутствии женщин на банкете.
Банкет в честь Россини 16 ноября 1823 года, в котором приняли участие сто семьдесят подписчиков, представляет собой исключение только по видимости. В большой зале «Теленка-сосунка» «г-н Россини сидел между мадемуазель Марс и госпожой Паста. Напротив героя праздника помещался г-н Лесюёр; справа от него сидела г-жа Россини, а слева – мадемуазель Жорж. Затем располагались г-жи Грассини, Чинти и Демери». Иначе говоря, все присутствовавшие дамы были либо певицы, либо актрисы, то есть женщины, которые постоянно выступали на публике и которых никому бы не пришло в голову причислять к женщинам порядочным. Во Франции в это время, как показала Анна Мартен-Фюжье, Церковь по-прежнему считала актрис грешницами, не сильно отличающимися от публичных женщин, и отказывала им в церковном погребении. Какой бы славой они ни пользовались и какими бы талантами ни блистали, в хорошем обществе они приняты не были и общаться с порядочными женщинами права не имели. Таким образом, их присутствие на банкете в честь Россини не доказывает ничего иного, кроме исключительности артистического мира, где границы между мужским и женским были несколько смазаны. В обычной жизни женщины на банкет не допускались, поскольку и буржуазия, и аристократия ограничивали сферу действия женщин исключительно домашним кругом; публичное же пространство и публичные дебаты считались делом сугубо мужским. Впрочем, и сами трапезы после Революции приобрели по преимуществу мужской характер; известно, например, что Гримо де Ла Реньер не поощрял присутствия женщин на устраиваемых им гастрономических обедах[162]. Я нашел лишь одно исключение, да и то предположительное: в отчете о банкете в Труа в честь Казимира Перье говорится, что в конце трапезы супруги главных местных нотаблей получили возможность выразить свое почтение госпоже Перье, из чего, по-видимому, можно сделать вывод, что эта последняя, сопровождавшая мужа, была допущена к пиршественному столу; однако ее статус как супруги героя дня был совершенно исключительным[163]. Зато нередко случалось, что дам и девиц приглашали взглянуть на пиршественную залу уже после десерта и произнесения тостов. Как правило, именно они занимались сбором пожертвований, что соответствует одной из их традиционных социальных ролей – роли благотворительницы[164]. Однако, судя по документам, некоторые дамы и девицы питали нескрываемый интерес именно к политической стороне праздника, в котором участвовали их супруги или братья (невозможно вообразить, чтобы они были допущены туда, где не присутствовали их родные[165]); можно также предположить, что некоторые из гостей желали получить свидетельство о благонравном поведении и развеять подозрения, которые неминуемо возникли бы в маленьких городках и замкнутых обществах, если бы никто не мог удостоверить, что на этих собраниях в самом деле царит тот идеальный порядок, о каком сообщают местные газеты.
В конце трапезы, за десертом, наступало время тостов, когда сотрапезники поднимали бокалы, как правило наполненные шампанским, сначала за здоровье короля, затем за королевскую фамилию, а затем за героя или героев праздника. Но случалось, что тосты произносились также за Хартию, за палату пэров или депутатов, за национальную гвардию и даже за Торговлю, за Земледелие или за процветание города Ангулема. Тосты были призваны выразить цель, объединяющую гостей, их общие чаяния. По этой причине либералы, сочиняя пародию на банкет своих противников-клерикалов, могли вложить в их уста «тосты за пересмотр конституции, за взятие Франции в опеку, за презрение к шарам, за право двух ветвей власти навязывать свою волю третьей и за истребление всех тех, кто не принадлежит к числу иезуитов»[166]. По той же причине первый тост, как и на масонских банкетах, всегда произносился за здоровье короля; он мог оказаться и последним, однако обойтись без него было невозможно. «Французская газета», которая забыла или притворилась, что забыла в 1830 году о банкетах в «Радуге» и на улице Горы Фавор, возмущалась тостом, произнесенным в «Бургундском винограднике»:
До сих пор народ полагал, что на подобном собрании, посвященном разом политике и удовольствию, первым делом следует поднять бокал за здоровье короля. ‹…› В Англии если три гражданина собираются для совместной трапезы, они непременно обращают свои мысли и чувства к тому, кто восседает на престоле; это нечто вроде поклонения, объединяющего людей всех званий. Так вот! Наши исключительные конституционалисты даже не соблаговолили вспомнить, что во Франции есть король. ‹…› Иностранцы и то были бы к нему более предупредительны[167].
Старинный и почти повсеместно распространенный обычай требовал, чтобы тосты произносились только за десертом[168]: древние греки сначала ели, а уж потом начинали пить. Одно из возможных объяснений этому обычаю дал Гримо де Ла Реньер при Империи, двадцатью годами раньше той эпохи, о которой говорим мы: во время десерта веселость гостей достигает верхней точки, все расслабляются и радуются, а поскольку все кушания уже съедены, можно наконец отослать слуг (которые могли бы оскорбиться слишком вольными речами или стали бы их пересказывать приятелям, а в самом худшем случае отправились бы с доносом в полицию)[169]. В этом контексте становится более понятно, почему такое шокирующее впечатление производили бессловесные либеральные банкеты 1818–1820 годов: вставал вопрос, может ли банкет без тостов считаться настоящим банкетом? Становится также понятно, почему роялисты не принимали эти банкеты всерьез: как получать удовольствие на праздниках, где гости так мало доверяют друг другу, что даже не произносят тостов? Как не соскучиться на них до смерти и как решиться поприсутствовать на них вторично? Что же касается обычных банкетов, на них тосты, а равно и речи, толкующие их смысл и отвечающие на них, были обычно достаточно многочисленны, но, хотя и готовились заранее, сравнительно коротки: поскольку самые подробные отчеты – в специально изданных брошюрах – посвящали тостам всего несколько строк, можно предположить, что в ту пору банкет не был поводом для речей. Единственными ораторами, которым порой приходилось импровизировать, становились герои праздника; они, как Люсьен де Рюбампре, были обязаны разом и поблагодарить за оказанную им честь, и произнести ответный тост.
Но обычно тостами дело не ограничивалось: праздник считался неудавшимся без нескольких стихов, а главное, без каких-нибудь куплетов «на случай», как выражались в ту пору. Местный поэт декламирует несколько строф своего сочинения в честь героя банкета или исполняет песню на злобу дня. Стихотворения и песни чаще всего не отличаются большим мастерством, но пренебрегать ими было бы серьезной ошибкой: во-первых, потому, что в ту пору в стихах можно было высказать то, чего нельзя сказать в прозе (или по крайней мере высказать иначе, чем в прозе)[170], а во-вторых, потому, что современники придавали этим стихам огромное значение: брошюры, о которых мы только что упомянули, воспроизводили эти сочинения полностью, какими бы пространными они ни были. Мы ничего не поймем в популярности Беранже в среде либеральной буржуазии, если забудем о значительном месте, которое песня занимала в ту пору в общественной жизни, даже в жизни элит: публика слушала песни внимательно и знала их очень хорошо. В число гостей всегда входило какое-то количество стихотворцев или сочинителей песен; конечно, все они занимались поэзией как любители, но сегодня перечень их изумляет. Действительно, поскольку обыкновение петь в конце парадного обеда в течение XIX века вышло из моды в хорошем обществе, мы склонны полагать, что обыкновение это всегда носило исключительно простонародный характер. Поэтому Жан Тушар с некоторым недоумением сообщает, впрочем не настаивая на этом, что в эпоху Реставрации самые известные политические деятели «не гнушались» сочинением куплетов на случай[171]. Мастером этого дела был, например, юный Шарль де Ремюза, лидер либеральной молодежи, получивший от природы самые разные дары (он, например, сочинил для своего свадебного банкета прелестную песенку под названием «Привидение» – намек на возвращение Казимира Перье в замок Визиль после нескольких лет отсутствия)[172]; но гораздо удивительнее другое: и Лене, министр внутренних дел в 1816–1817 годах, и Мартиньяк, председатель Совета министров в 1828–1829 годах, тоже не чуждались этого занятия! Во Франции, говорили тогда, «все кончается песнями». Это, конечно, неверно применительно к нашему времени, это, к великому сожалению баронессы Стафф, было неверно уже в конце XIX века, но это было вне всякого сомнения верно в эпоху Реставрации: сочинить песню и исполнить ее на большом банкете, как это сделал Беранже со «Священным союзом народов» в Лианкуре во время праздника, устроенного в честь освобождения французских земель, означало высказать свою политическую позицию, а для начинающего поэта или честолюбивого юноши – еще и привлечь внимание к собственной персоне или собственному таланту[173]. А если герой праздника был в состоянии немедленно или спустя недолгое время ответить в стихах на адресованные ему куплеты, как, например, сделал в Эдене в сентябре 1828 года депутат от Па-де-Кале Дегув де Нунк, это лишь умножало его славу.
Зная, какую важную роль играли тосты и песни на любом банкете, мы лучше поймем, какое шокирующее впечатление производили бессловесные банкеты первых лет Реставрации. Мог ли праздник считаться удавшимся без тостов и песен? Либералы отвечали на этот вопрос положительно, и у них были на то свои резоны, однако, как мы видели, уже весной 1820 года они очень охотно возвратились к старой системе: можно предположить, что их аргументация не вполне убеждала их самих, а главное, бессловесные банкеты мало годились для мобилизации общественного мнения, потому что информация, транслируемая датами, музыкой, убранством залы, была лишь подразумеваемой, а значит, нуждалась в дешифровке. За редчайшими исключениями, либеральные банкеты следующего периода сопровождались тостами, как правило весьма многочисленными, хотя обязательный первый тост за короля звучал на них не всегда. Чаще всего к тостам прибавлялись и песни. Таким образом, банкеты протекали как «настоящие семейные празднества»: респектабельность гостей, благопристойность их поведения позволяли всем забыть о разногласиях, слиться в едином порыве, проникнуться доверием друг к другу. Однако очевидно, что семью, как и общество в целом, либералы понимали не совсем так, как их противники-роялисты.
Глава 4
Оборотная сторона карбонаризма (1818–1824)
Старые истории Реставрации, написанные с либеральных или республиканских позиций, рассматривают начало 1820‐х годов под знаком карбонаризма. Это очевидно для всякого, кто читал рассказы о заговорах в Бельфоре и Сомюре или страницы, которые историки XIX века посвятили аресту, процессу и казни капитана Валле в Тулоне или судьбе четырех молодых сержантов из Ла-Рошели, не предавших своих товарищей и гильотинированных на Гревской площади. Рассказы эти полны потрясающих сцен, достойных внимания драматургов и кинематографистов: всадники, скачущие навстречу Лафайету, чтобы предупредить его о разоблачении бельфорского заговора и в последний момент направить его экипаж в другую сторону; позорный столб в Меце, усыпанный цветами и лавровыми ветками сразу после того, как палач привязал к нему карбонария, приговоренного к этому унизительному наказанию; народное поклонение капитану Валле: его тайно похоронили за кладбищенской оградой, но в 1830 году могилу удалось обнаружить, потому что во время погребения кто-то бросил в нее персиковую косточку и за восемь лет на этом месте выросло персиковое дерево… В романтичности и романичности карбонаризму не откажешь[174].
Вдобавок карбонаризм вызывает интерес, потому что окружен тайной. Его ритуалы, секретные собрания, устрашающий церемониал принятия в члены общества, характер даваемых клятв; его происхождение из Неаполя и, в более дальней перспективе, из Франш-Конте; его возможные связи с другими европейскими либеральными тайными обществами; его наследники, от реформированных карбонариев Буонарроти[175] до тайных обществ Бланки, – все это возбуждало романические умы и подпитывало фантазмы тех, кто свято верит в тайные пружины политической жизни, в зреющие под покровом ночи (а то и под покровительством Сатаны) заговоры, участники которых подают сигнал к революциям или даже стремятся затянуть в свои дьявольские сети все общество целиком. Понятно, какую выгоду может извлечь из этого видения мира историческая паралитература, продолжающая традиции давно прекратившего свое существование «Международного журнала тайных обществ». В недавнее время гораздо более серьезные исследователи осознали, какой огромный интерес представляет карбонаризм для исторической и политической науки: до Второй мировой войны и Сопротивления в истории Франции не существовало тайного движения подобного размаха, в котором, по всей вероятности, участвовали около пятидесяти тысяч человек, в том числе многие будущие видные государственные деятели Июльской монархии и большинство республиканских и социалистических политиков этого поколения. Так вот, глобальный переход к тайной деятельности, принятие иерархического тайного общества как главной (хотя и переходной) формы политической ассоциации ставят перед политологом множество вопросов об использовании тайны в политике. Одним словом, со всех точек зрения карбонаризм представляется явлением крайне увлекательным[176].




