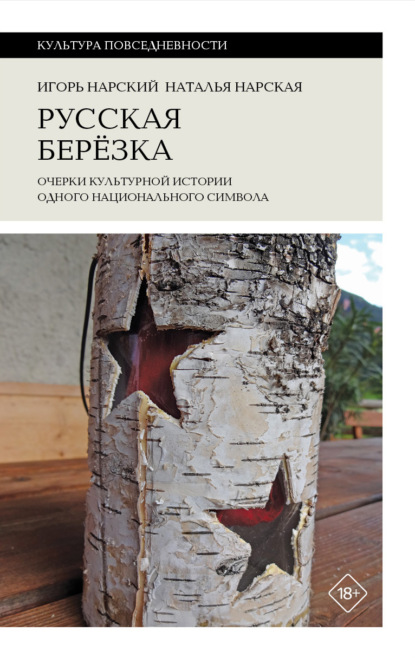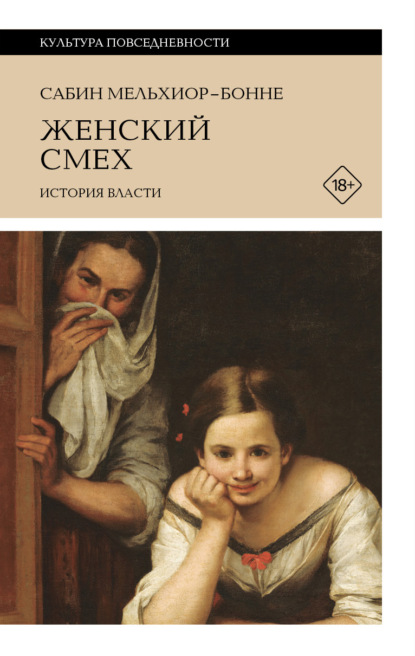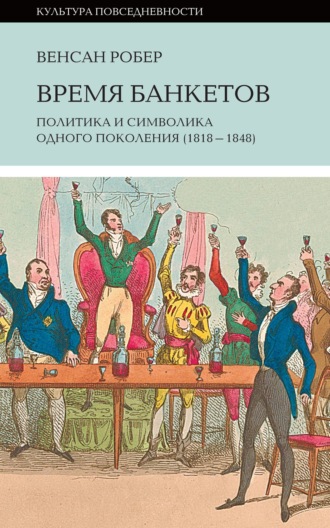
Полная версия
Время банкетов
Тем не менее мне кажется, что увлекаться этой романической заговорщической стороной карбонаризма не стоит. Не стоит также издеваться над неловкостью заговорщиков, над лидерами карбонариев, якобы проявлявшими трусость или цинизм, над прискорбной неудачей всего движения, как уже давно поступали неумеренные поклонники эпохи Реставрации. Все это проанализировано, пересмотрено и объяснено в фундаментальном исследовании Алана Шпитцера. Нужно продолжать его исследования и рассматривать карбонаризм как тайную либеральную партию или как деятельное и не боящееся риска крыло либеральной партии, которая, что ни говори, в ту пору в самом деле представляла нацию. В противном случае невозможно будет понять, каким образом эта партия смогла так быстро оправиться после разгрома карбонаризма и как ее организация смогла пережить репрессии, внутренние раздоры, опалу, которой подверглись некоторые ее руководители. Заговорщики существовали не в изоляции, не в окружении враждебном или равнодушном, но скорее, как столетие спустя участники Сопротивления, чувствовали себя среди современников как рыба в воде. Чтобы понять, какие узы связывали либеральную партию с французским обществом, по каким причинами тысячи студентов, судебных приставов, негоциантов и адвокатов вступали в общества карбонариев, нам придется вернуться к изучению либеральной общежительности, и в частности к политическим банкетам и другим публичным манифестациям либеральной направленности, которые возникли раньше заговоров и не прекратили своего существования в то время, когда заговоры плелись, поскольку формы эти, хотя и не нравились властям, все-таки считались совершенно законными.
Терпимость поневоле
Префект Шоппен д’Арнувиль, который объяснял министру Деказу тот совершенно очевидный для него факт, что он не может запретить празднества, задуманные гренобльскими либералами летом 1818 года, был администратор умеренных взглядов, назначенный на должность конституционным роялистским правительством и не заинтересованный в том, чтобы идти наперекор господствующему в его департаменте общественному мнению. Но он не только убеждал министра, что запрещать банкет было бы непредусмотрительно, он говорил, что не имеет на это права. И то была не просто его личная точка зрения; в ту пору все, от министров и администраторов до нотаблей, взявших на себя устройство банкета, решали этот вопрос точно так же. Ни в Париже, ни в провинции запретить банкет, каков бы он ни был, не представлялось возможным: ни обед в «Радуге», ни банкет на улице Горы Фавор, политическая направленность которых не оставляла ни малейших сомнений, запрещены не были. И даже 1 апреля 1830 года самое реакционное (хотя отнюдь не самое ловкое) правительство эпохи Реставрации, то, от которого, как опасались либералы, больше чем от какого-либо другого можно было ожидать возвращения к актам насилия 1815 года и к законам Старого порядка, не запретило готовящийся банкет и, судя по всему, не обдумывало такой запрет. Почему же?
В законодательстве объяснения этому мы не найдем, поэтому следует искать другие причины. Первая заключается в том, что факт собрания известного числа людей на банкете сам по себе не может считаться потенциальным источником нарушения общественного порядка. Поскольку банкеты, как правило, проводятся в четырех стенах, то происходящее там не касается администрации. Ален Корбен прекрасно показал, анализируя волнения в провинциальных театрах в эпоху Реставрации, что префекты, супрефекты и комиссары полиции чрезвычайно снисходительно смотрели на все инциденты, которые там случались, если только смута не выплескивалась наружу, на улицу и на площади[177]. Они непременно желали знать, что там произошло на самом деле, но никаких последствий для участников тамошних столкновений это не имело. С банкетами дело обстояло примерно так же. Власти внимательно следили за тем, как участники банкета целой процессией направляются к месту, где он должен состояться; еще более внимательно они наблюдали, как участники банкета расходятся, не шумят ли при этом, покидают ли залу поодиночке, маленькими группами или, что тоже иногда случалось, целой процессией (так, граждане Гательро с факелами проводили Вуайе д’Аржансона до выезда из города, где ему предстояло сесть на лошадь или в экипаж, чтобы возвратиться в свое поместье «Вязы»; участники реннского банкета долгой молчаливой процессией сопровождали Дюнуайе до его гостиницы). Однако поскольку, в отличие от театральной залы, помещение, где происходит банкет, как правило, не принадлежит к числу публичных мест, а двери и зачастую даже окна там остаются закрытыми, представители местных властей не имеют никакого права проникнуть туда официально. Нет сомнения, что и в этом случае администрация желает получить информацию о том, какие речи звучат на банкете, но по закону ее представители там присутствовать не вправе. В противном случае их бы обвинили в покушении на неприкосновенность частного жилища, в возвращении к худшим дням полицейского произвола Фуше, к имперской тирании… или к временам Белого террора, о котором все предпочитали забыть.
Вторая причина снисходительного отношения власти к банкетам связана с концепцией общества, господствовавшей среди политической и административной элиты эпохи Реставрации. Концепция эта носила сугубо иерархический характер: есть люди, к которым следует прислушиваться, общество в собственном смысле слова, и есть народ, который рассматривался то как «добрый народ», то как чернь, но его мнение в любом случае не представляет никакого интереса. Все зависело от границ: аристократы, остававшиеся приверженцами Старого порядка, проводили их очень высоко и в глубине души отказывались брать в расчет даже разночинцев, но администраторы и префекты нередко считали иначе. Люди, возвысившиеся при Империи, особенно те из них, кто сочувствовал либеральным идеям, были гораздо более открыты, вне зависимости от своего собственного происхождения: они причисляли к нотаблям всех, кому Хартия предоставила право избирать депутатов, то есть всех, кто платил триста франков прямых налогов. Возможно, они даже считали, что многих провинциальных буржуа, образованных и достаточно состоятельных, также следует принимать в расчет, поскольку на местном уровне они могут сыграть немалую политическую роль; вспомним, например, «страшного господина Гойе», который наводил ужас на всех префектов Сарты, поскольку, сам не входя в число избирателей, оказывал влияние на результаты выборов в своем департаменте, причем неизменно поддерживал либералов. Но как бы там ни было, отношение к этим двум классам граждан не могло и не должно было быть одинаковым. С народом административные элиты обращались либо – в спокойные времена – с добродушным патернализмом, либо – при малейших беспорядках – с чрезвычайной жестокостью. Чуть ниже мы увидим проявления этого добродушия, которые многие историки Реставрации противопоставляют холодному бездушию элит Июльской монархии. Однако следует иметь в виду, что если люди из народа осмеливались предъявлять властям какие-либо требования или высказывать политические убеждения, этим дерзким смельчакам затыкали рот без всякой жалости.
Мы уже упоминали кровавое подавление восстания в Дофинé в мае 1816 года. Во время голода 1816–1817 годов чрезвычайные суды все чаще выносили смертные приговоры, чтобы восстановить порядок и запугать чернь: вспомним четыре казни в Сáнсе, о которых правительство Деказа объявляло повсеместно. Следует напомнить также о десятках приговоров, которые выносились бедным людям, в сущности, за их политические взгляды. Приведем два примера из тысячи: крестьянин из департамента Манш, укрывавший в своем доме бывшего члена Конвента «цареубийцу» Ле Карпантье, который тайно вернулся во Францию, был приговорен в 1819 году к восемнадцати годам тюремного заключения (тогда как сам Ле Карпантье получил срок на восемь лет меньший)[178]; в департаменте Эндр и Луара девица Кутюрье, двадцатиоднолетняя прачка, была приговорена за крамольные речи к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 50 франков; между тем, чтобы заработать такую сумму, ей пришлось бы трудиться целых полтора месяца[179]. Зимой 1815–1816 годов несчастная имела неосторожность сказать: «Весной фиалки расцветут вновь». Еще в 1829–1830 годах людей из народа регулярно приговаривали к нескольким месяцам тюрьмы только за то, что в подпитии они начинали кричать: «Да здравствует император!» В результате режим не столько запугал население, сколько его озлобил.
Напротив, отношение к нотаблям, крупным или мелким, после окончания Белого террора существенно смягчилось. Стало невозможно проводить у них обыск без мандата, бросать их в тюрьму из‐за простых подозрений. За этим строго следили адвокаты и либеральная пресса, и обычные суды становились на их сторону. Исследователи, анализировавшие разные эпизоды истории карбонаризма, не раз удивлялись этой чрезвычайной снисходительности властей по отношению к людям, входившим в верховную Венту, таким как Лафайет, Вуайе д’Аржансон, Корсель, Манюэль, Жак Кёклен… Между тем, хотя обвиняемые, как, например, четыре сержанта из Ла-Рошели, даже под страхом смерти, невзирая на давление и посулы, их не выдавали, самые разнообразные признаки и свидетельства указывали на их причастность к деятельности карбонариев; однако, к великому негодованию некоторых ультрароялистов, власти не считали возможным отдать вождей карбонаризма под суд, даже если их участие в заговорах, имевших своей целью свержение монархии, было очевидным, а в случае Лафайета еще и подтверждалось его собственным признанием. Времена Ришелье и Сен-Мара остались в прошлом.
Как же можно было в этих условиях запретить банкет, устраиваемый в честь Лафайета и его единомышленников? Как можно было запретить почтенным гражданам, в большинстве своем избирателям, одним словом, нотаблям, выразить этим людям свою признательность? Если администрация и вздумала бы запретить банкет или по крайней мере проявила снисходительность по отношению к тем людям, которые хотели силой помешать его проведению, тогда правительство могло навлечь на себя обвинения в попрании священнейшего права, гарантированного Хартией, а именно личной свободы. Правительство, осмелившееся запретить банкет нотаблей, – правительство тиранов, нарушившее основополагающий общественный договор; против такого правительства подданные имеют право восстать.
Одно происшествие, описанное, в частности, в «Истории двух Реставраций» Волабеля, в этом отношении крайне показательно[180]. Мы уже упоминали выше, что в связи с карбонаризмом следует вести речь не об эзотерическом тайном обществе, включающем в себя несколько сотен фанатичных заговорщиков, а о «подпольной либеральной партии», насчитывающей, по всей вероятности, десятки тысяч членов. Известно также, и это прекрасно сознавали современники, что карбонаризм никогда не был движением народным, но пополнялся в основном за счет буржуазии, юристов и адвокатов, негоциантов и приказчиков, студентов и мелких чиновников, а также низших чинов армии (четыре сержанта из Ла-Рошели). Это правило знало лишь одно исключение – мощное тайное общество под названием «Рыцари Свободы», которое возникло независимо от парижских карбонариев и действовало в среднем и нижнем течении Луары. В него входили представители местной мелкой и средней буржуазии (зачастую те, кто приобрел во время и после Революции конфискованную собственность эмигрантов), а также отставные солдаты, виноделы и луарские лодочники – публика по-настоящему народная. Поскольку некоторые из их лидеров постоянно сносились с парижскими эмиссарами, желавшими насадить в здешних краях карбонаризм, «Рыцари Свободы» все вместе присоединились к общенациональной организации и оказались причастны к самым серьезным заговорам весны 1822 года, в частности к неудавшемуся походу генерала Бертона на Сомюр. Так вот, эта революционная организация возникла из‐за запрещения банкета, а точнее, из‐за попытки его запретить осенью 1820 года. Лафайет и Бенжамен Констан, депутаты от Сарты, приехали повидать своих избирателей, а те устроили в их честь банкет. Затем Лафайет вернулся в столицу, а Бенжамен Констан принял приглашение посетить Сомюр. Как и в большинстве городов региона, буржуазия и простой народ в Сомюре были душою «патриоты»; они свято чтили наследие Революции и тревожились за его сохранность в регионе. Вдобавок именно в этот район после Ватерлоо и вступления во Францию иностранных войск отступили последние отряды французской армии (роялисты любезно именовали их «луарскими бандитами»). Белый террор сопровождался здесь особенно жестокими карами: вспомним хотя бы беззаконные аресты и приговоры в Люине, городе в полусотне километров от Сомюра вверх по течению Луары, – те самые, которые отважно разоблачил Поль-Луи Курье. Но Сомюр отличался от других маленьких городков «синего» Запада тем, что в нем располагалась знаменитая Кавалерийская школа, а в 1820 году в ней учились специально отобранные молодые люди роялистских убеждений. «Шумные, вздорные, пылкие сторонники Бурбонов, учащиеся школы по первому же сигналу, при первой же стычке выступали единым фронтом против местного населения». В течение всего лета здесь, почти как в столице, постоянно случались какие-то происшествия. Вот что пишет Волабель:
7 октября будущие кавалеристы узнали, что в город приехал Бенжамен Констан. ‹…› Вечером того же дня целая группа учащихся отправилась к дому, где он остановился, принялась швырять камни в окна, угрожать гостю и требовать, чтобы он немедленно покинул город. Разогнанные национальной гвардией (набранной из рядов буржуазии), учащиеся назавтра возвращаются толпой еще более многочисленной и пытаются помешать банкету; немедленно является национальная гвардия, которая считает своим долгом защищать участников банкета; учащиеся возобновляют крики и угрозы; начинается что-то вроде столкновения; учащиеся пускают в ход ружья, военные берутся за сабли; звучат выстрелы, сыплются удары, и вскоре в обоих лагерях появляются раненые. Лишь с огромным трудом генералу, командующему Школой, мэру и супрефекту, явившимся на поле боя, удалось разнять дерущихся. На следующий день, 9 октября, Бенжамен Констан покинул город и продолжил свой путь под охраной мощного отряда жандармерии.
Волабель заключает:
Банкет, послуживший причиной вышеописанных беспорядков, ускорил возникновение в тамошних краях тайного политического общества, к созданию которого давно призывал самых видных участников банкета полковой подлекарь Гранмениль, также один из его участников. Поговаривали, что у истоков этого общества стоял Бенжамен Констан – слух, совершенно ни на чем не основанный.
Бенжамен Констан в самом деле никогда не входил ни в какие тайные общества и, покидая город, выразил надежду, что страсти здесь утихнут, но тем не менее оставил за собой право сделать случившееся достоянием гласности. Между тем местные либералы были разочарованы: хотя некоторые из них смогли отобедать в обществе своего кумира, им пришлось отказаться от задуманного крупного мероприятия – обеда по подписке на 120 персон. В этом случае, с их точки зрения, городское начальство перешло предел дозволенного. Власть, которая весной того же года ограничила свободу печати и гарантии личной свободы граждан; власть, чьи адепты вознамерились помешать проведению банкета в честь такой почтенной особы, как Бенжамен Констан, – подобная власть сегодня безусловно неспособна защитить священнейшие права личности, а завтра, возможно, сделается деспотической. Легальных средств ей противостоять или по крайней мере выразить свое мнение больше не осталось; отныне переход к тайной и неузаконенной деятельности полностью оправдан.
Таким образом, ни один администратор не возьмет на себя смелость запретить банкет, если его задумали устроить нотабли любого города, большого или маленького. Он может лишь надеяться на то, что некоторые депутаты от оппозиции последуют примеру аббата де Прадта. Он, будучи в 1820 году проездом в Клермоне и выслушав серенаду, исполненную в его честь, «имел довольно ума, чтобы отказаться от банкета, который некая секта [самые пылкие либералы] желала устроить в его честь, и выехал в свое поместье близ Иссуара»[181]. Однако, как признавал в своем ответе префекту Изера министр внутренних дел: «Противиться устройству подобных банкетов значило бы навлечь на себя обвинения в произволе, а это, пожалуй, нежелательно; мудрая же политика состоит в следующем: отстранять от банкетов людей здравомыслящих и равнодушных, надзирать без шума, но пристально за ходом этих сборищ, узнавать в точности имена главных зачинщиков и пребывать в готовности ответить на происшествия более серьезные, которые могут напрямую нарушить общественное равновесие»[182]. Администратор может, а зачастую полагает даже, что обязан воздвигать как можно больше препятствий перед организаторами того, что рассматривается «как деяние если не враждебное государству, то во всяком случае оппозиционное по отношению к нему». Префект может помешать сдаче внаем театральной залы, если она находится в собственности города; если же она принадлежит частному лицу, можно намекнуть этому собственнику на все, чем тот рискует, сдав ее: многие влиятельные особы из местной элиты могут в отместку порвать с ним или выказать ему свое нерасположение. Префект может оказать давление на гостей, указав им на неприличие их поведения или на риск, которому они себя подвергают: ведь они попадут в весьма смешанное общество, окажутся рядом с особами куда более низкого состояния. Префект может также отказаться дать в распоряжение организаторов банкета нескольких жандармов или пожарных и предоставить комиссарам самостоятельно справляться со всеми проблемами. Наконец, он может рискнуть и, назначив прием в префектуре на тот же день, что и банкет, поставить нотаблей перед выбором: кто не с правительством, тот против него… Именно так поступил префект департамента Об осенью 1829 года; он пригласил гостей в префектуру в тот же вечер, когда местные либералы чествовали своего депутата Казимира Перье. Сколько можно судить, он был доволен успехом своей уловки, поскольку таким образом сумел отвратить от банкета оппозиции всех чиновников и даже, на что он поначалу не рассчитывал, основных членов суда и торговой палаты. Тем не менее банкет, как и в предыдущие годы, состоялся, причем в нем участвовали более ста шестидесяти подписчиков[183]. Как бы там ни было, очевидно, что если банкет, так же, например, как и серенаду, можно было запретить в публичном пространстве, то в случае, когда для банкета отводилось пространство частное, администрация не могла противиться его проведению; главное, чтобы нашлись нотабли независимые и решительные, готовые взять на себя инициативу и выполнить намеченное. Власти тем более не могли выступать против банкетов, что, напомним, и их участники, и их противники видели в банкетах прежде всего праздник. Но отнюдь не только праздник.
Цели банкетов
В предыдущей главе, где речь шла о банкетах компаньонов, представителей одного и того же ремесла или даже франкмасонов, мы показали связь, которая существовала в XIX веке между трапезой и формальными сообществами, подчиняющимися правилам порой гласным, но чаще всего негласным, сложившимся от века. В общем виде можно сказать, что ни одна ассоциация, ни одна корпорация не обходилась без своего ежегодного банкета. Остается выяснить, нельзя ли пойти дальше и исследовать природу отношений между таким точечным мероприятием, как банкет, и постоянно действующими политическими организациями – избирательными комитетами или либеральными ассоциациями, которые, возможно, также функционировали в этот плохо изученный период эпохи Реставрации.
Банкет как матрица политической ассоциации
В конце 1819 года королевское правительство, тем более встревоженное электоральными успехами независимых, что успехи вовсе не сопровождались отступлением ультрароялистов, и шокированное избранием в палату депутатов от департамента Изер аббата-расстриги Грегуара, бывшего члена Конвента и «цареубийцы», решило обратить внимание на ассоциацию, которая в ту пору считалась главным рассадником либерализма, а именно Общество друзей свободы печати. Довольно поздно обнаружив, что в него входит гораздо больше разрешенных двадцати человек и что члены его с большой регулярностью собираются в парижских квартирах кого-нибудь из его руководителей, министерство Деказа возбудило дело против двух таких гостеприимных хозяев, полковника Симона-Лоррьера и г-на Жеводана, за нарушение статьи 291 Уголовного кодекса. Разумеется, высокопоставленных участников никто трогать не стал: ни герцог де Брой (который, правда, за некоторое время до того отдалился от ассоциации), ни граф де Тиар, ни Лафайет, ни даже Манюэль, у которого общество собиралось с такой же регулярностью, привлечены к суду не были. 18 декабря 1819 года исправительный суд департамента Сена приговорил каждого из двух обвиняемых к штрафу в 200 франков и объявил общество распущенным[184].
Нетрудно догадаться, что газеты, близкие к «независимым», выразили протест сразу после объявления о начале судебного преследования и принялись искать юридические аргументы в защиту обвиняемых. Они стремились доказать, с одной стороны, что статья наполеоновского Уголовного кодекса была направлена прежде всего против религиозных сект (таких, например, как Малая Церковь[185]), а с другой – что переход от имперского деспотизма к конституционному режиму подразумевал непременную выработку нового, либерального закона об ассоциациях, подобно тому, как это было уже сделано в отношении прессы. Журналисты исходили из того, что молчаливая терпимость, с какой министерство в течение полутора лет взирало на практическое пользование свободой собраний, была равносильна негласному признанию его законности. Но особенно поразительно выглядит аргумент, выдвинутый одним из корреспондентов «Минервы». Почему, спрашивал он, королевский прокурор из Лувье не предъявляет обвинений также и организаторам банкета в честь трех независимых депутатов, только что, 31 октября 1819 года, состоявшегося в Ле-Нёбуре: разве не очевидно, что гостей, «которые все до единого принадлежали к числу местных нотаблей», было больше двадцати (в общей сложности сто семьдесят) и что собрались они в день, назначенный заблаговременно, чтобы обсудить предметы политические или иные? Другими словами, если можно устроить банкет, отчего же преследовать ассоциацию?[186]
Чтобы понять эту теснейшую, по всей видимости, связь между банкетом и политической ассоциацией, возвратимся на полтора года назад, на банкет в «Радуге». Вспомним тот пассаж, где Волабель кратко описывает этот банкет, а затем перейдем к описанию его контекста, каковым оказываются усилия либералов для создания собственной организации[187]:
В тот период Второй реставрации в Париже еще не устраивали заговоров в абсолютном смысле слова; там, правда, существовали два политических общества, одно тайное, другое публичное; второе не замедлило, во всяком случае в Париже, поглотить первое; однако члены его помышляли не столько о том, чтобы вступить в борьбу с Бурбонами, сколько о том, чтобы противостоять ретроградным устремлениям представителей этой династии и произволу их служителей.
Тайное общество «Союз» было основано в Гренобле в 1816 году адвокатом Жозефом Ре; когда Ре переехал в Париж, у общества появились адепты и в столице, однако они «по большей части искали таинственности лишь из осторожности и робости», а «осмотрительность и робость тормозили развитие общества; члены его оставались немногочисленны, а их старания, носившие, можно сказать, индивидуальный характер, не приносили никаких серьезных результатов; между тем публичная ассоциация, созданная в Париже приблизительно на год позже, чем „Союз“ в Гренобле, внезапно сделалась так влиятельна, что смогла оказать значительное воздействие на политическое движение двух следующих лет». Речь идет об обществе, основанном осенью 1817 года группой из двух десятков человек (включая, разумеется, Лафайета и Бенжамена Констана, но также и двух пэров Франции, де Броя и Дестюта де Траси, и двух депутатов, Вуайе д’Аржансона и Лаффита), чтобы, во-первых, добиться отмены законов о печати, а во-вторых, предоставлять денежную помощь журналистам, находящимся под следствием или осужденным. Но своего полного развития общество это достигло лишь после того, как устроило обед в «Радуге» в честь депутатов, «которые в течение прошедшей сессии наиболее пылко отстаивали свободу печати»: как пишет Волабель, «после этого первоначального толчка ассоциация сделалась весьма многочисленной и стала действовать регулярно под именем Общества друзей свободы печати. В нее не побоялись вступить не только члены парижского „Союза“, но даже люди самые пугливые, пэры, депутаты, должностные лица».
Теперь мы можем лучше понять, отчего для либералов тосты имели лишь относительную важность: главным для них была возможность под прикрытием банкета, этого дозволенного проявления либеральной общежительности, заложить фундамент регулярной политической организации. Обед в «Радуге» стал для Общества друзей свободы печати эквивалентом того, чем для современной политической партии становится учредительный съезд. В течение примерно полутора лет правительство позволяло обществу существовать беспрепятственно, и в этот период у «друзей свободы печати» не было необходимости устраивать банкет, поскольку они в определенные заранее дни собирались в доме одного из членов общества, куда являлись по письменному приглашению. Министерство, которое прекрасно знало о существовании общества и более того, как изящно выражается Волабель, «отправляло на эти собрания своих агентов и даже стенографов», не решалось подвергнуть его преследованию и распустить до тех пор, пока не порвало с «независимыми». Семь недель спустя состоялся, как мы знаем, второй большой политический парижский банкет – тот, что прошел в бывшем цирке на улице Горы Фавор. Итак, хотя известно, что 5 февраля 1820 года гости собрались для того, чтобы отпраздновать годовщину принятия закона Лене и выразить протест против нависших над ним угроз, можно предположить, что цели их этим не ограничивались. Организаторы, собравшие около тысячи подписчиков, желали, по всей вероятности, также выразить молчаливый протест против роспуска Общества друзей свободы печати и в каком-то смысле заново учредить либеральную партию на более широкой основе: если в распущенном обществе состояло не более четырех сотен членов, скорее всего исключительно парижан, то в число тысячи гостей, собравшихся на банкет, входили, по свидетельству «Конституционной», «многие избиратели или имеющие право быть избранными из Парижа, его окрестностей и различных городов Франции»[188]. Ибо хотя ассоциация запрещена, банкет все равно может состояться, а между тем банкет этот, в сущности, – не что иное, как квазиассоциация.